Глава I. Ханс и Гретель

Много лет назад в одно ясное декабрьское утро двое бедно одетых ребят стояли, пригнувшись к земле, на берегу одного замерзшего канала в Голландии.
Солнце еще не взошло, но серая пелена на горизонте уже разорвалась, и ее края зарумянились, озаренные малиновым светом наступающего дня. Почти все добрые голландцы покоились в мирном утреннем сне; даже мейнхеер ван Стоппельнозе, этот достойный старый голландец, все еще дремал в сладостном забытьи.
По каналу, покрытому гладким, как стекло, льдом, время от времени пробегали на коньках люди: то крестьянка с туго набитой корзиной на голове, то бойкий юноша, который спешил в город на работу и, проносясь мимо дрожавших от холода ребят, строил им добродушную гримасу.
Между тем брат и сестра — они были братом и сестрой, — пыхтя и напрягаясь, привязывали себе что—то к ногам — не коньки, конечно, нет, — а просто деревянные полозья, грубо обточенные и стесанные книзу, с дырками, через которые были продернуты ремешки из сыромятной кожи.
Диковинные «коньки» сделал себе и сестре Ханс — так звали мальчика. Его мать была бедная крестьянка, такая бедная, что она и подумать не могла о покупке настоящих коньков для своих детей. Но, как ни грубы были эти полозья, они дали возможность детям провести много веселых часов на льду; а сейчас, когда, стараясь надеть их, наши юные голландцы изо всех сил дергали за ремешки застывшими красными пальцами и так согнулись, что чуть не касались коленей сосредоточенными лицами, никакие несбыточные мечты о стальных лезвиях не омрачали их радости.
Но вот мальчик выпрямился и, широко раскинув руки, легко заскользил по льду, пересекая канал.
— За мной, Гретель! — небрежно бросил он девочке.
— Слушай, Ханс, — жалобно крикнула ему сестра, — с этой ногой опять неладно! В прошлый базарный день ремешки натерли мне ногу; а сейчас больно, когда стягиваешь ее в том же месте.
— Так подвяжи их повыше, — ответил Ханс, не глядя на сестру и выписывая на льду великолепную восьмерку.
— А как? Ремешок—то короткий!
Ханс был голландцем, поэтому он только добродушно свистнул (мальчик—англичанин сказал бы, что девчонки вечно надоедают) и вернулся к сестре.
— И зачем ты надела эти башмаки, глупенькая? У тебя есть кожаные, почти неношеные. Твои деревянные и то лучше этих.
— Что ты, Ханс! Или ты забыл? Ведь отец бросил в огонь мои хорошие новые башмаки, прямо в горящий торф. Не успела я оглянуться, как они уже совсем скорежились. В этих я еще могу кататься на коньках, а в деревянных нет. Ну, подвязывай, только осторожней…
Ханс вынул из кармана ремешок; что—то напевая, он стал на колени рядом с Гретель и принялся подвязывать ее «конек», затягивая ремень со всей силой своих крепких молодых рук.
— Ой—ой! — крикнула девочка: ей было очень больно. Ханс нетерпеливо дернул за ремешок и развязал его. Он швырнул бы его на землю — по примеру многих старших братьев, — если бы не заметил слезинки, катившейся по щеке сестры.
— Я все налажу… не бойся, — сказал он с внезапно вспыхнувшей нежностью. — Только нам мешкать нельзя — ведь нас мама ждет.
Он огляделся, словно ища чего—то: сначала взглянул на землю, потом на голые ветви ивы у себя над головой и наконец на небо, теперь ярко расцвеченное голубыми, малиновыми и золотистыми полосами.
Нигде не было того, что он искал. Но вдруг мальчика осенило, и глаза его загорелись. Он сорвал с себя шапку и, выдрав рваную подкладку, прикрепил ее к носку изношенного башмака Гретель так, чтобы получилось что—то вроде мягкой подушечки.
— Ну, — торжествующе воскликнул он, завязывая ремешки со всей быстротой, на какую были способны его окоченевшие пальцы, — вытерпишь, если я еще немножко затяну?
Гретель надула губки, словно желая сказать: «Ладно уж, можешь делать мне больно», — но ничего не ответила.
Спустя секунду они, смеясь, летели по каналу, взявшись за руки и не думая о том, провалится под ними лед или нет: ведь в Голландии лед держится всю зиму. Он с решительным видом располагается на канале и, вместо того чтобы таять и худеть всякий раз, как солнце греет его довольно жестоко, день за днем набирается сил и вызывающе сверкает навстречу каждому лучу.
Но вот под ногами у Ханса что—то затрещало. Он укорачивал шаг, спотыкался и наконец растянулся на льду, дрыгая ногами.
— Ха—ха—ха! — расхохоталась Гретель. — Вот так шлепнулся!
Но под ее грубой синей кофтой билось нежное сердце, и, все еще смеясь, она легко подлетела к лежавшему навзничь брату.
— Ты ушибся, Ханс?.. Э, да ты смеешься! Ну—ка, поймай меня! — И она умчалась.
Она больше не дрожала от холода, щеки ее горели, глаза искрились весельем.
Ханс вскочил на ноги и пустился вдогонку, хотя поймать Гретель было не так—то легко. Однако не успела она далеко откатиться, как ее «коньки» тоже затрещали, Вспомнив, что порой уступка — залог победы, девочка внезапно повернулась и покатилась прямо в объятия своего преследователя.
— Ха—ха—ха! Поймал! — крикнул Ханс.
— Ха—ха—ха! Это я поймала тебя! — возразила Гретель, стараясь вырваться из его рук.
В эту минуту послышался ясный, звонкий голос:
— Ханс! Гретель!
— Мама зовет, — сказал Ханс, и лицо его сделалось серьезным.
Канал весь золотился в солнечном свете. Хорошо было дышать чистым утренним воздухом, и конькобежцы все прибывали.
Гретель и Хансу не хотелось уходить с канала, но они были хорошими детьми: им и в голову не пришло поддаться искушению и задержаться еще немного. Они стащили с себя деревянные коньки, не развязав и половины узлов на ремешках.
Домой они шли не спеша. Ханс, широкоплечий, с копной белокурых волос, был на голову выше своей голубоглазой сестренки: ведь ему исполнилось пятнадцать лет, а Гретель — только двенадцать. Он был сильный, крепкий мальчик, с ясными глазами, а на лбу его, казалось, было написано: «Внутри все хорошо», подобно тому как над входом в каждый маленький голландский зомерхейс обычно написано какое—нибудь изречение. Гретель была гибка и быстра; в ее глазах плясали искорки, а если кто—нибудь смотрел на нее, румянец на ее щеках то бледнел, то густел. Так, когда дует ветер, клумба розовых и белых цветов кажется то ярко-, то бледно—алой.
Едва отойдя от канала, дети увидели небольшой домик — свой родной дом. Их мать, высокая, в кофте, юбке и плотно прилегающем чепчике, стояла на пороге, напоминая портрет в покосившейся дверной раме. До их домика было недалеко, но, будь он даже на расстоянии мили, он все равно казался бы близким. В этой плоской стране все предметы ясно видны издалека. Цыпленка можно разглядеть так же хорошо, как ветряную мельницу. Если бы не плотины и высокие берега каналов, можно было бы стать где угодно в самой середине Голландии и нигде до самого горизонта не увидеть ни холма, ни пригорка.
Никто не знал этих плотин лучше тетушки Бринкер и запыхавшихся ребят, бежавших на ее зов. Но, прежде чем рассказать, почему это так, позвольте мне прокатиться с вами в кресле—качалке в эту далекую страну, где вы, быть может, впервые увидите кое—какие любопытные вещи, на которые Ханс и Гретель смотрели каждый день.
Глава II. Голландия
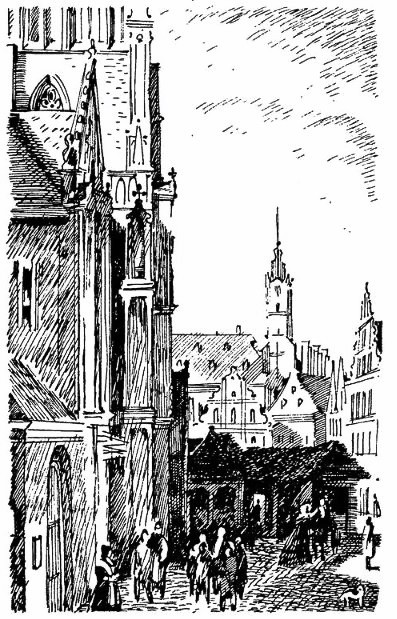
Голландия — одна из самых удивительных стран на свете. Ее следовало бы назвать «Землей странностей» или «Страной противоречий», так как она почти во всех отношениях отличается от других стран. Большая часть Голландии лежит ниже уровня моря. Здесь с большими затратами денег и труда построены огромные плотины и молы, чтобы удерживать океан там, где ему надлежит быть. В некоторых местах побережья океан напирает всей своей тяжестью на сушу, и бедная земля еле—еле выдерживает его напор. Временами плотины прорывает или они дают течь, и это влечет за собой гибельные последствия.
Плотины высоки и широки: кое—где на них стоят здания и растут деревья. Больше того — на плотинах проложены отличные дороги, с которых лошади могут смотреть вниз на придорожные домики. За плотинами по воде плывут корабли, и так как уровень ее зачастую выше уровня земли, то их кили движутся на такой высоте, до какой не достигают кровли жилищ, стоящих в низинах. Аист, болтающий со своими птенцами на шпиле дома, быть может, считает, что, раз гнездо его свито так высоко, значит, ему не грозит никакая опасность; но лягушка, квакающая в соседних камышах, ближе к звездам, чем этот аист. Водяные насекомые снуют взад и вперед выше ласточек, гнездящихся в дымовых трубах, а плакучие ивы никнут, словно стыдясь, что не могут дорасти до ближних тростников.
Повсюду здесь встречаются рвы, заполненные водой, каналы, пруды, реки и озера. Выплеснутые морем на сушу, да так и не высохшие, они служат средоточием всей людской деятельности и сверкают под солнцем, презирая тихие сырые поля, расстилающиеся рядом с ними. Хочется спросить себя: «Что же такое Голландия — берега или воды?» Ведь даже зелень, которой, казалось бы, предназначено расти на суше, тут как будто ошиблась и расположилась на рыбных прудах. В сущности, вся страна — нечто вроде насыщенной водой губки или, как сказал о ней английский поэт Батлер:
Страна на якоре, вокруг нее вода;
В ней не живут — плывут, как на судах.
Люди родятся, живут, умирают и даже разводят сады на кораблях, плывущих по каналам.
Крыши на фермах напоминают громадные обвисшие шляпы, надвинутые домам на глаза, а дома стоят на деревянных ногах, как бы подоткнув юбки и говоря: «Постараемся остаться сухими». Даже лошади носят на каждом копыте по широкой скамеечке, чтобы легче было вытаскивать ноги из трясины. Короче говоря, Голландия — сплошной утиный рай. Летом это чудесная страна для босоногих мальчишек и девчонок. Как хорошо тут шлепать по воде и пускать игрушечные кораблики! Как хорошо грести, ловить рыбу, плавать! Только представьте себе целую цепь луж, по которым можно весь день напролет пускать щепки—суденышки, ни разу не поворачивая назад! Но довольно! Расскажи я обо всем подробно, мои читатели толпой помчатся на Зейдер—Зее.
Голландские города на первый взгляд кажутся какой—то диковинной чащей, в которой растут дома, мосты, церкви и корабли, пуская побеги в виде мачт, колоколен и деревьев. В некоторых городах лодки подводят к дому их хозяина и, как лошадей, привязывают к дверному косяку; груз на них спускают из окон верхнего этажа. Матери кричат Лодвейку и Касси: «Не раскачивайтесь на садовой калитке! Чего доброго, утонете!»
Водные дороги встречаются тут чаще, чем грунтовые и железные; водные ограды в виде канав со стоячей зеленой водой окружают площадки для игр, низменные поля и сады.
Кое—где зеленеют красивые живые изгороди; но деревянные заборы, которых так много у нас в Америке, редко встречаются в Нидерландах. О каменных оградах и говорить нечего: голландец в изумлении воздел бы руки к небу, предложи ему кто—нибудь построить такую ограду. Здесь нет камня, если не считать огромных глыб, привезенных из других стран для укрепления и защиты побережья. Все маленькие камни и голыши — если только они здесь когда—нибудь были — заключены в тюрьму мостовой или рассыпались в прах. Мальчики с ловкими, сильными руками за всю свою жизнь не находят ни одного камня, чтобы пустить его по воде или вспугнуть им кролика.
Водные пути — иначе говоря, каналы — пересекают страну во всех направлениях. Каких—каких только каналов здесь нет, начиная от огромного Северо—Голландского судоходного канала (а он одно из чудес света) и кончая такими узкими канальчиками, что и мальчик может их перепрыгнуть. Водные омнибусы, так называемые «трексхейты» постоянно ходят с пассажирами вверх и вниз по этим дорогам, а водные повозки, «паксхейты», перевозят топливо и товары. Вместо заросших травой зеленых тропинок от поля к амбару и от амбара к саду тянутся каналы с зеленой водой, а поля, или «полдеры», как их здесь называют, — это просто большие озера, из которых вся вода выкачана досуха. В городах иные самые оживленные улицы представляют собой канавы, заполненные водой, тогда как многие деревенские дороги вымощены кирпичом.
Городские лодки с округлой кормой, позолоченным носом и ярко раскрашенным корпусом не похожи ни на одно судно в мире, а голландская повозка с ее причудливо изогнутым маленьким дышлом — настоящее чудо из чудес. «Одно ясно, — воскликнет наивный оптимист: — тамошние жители никогда не испытывают жажды!» Но нет. «Страна противоречий» все—таки верна себе. Несмотря на море, что вечно пытается в нее хлынуть, и на озера, что вечно пытаются с нее схлынуть, несмотря на переливающиеся через край каналы, реки и канавы, во многих округах нет воды, годной для питья. Бедным голландцам приходится или чахнуть от жажды, или пить вино и пиво, или же посылать далеко в глубь страны, в Утрехт и другие счастливые местности, за этой драгоценной влагой, более древней, чем Адам, и все же юной, как утренняя роса. Время от времени жителям, конечно, случается глотнуть дождевой воды, если только удается собрать ее, но обычно они, как преследуемые альбатросом моряки в знаменитой поэме Колриджа «Старый моряк», видят только, что:
Вода, вода со всех сторон —
Ни капли для питья!
Огромные, хлопающие крыльями ветряные мельницы разбросаны по всей стране; кажется, будто на нее только что опустились несметные стаи морских птиц. Повсюду видишь диковинные деревья, причудливо подстриженные, со стволами, выкрашенными в ослепительно белую, желтую или красную краску. Лошадей нередко запрягают по три в ряд. Мужчины, женщины и дети ходят, постукивая деревянными башмаками с отстающим каблуком. Если у деревенской девушки нет кавалера, желающего сопровождать ее на «кермис» (ярмарку), она нанимает себе спутника за деньги, а супруги полюбовно впрягаются рядышком в свои паксхейты и сами тянут их на рынок по берегу канала.
Другая отличительная особенность Нидерландов — дюны; иначе говоря — песчаные гряды. Кое—где на побережье их очень много. В старину, до того как дюны засеяли жесткой осокой и другими растениями, чтобы помешать им осыпаться, они насылали грозные песчаные бури на внутреннюю часть страны. Таким образом, вдобавок к прочим странностям можно отметить, что фермерам иногда приходится снимать верхний слой земли, чтобы докопаться до плодородной почвы, а в ветреные дни сухие песчаные ливни нередко сыплются на поля, которые остаются сырыми даже после целой недели солнечной погоды.
С другой стороны, многие странности Голландии служат доказательством бережливости и упорного трудолюбия ее народа. Во всем мире нет более богатого, тщательно возделанного сада, чем эта сырая, изобилующая влагой маленькая страна, и нет более храброго, более героического народа, чем ее спокойное, с виду пассивное население. Лишь немногие страны соперничают с Голландией в области важных открытий и изобретений; ни одна не превзошла ее в области торговли, мореходства, образования и науки, не сделала столько благородных усилий для развития просвещения и общественной благотворительности; ни одна, сравнительно с размерами своей площади, не потратила столько денег и труда на общественные работы.
Голландия может гордиться своими благородными и славными сынами и дочерьми; она может гордиться своими великими историческими подвигами терпения и сопротивления, своими победами, веротерпимостью, просвещенной предприимчивостью, своим искусством, музыкой и литературой. Правильно ее называют «европейским полем битвы», и столь же правильно ее можно назвать «всемирным убежищем», ибо те, кого угнетают на родине, находят здесь приют и помощь.
Если мы, американцы, посмеиваемся над голландцами — хоть многие из нас являются их потомками — и называем их «людьми—бобрами», уверяя, что их страна в один прекрасный день уплывет в море во время отлива, мы вместе с тем гордимся ими, зная, что они показали себя героями и что их страна, конечно, ни в коем случае не уплывет, пока останется хоть один голландец, чтобы удержать ее своими руками.
Говорят, что в Голландии около десяти тысяч больших ветряных мельниц с крыльями от восьмидесяти до ста двадцати футов длиной. Они пилят лес, молотят коноплю, мелют зерно и выполняют множество других работ; но главная их задача — откачивать воду из низменностей в каналы и предотвращать наводнения, вызванные разливом рек во внутренней части страны. Большие мельницы очень мощны. На огромной круглой башне такой мельницы, порой возвышающейся над фабричными строениями, стоит другая, меньшая по размерам; она суживается кверху, и крыша ее похожа на колпак. Верхняя башня у основания окружена балконом, а над ним выступает ось, которую вращают четыре огромных крыла с лестницами, прикрепленными к тыльной стороне. Многие ветряные мельницы построены очень примитивно, так что не худо бы их усовершенствовать, но среди новых есть замечательные. Они снабжены одним остроумным приспособлением и сами подставляют ветру свои веера, иначе говоря — крылья, под таким уклоном, который дает им возможность работать с требуемой мощностью. Иными словами, мельник может спокойно вздремнуть, уверенный, что его мельница, сама приноровившись к ветру, использует его целиком, пока ее хозяин спит. При малейшем токе воздуха каждое крыло распластается, чтобы поймать легчайшее дуновение; но, если налетит сильный вихрь, крылья сожмутся от его прикосновения, как сжимаются листья мимозы, и помешают ему вертеть их с полной силой.
В одной из старинных амстердамских тюрем, прозванной «Скоблильня», потому что заключенных в ней воров и бродяг заставляли скоблить бревна, был карцер, в который сажали ленивых арестантов. В одном углу этого карцера стоял насос, а в другом было отверстие, через которое в помещение непрерывно лилась вода. Заключенному оставалось только или стоять, ничего не делая, и утонуть, или работать изо всех сил, выкачивая воду насосом, пока тюремщик не смилостивится и не сменит его. Можно, однако, сказать, что природа предоставила это развлечение всей Голландии, но в большом масштабе. Голландцы всегда были вынуждены выкачивать воду, чтобы сохранить самое свое существование, и, вероятно, им придется заниматься этим до скончания веков.
Громадные суммы денег тратятся тут ежегодно на исправление плотин и регулирование уровня воды; а если бы этими важными делами перестали заниматься, Голландия превратилась бы в необитаемую страну. Как уже было сказано, прорывы плотин приводили к страшным последствиям. Не раз сотни деревень и городов во время этих наводнений заливало стремительными потоками воды, и погибло около миллиона человек.
Одно из самых катастрофических наводнений произошло осенью 1570 года. До него было двадцать восемь страшных паводков, частично затоплявших Нидерланды, но этот был самым страшным из всех.
Перед тем несчастная страна долго страдала под игом испанской тирании; теперь ее муки, казалось, достигли предела. Читая «Историю возвышения Голландской республики», написанную Мотли, мы учимся уважать храбрый голландский народ, который так много терпел, страдал и дерзал.
В своем потрясающем описании этого потопа Мотли рассказывает нам о том, как длительный и яростный шторм погнал воды Атлантического океана в Северное море и бросил их на побережье голландских провинций; как повсюду размыло плотины, не выдержавшие непосильной нагрузки; как даже «Ханд—бос», мол, построенный из дубовых свай, окованный железом, укрепленный тяжелыми якорями и защищенный гравием и гранитом, прорвало в мгновение ока; как рыбачьи лодки и большие суда понесло с моря на залитую водой землю, где они застревали в рощах или бились о стены и крыши домов, и как, наконец, вся Фрисландия превратилась в свирепствующее море. «Толпы мужчин, женщин и детей, множество лошадей, быков, овец и других домашних животных повсюду боролись с волнами. Люди жадно хватались за каждую лодку, за каждый предмет, способный заменить лодку. Все дома были затоплены, и даже мертвецы на кладбище выброшены из могил. Живое дитя в колыбели и давно погребенный труп в гробу плыли рядом. Казалось, снова начался древний потоп. Повсюду на верхушках деревьев, на церковных колокольнях кучками теснились люди, моля бога о милосердии, а своих близких — о помощи. Как только шторм начал ослабевать, по всем направлениям засновали люди в лодках, спасая тех, кто в воде боролся за свою жизнь, снимая утопающих с крыш и деревьев и подбирая трупы уже утонувших». За несколько часов погибло не менее ста тысяч человек. Тысячи и тысячи бессловесных мертвых животных плыли по воде, а ущерб, нанесенный всякого рода имуществу, не поддавался учету.
Испанский губернатор Роблес оказался в первом ряду тех, кто самоотверженно старался спасти людям жизнь и умалить ужасы катастрофы. Раньше голландцы ненавидели его, так как он был испанцем или португальцем, а значит, представителем чужеземных захватчиков, но, когда пришла беда, он своей добротой и деятельностью заслужил всеобщую благодарность. Вскоре он ввел усовершенствованный метод постройки плотин и издал закон, обязывающий землевладельцев поддерживать заградительные сооружения. С тех пор большие паводки случались реже; однако за триста лет без малого все—таки было шесть разрушительных наводнений. Весной, особенно во время таяния снега, большую опасность представляют озера и реки. Загроможденные глыбами льда, они выходят из берегов, не успев перелить в океан свои быстро поднимающиеся воды. Если вдобавок к этому вспомнить, как бушует море, напирая на плотины, нечего удивляться, что Голландию зачастую охватывает тревога. Тогда делают все, что возможно, для предотвращения катастрофы. Инженеры и рабочие стоят на всех угрожаемых участках, и бдительное дежурство не прекращается круглые сутки. Услышав сигнал об опасности, все жители бросаются на помощь, сплотившись для борьбы против общего врага. Во всем мире считают, что «Соломой разлив не запрудишь», а в Голландии она—то как раз и служит главной опорой в борьбе со стремительными потоками. Дамбы обкладывают огромными соломенными матами, скрепляя их глиной и тяжелыми камнями, и тогда океан тщетно бьется о них.
Рафф Бринкер, отец Гретель и Ханса, много лет работал на плотинах. Однажды, когда угрожало наводнение и люди укрепляли ненадежную плотину близ Веермейкского шлюза, при страшном шторме, во мраке, под дождем и снегом, Бринкер упал с подмостков и потерял сознание. Его принесли домой, и с тех пор он уже не работал; хоть он и остался жив, но потерял разум и память.
Гретель помнила его только таким, каким он был теперь, — странным безмолвным человеком, чей пустой взгляд следовал за нею, куда бы она ни повернулась. А Ханс — тот вспоминал, каким жизнерадостным человеком был когда—то его отец, каким веселым голосом он говорил; как, бывало, без устали носил сынишку на плече. И, когда мальчик ночью лежал без сна, ему чудилось, будто где—то близко звучит отцовская беззаботная песня.
Глава III. Серебряные коньки
Тетушка Бринкер зарабатывала на содержание семьи выращиванием овощей, пряжей и вязаньем и еле—еле сводила концы с концами. Было время, когда она работала на баржах, сновавших вверх и вниз по каналу, и порой вместе с другими женщинами впрягалась в лямку и тянула буксирный канат паксхейта, ходившего между Бруком и Амстердамом. Но, когда Ханс вырос и окреп, он настоял на своем и взял на себя эту тяжелую работу. Кроме того, в последнее время муж тетушки Бринкер сделался таким беспомощным, что ей постоянно приходилось заботиться о нем. Хотя разума у него осталось меньше, чем у маленького ребенка, он по—прежнему был очень силен и крепок, и тетушке Бринкер нередко бывало трудно справляться с ним.
«Ах, детки, он был такой добрый и работящий! — говорила она иногда. — А умный—то какой! Не хуже адвоката. Сам бургомистр и тот иной раз останавливался, чтобы спросить его о чем—нибудь. А теперь — горе мне! — он не узнает своей жены и ребят. Ты помнишь отца, Ханс, когда он был самим собой, таким сильным и славным? Помнишь ведь?»
«Еще бы не помнить, мама! Он знал все и умел делать все на свете… А как он пел! Ты, бывало, смеялась и говорила, что от его песни даже ветряные мельницы и запляшут».
«Верно, говорила. Что за память у этого мальчика!.. Гретель, дочка, отними у отца вязальную спицу, да поскорее — он, того и гляди, выколет себе глаз, — и надень на него башмак. Ноги у него, бедного, то и дело застывают: холодные как лед. Я, как ни стараюсь, никак не могу уследить, чтобы он всегда был обут».
И, не то причитая, не то напевая что—то про себя, тетушка Бринкер усаживалась, и в низеньких комнатках раздавалось жужжание ее прялки.
Почти всю работу и на огороде и в доме выполняли Ханс и Гретель. Каждый год летом дети изо дня в день ходили копать торф и складывали его кирпичиками, запасая топливо. В другое время, если не было домашней работы, Ханс правил лошадьми, тянувшими буксир на канале (так он зарабатывал по нескольку стейверов в день), а Гретель пасла гусей у соседних фермеров.
Ханс мастерски резал по дереву и, так же как Гретель, умел хорошо работать в саду и на огороде. Гретель пела, шила и бегала на высоких самодельных ходулях лучше любой девочки во всей округе. Она в пять минут могла выучить народную песню, отыскать любую травку или цветок, как только они появлялись, но книг она побаивалась, и частенько один вид черной доски в их старой школе вызывал у нее слезы. Ханс, напротив, был медлителен и упорен. Чем труднее было задание, полученное им в школе или дома, тем больше оно ему нравилось. Бывало, что мальчики смеялись после уроков над его заплатанной одеждой и не по росту короткими кожаными штанами, но им приходилось уступать ему почетное место чуть ли не в каждом классе. Вскоре он оказался единственным во всей школе учеником, который ни разу не стоял в «страшном углу» — там, где висел некий грозный хлыст, а над ним была начертана надпись: «Учись! Учись, лентяй, не то тебя проучит линек!»
Ханс и Гретель могли ходить в школу только зимой, так как все остальное время они работали; но в эту зиму они весь последний месяц пропускали занятия, потому что им приходилось помогать матери. Рафф Бринкер требовал постоянного ухода; надо было печь черный хлеб, содержать дом в чистоте, вязать чулки и другие изделия и продавать их на рынке.
Пока они в это холодное декабрьское утро усердно помогали матери, веселая толпа девочек и мальчиков, среди которых были отличные конькобежцы, скользила по каналу. Когда они, ярко и пестро одетые, летели мимо, казалось, будто лед внезапно растаял и клумбы разноцветных тюльпанов плывут по течению.

Тут каталась дочь богатого бургомистра Хильда ван Глек в дорогих мехах и широком бархатном пальто, а рядом с нею бежала хорошенькая крестьянская девочка Анни Боуман, в теплой ярко—красной кофте и голубой юбке, такой короткой, что серые чулки домашней вязки были видны во всей своей красе. Каталась тут и гордая Рихи Корбес, чей отец, мейнхеер ван Корбес, считался одним из виднейших граждан Амстердама. А вокруг нее теснились Карл Схуммель, Питер и Людвиг ван Хольп, Якоб Поот и один очень маленький мальчик с длиннейшим именем: Воостенвальберт Схиммельпеннинк. В толпе было еще десятка два других мальчиков и девочек, и все они резвились и веселились от всей души.
Они бежали с полмили вниз по каналу, потом катились обратно и неслись во всю мочь. Порой быстрейший из них разворачивался прямо под носом у какого—нибудь важного законодателя или доктора, не спеша скользившего в город, скрестив руки, а порой целая цепь девочек внезапно разрывалась при появлении толстого старого бургомистра, который, пыхтя, направлялся в Амстердам, держа наперевес свою палку с золотым набалдашником. Бургомистр катился на чудесных коньках с превосходными ремешками и сверкающими лезвиями, которые загибались над подъемом ноги, заканчиваясь позолоченными шариками; он только чуть—чуть приоткрывал свои заплывшие жиром глазки, и, если одна из девочек делала ему реверанс, он не решался ответить поклоном из боязни потерять равновесие.

Не одни лишь гуляющие да знатные господа были на канале. Тут встречались рабочие с усталыми глазами, спешащие в мастерские и на фабрики; базарные торговки с поклажей на голове; разносчики, согнувшиеся под своими тюками; лодочники с растрепанными волосами и обветренными лицами, пробирающиеся вперед, грубо толкаясь; священники с ласковыми глазами, быть может спешащие к ложу умирающих; а немного погодя появились дети с сумками за плечами, бегущие во всю прыть к стоящей поодаль школе. Все до единого были на коньках, кроме того закутанного фермера, чья затейливая повозка тряслась по берегу у самого канала.
Вскоре наши веселые мальчики и девочки почти затерялись в этой пестревшей яркими красками, непрестанно движущейся толпе конькобежцев, чьи коньки сверкали, отражая солнечный свет. Мы, пожалуй, и не узнали бы ничего больше об этих детях, если бы они вдруг не остановились как вкопанные и, сгрудившись в стороне, не заговорили все сразу с одной хорошенькой девочкой, которую вытащили из людского потока, стремящегося в город.

— Эй, Катринка, — закричали они в один голос, — ты слышала? Будут состязания… Ты непременно должна участвовать!
— Какие состязания? — со смехом спросила Катринка. — Пожалуйста, не говорите все разом — ничего нельзя понять.
Ребята запнулись и устремили глаза на Рихи Корбес, которая обычно говорила от лица всех.
— Слушай, — сказала Рихи, — двадцатого, в день рождения мевроу ван Глек, состоятся большие конькобежные состязания. Все это затеяла Хильда. Лучшему конькобежцу дадут великолепный приз.
— Да, — подхватило несколько голосов, — пару чудесных серебряных коньков, прямо восхитительных! С такими замечательными ремешками! Да—да, и с серебряными колокольчиками и пряжками!
— Кто сказал, что с колокольчиками? — послышался слабый голосок мальчика с длинным именем.
— Я так говорю, господин Воост, — ответила Рихи.
— Так оно и есть…
— Нет, я наверное знаю, что без колокольчиков!
— Ну что ты глупости болтаешь!
— Да нет же, они со стрелами…
— А мейнхеер ван Корбес сказал моей маме, что с колокольчиками, — раздавалось со всех сторон из уст возбужденной детворы.
Тут мейнхеер Воостенвальберт Схиммельпеннинк сделал попытку окончательно разрешить все споры:
— Нет, никто из вас ничегошеньки не знает! Никаких колокольчиков на них не будет, они…
— О! О! — И хор противоположных мнений зазвучал снова.
— На коньках для девочек будут колокольчики, — спокойно вмешалась Хильда, — а для мальчиков предназначена другая пара, и на ней сбоку выгравированы стрелы.
— Вот видишь!.. А я что говорил! — наперебой закричали чуть ли не все ребята.
Катринка смотрела на них, сбитая с толку.
— Кто же будет состязаться? — спросила она.
— Все мы, — ответила Рихи. — То—то будет весело! И ты тоже, Катринка, обязательно! А сейчас пора в школу, поговорим обо всем этом на большой перемене. И ты, конечно, будешь участвовать вместе с нами?
Катринка не ответила, но, сделав грациозный пируэт и кокетливо бросив: «Слышите? Последний звонок. Догоняйте!» — со смехом понеслась к школе, стоявшей в полумиле на берегу канала.
Все беспорядочной толпой пустились за нею вдогонку. Но тщетно пытались они догнать ясноглазую хохочущую девочку. Она неслась вперед, то и дело оглядываясь, и глаза ее сияли торжеством, а распущенные волосы золотились на солнце.
Прелестная Катринка! Пышущая здоровьем и юностью, воплощенная жизнь, веселье и движение! Не мудрено, что этой ночью твой образ, всегда уносящийся вперед, промелькнул в сновидениях одного мальчика. Не мудрено, что много лет спустя, когда ты унеслась от него навсегда, час этот показался ему самым мрачным в его жизни.
Глава IV. Ханс и Гретель находят друга
В полдень наши юные друзья толпой хлынули из школы, чтобы потренироваться часок на канале.
Они катались всего несколько минут, как вдруг Карл Схуммель сказал Хильде с усмешкой:
— Смотри, хорошенькая парочка появилась там, на льду! Вот оборванцы! Не иначе, как сам король подарил им эти «коньки».
— Они упорные ребята, — мягко проговорила Хильда. — Должно быть, трудно было выучиться бегать на таких нелепых обрубках. Ты знаешь, они ведь очень бедные крестьяне. Мальчик, наверное, сам сделал себе коньки.
Карл слегка смутился:
— Ты говоришь, они упорные… Может быть… Но посмотри, как они бегают! Только разбегутся, как уже спотыкаются. Помнишь ту пьесу staccato, которую ты недавно разучила? Им бы под эту музыку кататься!
Хильда весело рассмеялась и отбежала прочь. Догнав небольшую группу конькобежцев и промчавшись мимо, она остановилась возле Гретель, жадными глазами смотревшей на веселье.
— Как тебя зовут, девочка?
— Гретель, юфроу — ответила та, слегка робея. Они были почти ровесницы, но ведь Хильда родилась в богатой семье. — А моего брата зовут Хансом.
— Ханс — крепкий малый! — проговорила Хильда весело. — Можно подумать, что внутри у него теплая печка. А вот ты, кажется, совсем замерзла. Хорошо бы тебе одеться потеплее, малютка…
Гретель, которой больше нечего было надеть, заставила себя рассмеяться и ответила:
— Я уже не очень маленькая. Мне двенадцать слишком.
— Вот как! Прости, пожалуйста. Мне, видишь ли, почти четырнадцать лет, но я такая рослая для своего возраста, что все другие девочки кажутся мне маленькими. Впрочем, все это пустяки. Может быть, ты намного перерастешь меня… Только одевайся потеплее: ведь девочки не растут, если они вечно дрожат от холода.
Ханс вспыхнул, заметив слезы на глазах у Гретель.
— Моя сестра не жаловалась на холод, но погода и правда морозная. — И он с грустью взглянул на сестру.
— Ничего, — сказала Гретель. — Когда я катаюсь на коньках, мне тепло, жарко даже… Благодарю вас за заботу, вы очень добры, юфроу!
— Нет—нет! — возразила Хильда, очень недовольная собой. — Я неосторожная, жестокая, но я это не со зла. Я только хотела спросить тебя… то есть… если…
И тут Хильда запнулась, едва начав говорить о том, зачем прибежала сюда. Ей стало неловко перед этими бедно одетыми, но полными достоинства ребятами, хоть она и хотела оказать им внимание.
— А в чем дело, юфроу? — с готовностью воскликнул Ханс. — Не могу ли я вам услужить? Что—нибудь…
— Нет—нет! — рассмеялась Хильда, оправившись от смущения. — Я только хотела поговорить с вами о наших больших состязаниях. Хотите участвовать? Вы оба отлично бегаете на коньках, а за участие платить не надо. Всякий может записаться и получить приз.
Гретель с грустью взглянула на Ханса, а он, сдернув шапку, почтительно ответил:
— Нет, юфроу, если бы даже мы записались, мы очень скоро отстали бы от других. Смотрите, наши коньки из твердого дерева, — он приподнял ногу, — но они быстро отсыревают, липнут ко льду, и мы спотыкаемся.
Глаза у Гретель заискрились смехом: она вспомнила об утренней неудаче Ханса, но тут же покраснела и робко пролепетала:
— Нет—нет, участвовать нам не придется. Но ведь нам можно пойти посмотреть на состязания, юфроу?
— Конечно, — ответила Хильда, ласково глядя на серьезные лица брата и сестры и жалея от всего сердца, что истратила почти все свои карманные деньги, полученные в этом месяце, на кружева и наряды. У нее осталось только восемь квартье, а их едва хватило бы на покупку одной пары коньков.
Со вздохом взглянув на ноги брата и сестры, столь разные по размерам, она спросила:
— Кто из вас лучше катается на коньках?
— Гретель, — быстро ответил Ханс.
— Ханс, — в то же мгновение сказала Гретель.
Хильда улыбнулась:
— Я не могу купить обоим вам по паре коньков или даже хотя бы одну хорошую пару, но вот вам восемь квартье. Решите сами: у кого больше шансов победить на состязаниях, тому и купите коньки. Жаль, что у меня не хватает денег на коньки получше… До свидания!
И, сунув деньги взволнованному Хансу, Хильда улыбнулась, кивнула и быстро ускользнула прочь, догонять товарищей.
— Юфроу! Юфроу ван Глек! — громко крикнул Ханс, с трудом ковыляя за нею, так как ремешок на его коньках развязался.
Хильда повернулась, приложив руку к глазам, чтобы защитить их от солнца, и Хансу почудилось, будто она плывет к нему по воздуху, все ближе, ближе…
— Мы не можем взять эти деньги, — задыхаясь, пробормотал Ханс, — хоть и знаем, что вы дали их от чистого сердца.
— Почему же? — спросила Хильда краснея.
— Потому, — ответил Ханс, кланяясь, как паяц, но устремив гордый взгляд принца на высокую, стройную девочку, — что мы их не заработали.
Хильда была находчива. Она еще раньше заметила на шее у Гретель красивую деревянную цепочку.
— Вырежьте мне цепочку, Ханс, вот такую, как у вашей сестры.
— Это я сделаю с радостью, юфроу. У нас дома есть кусок тюльпанового дерева: оно красивое, как слоновая кость. Вы завтра же получите цепочку.
И он торопливо попытался вернуть деньги Хильде.
— Нет—нет, — возразила Хильда решительным тоном, — эти деньги — ничтожная плата за такую цепочку!
И она умчалась, обгоняя самых быстроногих конькобежцев.
Ханс удивленно и долго смотрел ей вслед, чувствуя, что спорить с ней бесполезно.
— Пусть так, — пробормотал он, то ли про себя, то ли обращаясь к своей верной тени — Гретель. — Значит, придется мне поработать усердно, не теряя ни минуты. Пожалуй, до полуночи просижу, если только мама не запретит жечь свечу, но цепочку кончу… Деньги можно оставить у себя, Гретель.
— Что за милая девочка! — воскликнула Гретель, восторженно хлопая в ладоши. — Слушай, Ханс, значит, недаром аист свил гнездо у нас на крыше прошлым летом! Помнишь, как мама сказала, что он принесет нам счастье, и как она плакала, когда Янзоон Кольп застрелил его? И она сказала, что Янзоону это принесет горе. И вот счастье к нам пришло наконец—таки! Теперь, Ханс, если мама пошлет нас завтра в город, ты сможешь купить коньки на рынке.
Ханс покачал головой:
— Барышня дала нам деньги на покупку коньков, но, если я заработаю их, Гретель, они пойдут на шерсть. Тебе нужна теплая кофта.
— О—о! — крикнула Гретель в неподдельном отчаянии. — Не купить коньков! Да ведь я мерзну вовсе не так уж часто. Мама говорит, что в жилах бедных детей кровь бежит вверх и вниз, напевая: «Я должна их согреть! Я должна их согреть!..» О Ханс, — продолжала она, чуть не всхлипывая, — не говори, что ты не купишь коньков, а то я заплачу… И вообще я хочу мерзнуть… то есть мне, право же, страшно тепло…
Ханс быстро взглянул на нее. Как истый голландец, он приходила ужас при виде слез, да и любого проявления чувств и пуще всего боялся смотреть в голубые глаза сестренки, залитые слезами.
— Пойми, — воскликнула Гретель, догадавшись, что преимущество на ее стороне, — я буду страшно огорчена, если ты не купишь коньков! Мне они не нужны, я не такая жадная. Я хочу, чтобы ты купил коньки себе. А когда я подрасту, они пригодятся и мне… Ну—ка, Ханс, сосчитай монеты. Видал ты когда—нибудь столько денег?
Ханс задумчиво перебирал монеты на ладони. Никогда в жизни ему так страстно не хотелось иметь коньки. О состязаниях он слышал еще до разговора с Хильдой и по—мальчишески жаждал случая испытать свои силы вместе с другими ребятами. Он не сомневался, что на хороших стальных лезвиях легко обгонит большинство мальчиков на канале. Возражения Гретель казались ему убедительными. С другой стороны, он знал, что ей, такой маленькой, но сильной и гибкой, стоит только неделю потренироваться на хороших лезвиях, и она будет бежать лучше Рихи Корбес или даже Катринки Флак… Как только эта мысль пришла ему в голову, он принял решение. Если Гретель не хочет кофты, она получит коньки.
— Нет, Гретель, — ответил он наконец, — я могу и подождать. Когда—нибудь я накоплю денег и достану себе хорошую пару коньков. А на эти деньги купишь коньки ты.
Глаза у Гретель засияли радостью, но она сразу же заспорила снова, хоть и не очень настойчиво:
— Барышня дала деньги тебе, Ханс. Если их возьму я, это будет очень скверно с моей стороны.
Ханс решительно тряхнул головой и зашагал вперед, а его сестренка то шла, то бежала за ним вприпрыжку, чтобы не отстать. Они уже сняли свои деревянные полозья и спешили домой — рассказать матери радостные новости.
— Слушай, я знаю, как надо сделать! — весело закричала вдруг Гретель. — Купи такие коньки, которые тебе будут немножко малы, а мне велики, и мы сможем кататься на них по очереди. То—то будет славно, правда? — И Гретель снова захлопала в ладоши.
Бедный Ханс! Соблазн был велик, но стойкий юноша поборол его:
— Глупости, Гретель! С большими коньками у тебя ничего не выйдет. Ты и на этих—то спотыкалась, как слепой цыпленок, пока я не обточил концы. Нет, тебе нужна паpa как раз по ноге, и ты вплоть до двадцатого должна пользоваться всяким удобным случаем, чтобы тренироваться. Моя маленькая Гретель завоюет приз — серебряные коньки!
При одной мысли о такой возможности Гретель не смогла удержаться от восторженного смеха.
— Ханс! Гретель! — послышался знакомый голос.
— Идем, мама!
Они поспешили домой, и Ханс все время подбрасывал монеты на ладони.
Во всей Голландии не нашлось бы такого гордого и счастливого юноши, как Ханс Бринкер, когда он на другой день следил глазами за сестрой, которая ловко скользила, носясь туда—сюда среди конькобежцев, заполнивших под вечер весь канал. Добрая Хильда подарила ей теплую кофту, а тетушка Бринкер починила и привела в приличный вид ее рваные башмаки. Раскрасневшись от удовольствия и совершенно не замечая устремленных на нее недоумевающих взглядов, малютка стрелой носилась взад и вперед, чувствуя себя так, словно сверкающие лезвия у нее на ногах внезапно превратили всю землю в сказочную страну. В ее благородной душе непрестанно звучало: «Ханс, милый добрый Ханс!»
— Бейдендондер! (Клянусь громом!) — воскликнул Питер ван Хольп, обращаясь к Карлу Схуммелю. — Неплохо катается эта малютка в красной кофте и заплатанной юбке. Гунст! (Черт возьми!) Можно сказать, что у нее пальцы на пятках и глаза на затылке! Смотри—ка! Вот будет здорово, если она примет участие в состязаниях и побьет Катринку Флак!
— Тсс! Не так громко — остановил его Карл, насмешливо улыбаясь. — Эта барышня в лохмотьях—любимица Хильды ван Глек. Сверкающие коньки — ее подарок, если не ошибаюсь.
— Ах, вот как! — воскликнул Питер с сияющей улыбкой: Хильда была его лучшим другом. — Значит, она и тут успела сделать доброе дело!
И мейнхеер ван Хольп, выписав на льду двойную восьмерку, а потом огромную букву «П», сделал прыжок, выписал букву «X» и покатил дальше, не останавливаясь, пока не очутился рядом с Хильдой.
Взявшись за руки, они катались вместе, сначала смеясь, потом спокойно разговаривая вполголоса.
Как ни странно, Питер ван Хольп вскоре пришел к неожиданному заключению, что его сестренке необходимо иметь точь—в–точь такую деревянную цепочку, как у Хильды.
Два дня спустя, в канун праздника святого Николааса, Ханс, успевший сжечь три свечных огарка и вдобавок порезать себе большой палец, стоял на базарной площади в Амстердаме и покупал еще пару коньков — для себя!
Глава V. Тени в доме
Милая тетушка Бринкер! Как только убрали со стола после скудного обеда, она в честь святого Николааса надела свое праздничное платье. «Это порадует детей», — подумала она и не ошиблась. За последние десять лет праздничное платье надевалось очень редко; а раньше, когда его хозяйку знали во всей округе и называли хорошенькой Мейтье Кленк, оно хорошо служило и красовалось на многих танцевальных вечеринках и ярмарках. Платье хранилось в старом дубовом сундуке, и теперь детям лишь изредка позволялось взглянуть на него. Полинявшее и поношенное, им оно казалось роскошным. Плотно облегающий лиф был из синего домотканого сукна; его квадратный вырез открывал белую полотняную рубашечку, собранную вокруг шеи; красно—коричневая юбка была оторочена по подолу черной полосой. В шерстяных вязаных митенках, в нарядном чепчике, который, не в пример будничному, позволял видеть волосы, мать казалась Гретель чуть ли не принцессой; а Ханс, глядя на нее, превратился в степенного и благонравного молодого человека.
Заплетая свои золотистые косы, девчурка в пылу восхищения чуть не плясала вокруг матери.
— Ой, мама, мама, мама, какая же ты хорошенькая!.. Смотри, Ханс, прямо картинка, правда?
— Прямо картинка, — весело согласился Ханс, — прямо картинка… Только мне не нравятся эти штуки у нее на руках — вроде чулок.
— Тебе не нравятся митенки, братец Ханс! Но ведь они очень удобные… Смотри, они закрывают все красные места на коже… Ах, мама, какая у тебя белая рука там, где кончается митенка! Белее моей, гораздо белей! Послушай, мама, лиф тебе узок. Ты растешь! Ты положительно растешь!
Тетушка Бринкер рассмеялась:
— Он был сшит очень давно, милочка, когда талия у меня была не толще мутовки. А как тебе нравится чепчик? — И она повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую.
— Ах, ужасно нравится, мама! Он такой кра—си—и–вый! Гляди, на тебя отец смотрит!
Неужели отец действительно смотрел на мать? Да, но — бессмысленным взглядом. Его вроу вздрогнула, обернулась к нему, и что—то похожее на румянец заиграло у нее на щеках, а глаза испытующе сверкнули. Но загоревшийся взгляд ее тотчас же погас.
— Нет—нет, — вздохнула она, — он ничего не понимает. Ну—ка, Ханс, — и слабая улыбка вновь мелькнула у нее на губах, — не стой так целый день, уставившись на меня: ведь в Амстердаме тебя ждут новые коньки.
— Ах, мама, — отозвался он, — тебе нужно столько разных разностей! Зачем мне покупать коньки?
— Глупости, сынок! Тебе дали денег или дали работу, — это все равно, чтобы ты смог купить себе коньки. Иди же, пока солнце еще высоко.
— Да, и не задерживайся, Ханс! — рассмеялась Гретель. — Нынче вечером мы с тобой посостязаемся на канале, если мама отпустит.
Уже на пороге Ханс обернулся и сказал:
— На твоей прялке нужно сменить подножку, мама.
— Ты сам можешь сделать ее, Ханс.
— Могу. На это денег не надо. Но тебе нужны и шерсть, и перья, и мука, и…
— Ладно, ладно! Хватит. На твое серебро всего не купишь. Ах, сынок, если бы деньги, которые у нас украли, вдруг вернулись сегодня, в этот радостный день накануне праздника святого Николааса, как бы мы обрадовались! Еще вчера вечером я молилась доброму святому…
— Мама! — с досадой перебил ее Ханс.
— А почему бы и нет, Ханс? Стыдно тебе упрекать меня за это. Ведь я поистине такая же набожная протестантка, как и любая благородная дама, что ходит в церковь. И если я иногда обращаюсь к доброму святому Николаасу, так ничего худого в этом нет. Подумать только! На что это похоже, если я не могу помолиться святому без того, чтобы мои родные дети на меня не напали! А ведь он как раз покровитель мальчиков и девочек… Замолчи! Жеребенок кобылу не учит!
Ханс слишком хорошо знал свою мать, чтобы возражать ей хоть словом, когда голос ее становился таким резким и пронзительным, как сейчас (а это случалось всякий раз, как она заговаривала о пропавших деньгах), поэтому он сказал ласково:
— А о чем ты просила доброго святого Николааса, мама?
— Я просила, чтобы он не давал ворам спать ни минуты, пока они не вернут денег, если только это в его силах; или же чтобы он прояснил наш разум и мы сами смогли найти деньги. В последний раз я видела их за день до того, как ваш милый отец расшибся… Впрочем, тебе это хорошо известно, Ханс.
— Это мне известно, мама, — грустно ответил он, — ты чуть не перевернула весь дом, пока искала их.
— Да, но все напрасно, — жалобно промолвила мать. — Как говорится: тот найдет, кто спрятал.
Ханс вздрогнул.
— А ты думаешь, отец мог бы сообщить о них что—нибудь? — спросил он с таинственным видом.
— Конечно, — ответила тетушка Бринкер, кивнув. — То есть я так думаю, но это еще ничего не значит. На этот счет я меняю свои мнения чуть ли не каждый день. Может, отец отдал деньги за те большие серебряные часы, что у нас хранятся с того самого дня. Но нет… этому я никогда не поверю.
— Часы не стоят и четверти этих денег, мама.
— Конечно, нет, а твой отец до самой последней минуты был рассудительным человеком. Он был такой степенный и бережливый, что не стал бы делать глупости.
— Но откуда же у нас эти часы, вот чего я не могу понять, — пробормотал Ханс не то про себя, не то обращаясь к матери.
Тетушка Бринкер покачала головой и бросила скорбный взгляд на мужа, который сидел, тупо уставившись в пол. Гретель стояла рядом с ним и вязала.
— Этого мы никогда не узнаем, Ханс. Я много раз показывала часы отцу, но для него они все равно что картофелина. В тот страшный вечер он пришел домой ужинать, передал мне часы и велел бережно хранить их, покуда он сам их не попросит. Едва он открыл рот, чтобы добавить еще что—то, к нам ворвался Броом Клаттербоост и сказал, что плотина в опасности. Ах! Страшна была вода в том году в неделю святой троицы! Мой хозяин схватил свои инструменты и убежал. Последний раз видела я его тогда в здравом уме. В полночь его принесли домой полумертвого; голова у него, бедного, была вся порезана и разбита. Со временем лихорадка прошла, но разум к нему не вернулся, нет… Ему становилось все хуже и хуже с каждым днем… Никогда мы ничего не узнаем…
Ханс все это слышал и раньше. Не раз он видел, как мать в дни острой нужды вынимала часы из тайника, почти решившись продать их, но так и не поддалась этому искушению.
«Нет, Ханс, — говорила она, — мы ведь еще не умираем с голоду. Не будем же нарушать доверие отца!»
Сейчас сын ее вспомнил несколько таких случаев и тяжело вздохнул. Потом покатил кусочек воска по столу в сторону Гретель и сказал:
— Да, мама, ты молодец, что сохранила часы… Многие давным—давно променяли бы их на золото.
— И тем позорнее для них! — негодующе воскликнула тетушка Бринкер. — Я бы так не поступила. К тому же знатные господа до того несправедливы к нам, бедным людям, что, стоило бы им увидеть такую ценную вещь у нас в руках, они, — даже расскажи мы им все, — чего доброго, заподозрили бы отца в…
Щеки Ханса залились гневным румянцем:
— Они не посмели бы это сказать, мама! Посмей они только… я бы…
Он сжал кулак, видимо решив, что последние слова этой фразы слишком страшны, чтобы произнести их в присутствии матери.
Тетушка Бринкер улыбнулась сквозь слезы, гордясь негодованием сына:
— Ах, сынок, ты честный, славный мальчик… С часами мы никогда не расстанемся. Перед смертью дорогой ваш отец, быть может, придет в себя и спросит о них.
— Придет в себя, мама! — повторил Ханс. — Придет в себя… и узнает нас?
— Да, сынок, — почти шепотом ответила мать. — Такие случаи бывали.
За разговором Ханс чуть не позабыл о том, что собирался идти в Амстердам. Мать редко говорила с ним так откровенно. Теперь он чувствовал себя не только ее сыном, но и ее другом, ее советчиком.
— Ты права, мама, с часами мы не должны расставаться. Мы всегда будем хранить их ради отца. Да и деньги, может, найдутся, когда—нибудь… неожиданно.
— Никогда! — воскликнула тетушка Бринкер, рывком снимая последнюю петлю со спицы и тяжело роняя недоконченное вязанье на колени. — И думать нечего! Тысяча гульденов! И все пропали в один день! Тысяча гульденов… Ох! И куда они только девались? Если они пропали дурным путем, вор признался бы в этом перед смертью… Он не посмел бы умереть с таким преступлением на душе!
— Может, он еще не умер, — сказал Ханс, стараясь успокоить ее. — Может, мы когда—нибудь узнаем о нем.
— Ах, дитя, — промолвила мать другим тоном, — какому вору взбрело бы в голову прийти сюда? У нас в доме, слава богу, всегда было чисто и опрятно, но небогато; ведь мы с отцом все экономили да экономили, чтобы скопить кое—что, как говорится: «Понемножку, да часто, — вот и сумка полна». Так оно взаправду и вышло. Кроме того, у отца уже были немалые деньги, полученные за работу в Хеернохте во время большого наводнения. Каждую неделю мы откладывали гульден, а то и больше — ведь отец работал сверхурочно и получал немалую плату за свой труд. Каждую субботу вечером мы сколько—нибудь добавляли к отложенным деньгам, не считая того времени, когда ты, Ханс, болел лихорадкой и когда родилась Гретель. Наконец кошелек был так набит, что я заштопала старый чулок, и мы начали класть деньги в него. Теперь мне кажется, будто денег в нем набралось до самого верху — и всего за несколько недель. В те годы жалованье платили хорошее, если рабочий кое—что смыслил в технике. Чулок все наполнялся медью и серебром… и золотом тоже. Ну да, можешь открыть глаза еще шире, Гретель. Я, бывало, со смехом говорила отцу, что не из бедности ношу свое старое платье… А чулок все наполнялся… и был так туго набит, что я не раз, проснувшись ночью, тихонько вставала и при лунном свете шла пощупать его. Потом на коленях благодарила господа за то, что со временем дети мои получат хорошее образование, а отец сможет отдохнуть от своих трудов на старости лет. Порой за ужином мы с отцом поговаривали, что хорошо бы, мол, заново переделать камин и построить хороший зимний хлев для коровы. Но мой хозяин метил куда выше этого. «Большой парус ловит ветер, — говорил он. — Скоро мы сможем позволить себе все, что захотим…» И потом мы вместе распевали песни, пока я мыла посуду. Ах… «На тихом море за рулем легко…» С утра до ночи не было у меня никаких огорчений. Каждую неделю отец вынимал чулок, клал туда деньги, а сам смеялся и целовал меня, пока мы вместе завязывали тесемки… Ступай—ка, Ханс! Сидишь тут разинув рот, а день на исходе! — резко закончила тетушка Бринкер, краснея при мысли о том, что слишком откровенно говорила с сыном. — Давно пора тебе в путь.
Ханс все время сидел, устремив серьезный взгляд на мать. Теперь он встал и спросил почти шепотом:
— А ты когда—нибудь пыталась, мама?..
Мать поняла его:
— Да, сынок, часто. Но отец только смеется или смотрит на меня так странно, что у меня пропадает охота спрашивать. Когда в прошлую зиму ты и Гретель заболели лихорадкой и хлеб у нас почти вышел, а я ничего не могла заработать — ведь я боялась, как бы вы не умерли, пока меня не будет дома, — ох, как я тогда старалась! Я гладила его по голове и шептала ему о деньгах ласково, как котенок: «Где они?.. У кого они?..» Все напрасно! Он только дергал меня за рукав и бормотал такую чепуху, что вся кровь у меня застывала. Под конец, когда Гретель лежала белее снега, а ты бредил на кровати, я крикнула ему, и мне казалось, что должен же он услышать меня: «Рафф, где наши деньги? Знаешь ты что—нибудь о деньгах, Рафф? О деньгах в кошельке и чулке, что в большом сундуке лежали?» Но это было все равно, что говорить с камнем… это было…
Голос матери звучал так странно и глаза ее так горели, что Ханс, снова встревоженный, положил ей руку на плечо.
— Успокойся, мама, — сказал он. — Забудем об этих деньгах. Я уже большой и сильный. Гретель тоже очень ловкая и работящая. Скоро мы опять будем зажиточными. Знаешь, мама, для меня и Гретель приятней видеть тебя веселой и радостной, чем иметь все серебро, сколько его есть на свете… Ведь правда, Гретель?
— Мама знает это, — ответила Гретель всхлипывая.
Глава VI. Лучи солнца
Волнение детей и поразило и обрадовало тетушку Бринкер, так как оно доказывало их любовь и преданность. Бывает, что красивые дамы в знатных домах вдруг улыбнутся так ласково, что их улыбка озарит все вокруг. Но далеко ей до той святой материнской улыбки, какой тетушка Бринкер попыталась развеселить своих бедно одетых детей в убогом домишке. Она пожалела, что, не считаясь с ними, так много говорила о своем горе. Покраснев и приободрившись, она поспешно вытерла глаза и посмотрела на детей так, как может смотреть только мать:
— Ну и ну! Хорошенькие у нас разговоры! А ведь праздник святого Николааса вот—вот наступит! Не мудрено, что пряжа колет мне пальцы. Слушай, Гретель, возьми эту монетку и, пока Ханс будет покупать коньки, купи себе вафлю на рынке.
— Позволь мне остаться дома с тобой, мама, — сказала Гретель, подняв глаза, блестевшие сквозь слезы. — Вафлю мне купит Ханс.
— Как хочешь, дочка… И вот что, Ханс: подожди минутку. Еще три ряда — и я закончу свое вязанье, а ты получишь пару самых лучших чулок на свете, хотя пряжа чуть—чуть грубовата, и продашь их чулочнику на улице Хейрен—грахт. Выручишь три четверти гульдена, если хорошенько поторгуешься. В такой мороз и впрямь есть хочется: купи четыре вафли. Так и быть, отпразднуем день святого Николааса.
Гретель захлопала в ладоши:
— Вот будет хорошо! Анни Боуман рассказывала мне, как будут пировать в богатых домах нынче вечером. Но нам тоже будет весело! Ханс купит себе красивые новые коньки… и вафель покушаем. Вот счастье—то! Смотри не раскроши их, братец Ханс! Хорошенько заверни да поосторожней засунь под куртку, а куртку застегни.
— Конечно, — отозвался Ханс, приняв чрезвычайно суровый вид от удовольствия и сознания собственной значительности.
— Ах, мама! — вскричала Гретель в бурном восторге. — Скоро тебе придется возиться с отцом, а сейчас ты только вяжешь. Так расскажи нам все—все про святого Нпколааса!
Тетушка Бринкер рассмеялась, увидев, что Ханс повесил на место шапку и приготовился слушать.
— Ни к чему, ребята, — сказала она, — ведь я вам много раз о нем рассказывала.
— Расскажи опять! Ох, пожалуйста, расскажи опять! — воскликнула Гретель, усевшись на чудесную деревянную скамеечку, которую Ханс смастерил для матери в день ее рождения.
Ханс тоже был очень не прочь послушать рассказ, но не хотел показаться ребячливым и потому стоял у камина, с небрежным видом размахивая своими старыми коньками.
— Ну что ж, дети, слушайте, но больше никогда не будем так вот зря проводить время среди бела дня. Подними свой клубок, Гретель, и вяжи носок, пока я буду рассказывать. Как говорится: «Уши навостри, а сложа руки не сиди»… Святой Николаас, надо вам знать, замечательный святой! Он печется о благе моряков, но больше всего он любит мальчиков и девочек. Так вот, однажды, когда он еще жил на земле, один азиатский купец послал своих трех сыновей в большой город — Афины — учиться.
— А что, Афины в Голландии, мама? — спросила Гретель.
— Не знаю, дочка. Должно быть, что так.
— Нет, мама, — почтительно возразил Ханс. — Мы давно проходили это на уроках географии. Афины в Греции.
— Пускай, — согласилась мать, — не все ли равно? Может быть, Греция принадлежит нашему королю, почем знать? Так или иначе, этот богатый купец послал своих мальчиков в Афины. По дороге они остановились на ночлег в захолустной гостинице, решив снова отправиться в путь поутру. Ну вот, одеты они были очень хорошо… может быть, в бархат и шелк, какие носят дети богатых людей, а кушаки у них были набиты деньгами… Что же сделал злой хозяин гостиницы? Он задумал убить мальчиков да забрать себе их деньги и хорошее платье. И вот в эту ночь, когда все на свете спали, он встал и убил всех троих.
Гретель стиснула руки и вздрогнула, а Ханс постарался принять такой вид, будто слушать про убийства и грабежи для него привычное дело.
— И это было еще не самое худшее… — продолжала тетушка Бринкер, медленно работая спицами и стараясь не сбиться со счета петель, — это было еще не самое худшее. Злодей хозяин пошел и разрезал тела мальчиков на маленькие кусочки, а потом бросил в огромную кадку с рассолом, чтобы продать их под видом соленой свинины.
— Ой! — воскликнула Гретель, пораженная ужасом, хотя она не раз слышала эту историю.
Ханс сохранял невозмутимое спокойствие и, казалось, думал, что в подобных случаях самое лучшее, что можно сделать, — это именно засолить убитых.
— Да, он их засолил, и можно было сказать, что мальчикам пришел конец. Но нет! В ту ночь святому Николаасу было чудесное видение: он увидел, как хозяин гостиницы режет на куски сыновей купца. Спешить ему, конечно, было незачем — ведь он был святой, но утром он пошел в гостиницу и обвинил хозяина в убийстве. Тогда злой хозяин признался во всем и упал на колени, моля о прощении. Он так раскаивался, что даже попросил святого воскресить мальчиков.
— И святой воскресил их? — спросила Гретель в радостном волнении, хотя отлично знала, каков будет ответ.
— Конечно. Соленые куски вмиг срослись, и мальчики выскочили из кадки с рассолом целые и невредимые. Они упали к ногам святого Николааса, и он благословил их и… Ох! Господи помилуй, Ханс, если ты не уйдешь сию минуту, ты не успеешь вернуться дотемна!
Тетушка Бринкер с трудом перевела дух и совсем расстроилась. Ведь не было еще случая, чтобы ее дети когда—нибудь просидели вот так целый час при дневном свете, ничего не делая, и мысль о такой трате времени привела ее в ужас. Стремясь наверстать потерянное, она заметалась по комнате, спеша изо всех сил. Она швырнула брусок торфа в огонь, сдула невидимую пыль со стола и вручила Хансу довязанные чулки — все это в одно мгновение.
— Ну же, Ханс, — сказала она мальчику, когда он замешкался в дверях, — что тебя задерживает, милый?
Ханс поцеловал мать в полную щеку, все еще румяную и свежую, несмотря на все горести:
— Моя мама лучше всех на свете, и я очень рад, что буду иметь коньки, но… — и, застегивая свою куртку, он бросил взволнованный взгляд на больного отца, скорчившегося у очага, — если бы я на свои деньги мог привезти из Амстердама меестера, чтобы он посмотрел отца… может быть, он помог бы…
— Меестер не придет, Ханс, даже предложи ты ему вдвое больше. А и придет — все равно не поможет. Ах, сколько гульденов я когда—то истратила на лечение, но милый добрый отец так и не пришел в себя! Божья воля! Иди, Ханс, и купи коньки.
Ханс ушел с тяжелым сердцем, но так как сердце это было молодо и билось в юношеской груди, то уже спустя пять минут он стал насвистывать. Мать сказала ему: «милый», и этого было совершенно достаточно, чтобы превратить для него пасмурный день в солнечный. Голландцы, говоря друг с другом, обычно не употребляют ласковых обращений, как, например, французы или немцы. Но тетушка Бринкер в девичьи свои годы жила в Гейдельберге (где делала вышивки для одного семейства) и услышанные там ласковые слова привезла сюда, в свою сдержанную семью; эти слова она произносила только в порыве горячей любви и нежности.
Поэтому ее фраза: «Что тебя задерживает, милый?» — снова и снова звучала, как песня, в ушах Ханса под аккомпанемент его свиста, и мальчику казалось, что в пути его ждет удача.
Глава VII. Ханс добивается своего
До Брука — этой деревни с тихими, безукоризненно чистыми улицами, замерзшими ручьями, желтыми кирпичными мостовыми и веселыми деревянными домиками — было уже рукой подать. Чистота и парадность цвели в ней пышным цветом; что же касается ее жителей, можно было подумать, что они или спят, или умерли.
Ни один след не осквернял посыпанных песком тротуаров, украшенных затейливыми узорами из голышей и морских раковин. Все ставни были закрыты так плотно, словно воздух и солнечный свет считались здесь ядом, а массивные парадные двери открывались не иначе, как по случаю свадьбы, крестин или похорон.
Облака табачного дыма спокойно плавали по скрытым от посторонних глаз комнатам, и даже дети, которые могли бы оживить улицы, или готовили уроки в укромных уголках, или катались на коньках по соседнему каналу. Кое—где в садах стояли павлины и волки, но они были не из плоти и крови, — это были подстриженные в виде животных буксовые деревья, и они, казалось, сторожили усадьбы, зеленея от ярости. Бойкие автоматы — утки, женщины и спортсмены — лежали спрятанные в летних домиках, ожидая весны, когда их заведут и они поспорят в живости со своими владельцами; а блестящие черепичные крыши, выложенные мозаикой дворы и отполированные украшения домов, сверкая, посылали безмолвный привет небу, не омраченному ни пылинкой.
Ханс подбрасывал на ладони свои серебряные квартье и смотрел на деревню, раздумывая, правда ли, что некоторые обитатели Брука так богаты, что, как он не раз слышал, даже кухонная посуда у них из чистого золота. Он видел на рынке сладкие сырки, которые продавала мевроу ван Стооп, и знал, что эта высокомерная особа наживает на них много блестящих серебряных гульденов. Но неужто, думал он, сливки у нее отстаиваются в золотых кринках? Неужто она собирает их золотой шумовкой? Неужто у ее коров, когда они стоят в зимних хлевах, хвосты действительно подвязаны лентами?
Такие мысли мелькали у него в голове, когда он обратился лицом к Амстердаму, расположенному в пяти милях, на той стороне замерзшего Ая. На канале лед был отличный, но деревянные коньки Ханса, которые он так скоро собирался бросить, жалобно скрипели, словно прощаясь с хозяином, пока он подвигался вперед, то скользя, то шаркая ногами.
И кого же увидел Ханс, пересекая Ай, как не скользившего ему навстречу знаменитого доктора Букмана, самого известного в Голландии врача—хирурга? Ханс никогда не встречался с ним, но видел его гравированные портреты в витринах многих амстердамских лавок. Это лицо не забывалось. Доктор, тощий и длинный (хоть он и был чистокровный голландец), со строгими голубыми глазами, поджатыми губами, словно говорившими: «Улыбки запрещены», — казался не слишком веселым и общительным и вообще не таким человеком, с которым хорошо воспитанный юноша решился бы заговорить без особо важной причины.
Но Ханса побуждал к этому голос, которому он не повиновался лишь редко, — его собственная совесть.
«Вот идет лучший в мире врач, — шептал голос. — Сам бог послал его. Ты не имеешь права покупать коньки, если на эти деньги можешь пригласить такого знаменитого доктора, чтобы он помог твоему отцу!»
Деревянные коньки торжествующе скрипнули. Сотни чудесных стальных лезвий сверкнули в воображении Ханса и исчезли. Ему почудилось, что деньги жгут ему пальцы. Старый доктор казался чрезвычайно мрачным и неприступным. У Ханса комок подступил к горлу, но все же у него хватило голоса, чтобы, поравнявшись с доктором, крикнуть:
— Мейнхеер Букман!
Великий человек остановился и, выпятив тонкую нижнюю губу, оглянулся, хмуря брови.
Но Ханс уже решил добиться своего.
— Мейнхеер, — проговорил он, задыхаясь и подкатывая поближе к грозному доктору, — я знаю, вы не кто иной, как прославленный хирург Букман. Я хочу просить вас о великой милости…
— Хм! — фыркнул доктор, готовясь ускользнуть от назойливого юноши. — Дайте пройти… у меня нет денег… никогда не подаю нищим.
— Я не нищий, мейнхеер! — гордо возразил Ханс и с важным видом показал доктору свою крошечную кучку серебра. — Я хочу посоветоваться с вами насчет моего отца. Он жив, но все равно что мертвец. Голова у него не работает, речь бессмысленная, но он не болен. Он упал с плотины.
— Как? Что? — выкрикнул доктор, начиная прислушиваться.
Ханс сбивчиво рассказал ему все, что знал об отце, раз или два смахнув слезинку, и закончил серьезным тоном:
— Пожалуйста, посмотрите его, мейнхеер. Тело у него здоровое… а вот разум… Я знаю, этих денег мало, но возьмите их, мейнхеер, а я заработаю еще… обязательно заработаю… Обещаю работать на вас всю жизнь, если вы только вылечите моего отца!
Что случилось со старым доктором? Что—то светлое, как солнечный луч, промелькнуло на его лице. Глаза его увлажнились и подобрели; рука, только что сжимавшая палку, словно собираясь нанести удар, теперь тихонько легла на плечо Ханса.
— Спрячь свои деньги, мальчик, мне они не нужны… Отца твоего мы посмотрим… Боюсь только, что случай безнадежный. Как ты сказал… сколько времени прошло с тех пор?
— Десять лет, мейнхеер! — воскликнул Ханс, сияя внезапно пробудившейся надеждой.
— Так! Случай трудный, но я посмотрю твоего отца. Сейчас скажу когда… Сегодня я отправляюсь в Лейден. Вернусь через неделю, тогда и жди меня. Где вы живете?
— В миле к югу от Брука, мейнхеер, близ канала. Лачужка у нас бедная, ветхая. Любой из тамошних ребят укажет ее вашей чести, — добавил Ханс, тяжело вздыхая. — Все они побаиваются нашей лачуги, называют ее: «дом идиота».
— Так, так, — сказал доктор и заспешил дальше, ласково кивнув Хансу через плечо. — Я приду.
«Безнадежный случай, — бормотал он про себя, — но малый мне нравится. Глаза его напоминают глаза моего бедного Лоуренса… К черту! Неужели я никогда не забуду этого негодяя?!» И, нахмурившись еще больше, чем обычно, доктор молча продолжал свой путь.
А Ханс снова покатил к Амстердаму на скрипящих деревянных коньках; снова пальцы его перебирали монеты в кармане; снова мальчишеский свист невольно слетал с его губ.
«Не поспешить ли домой, — раздумывал он, — чтобы сообщить радостную весть?.. Или сначала купить вафли и новые коньки? Фью—ю! Пожалуй, покачу дальше»,
Глава VIII. Знакомит нас с Якобом Постом и его двоюродным братом
В канун праздника святого Николааса Ханс и Гретель провели вечер очень весело. Месяц ярко светил, и, хотя тетушка Бринкер сама себя убедила в том, что ее муж неизлечим, она так обрадовалась предстоящему визиту меестера, что вняла мольбам детей и отпустила их покататься часок перед сном.
Ханс был в восторге от своих новых коньков и, стремясь показать Гретель, как прекрасно они «работают», выписывал на льду такие фигуры, что девочка стискивала руки в безмолвном восхищении. Брат и сестра были здесь не одни, но никто из катавшихся по льду, видимо, не замечал их.
Братья ван Хольп и Карл Схуммель изо всех сил соревновались в резвости. Из четырех пробегов Питер ван Хольп вышел победителем в трех. Поэтому Карл, и всегда—то не очень любезный, сейчас был настроен отнюдь не благодушно. Он вознаграждал себя, насмехаясь над маленьким Схиммельпеннинком, а тот, как самый младший, кротко сносил насмешки и хоть старался держаться поближе к товарищам, но не чувствовал себя полноправным членом их компании. И вдруг Карлом овладела новая мысль — вернее, он сам овладел ею и пошел в атаку на приятелей.
— Слушайте, ребята, давайте не пустим на состязания этих оборванцев, что живут в «доме идиота»! Хильда сошла с ума, когда затеяла все это. Катринка Флак и Рихи Корбес прямо бесятся, как вспомнят, что им предстоит состязаться с какой—то нищей девчонкой! И что до меня, я их не осуждаю. А насчет парня… если мы считаем себя настоящими мужчинами, мы не потерпим самой мысли о том…
— Конечно, нет! — перебил Карла Питер ван Хольп, притворяясь, что превратно понял его слова. — А как же иначе? Ни один человек, считающий себя настоящим мужчиной, не станет отводить двух хороших конькобежцев только потому, что они бедняки!
Карл как бешеный завертелся на месте.
— Легче на поворотах, милейший! И будь любезен не подсказывать другим. В другой раз лучше и не пытайся!
— Ха—ха—ха! — расхохотался маленький Воостенвальберт Схиммельпеннинк, предвкушая неминуемую драку и не сомневаясь, что, когда дело дойдет до кулаков, его любимец Питер поколотит дюжину таких заносчивых мальчишек, как Карл.
Но что—то в глазах Питера побудило Карла перенести свой гнев на более слабого противника. Он в ярости налетел на Вооста:
— А ты чего визжишь, звереныш? Костлявая селедка, коротышка—обезьяна с длинным именем вместо хвоста!
Несколько мальчиков, стоявших и катавшихся поблизости, криком выразили одобрение этому храброму остроумию, и Карл, полагая, что враги его побеждены, отчасти вернул себе хорошее расположение духа. Однако он благоразумно решил отныне выступать против Ханса и Гретель только в отсутствие Питера.
В эту минуту на канале появился друг Питера Якоб Поот. Лица его еще нельзя было рассмотреть, но так как он был самым тучным мальчиком во всей округе, то ошибиться было невозможно.
— Эге, вот и толстяк! — воскликнул Карл. — А с ним кто—то еще, какой—то тощий малый, чужой…
— Ха—ха—ха! Точь—в–точь хорошая свиная грудинка, — вскричал Людвиг: — прослойка мяса, прослойка жира!
— Это англичанин, двоюродный брат Якоба, — вставил Воост, радуясь возможности сообщить новость. — Это его двоюродный брат, англичанин. У него такое смешное коротенькое имя: Бен Добс. Он гостит у них и уедет только после больших состязаний.
Все это время ребята кружились, повертывались, катались и, не прекращая разговора, спокойно выписывали на своих коньках всевозможные замысловатые фигуры. Но теперь они остановились и, поеживаясь от морозного ветра, поджидали приближавшихся к ним Якоба Поота и его друга.
— Это мой двоюродный брат, ребята, — сказал Якоб отдуваясь, — Бенджамин Добс. Он Джон Буль и будет участвовать в состязаниях.
Все по—мальчишески столпились вокруг новых пришельцев, и Бенджамин очень скоро решил, что голландцы, несмотря на их диковинное лопотание, славные парни.
Сказать правду, Якоб, представляя своего двоюродного брата, произнес: «Пеншамин Допс» и назвал его «Шон Пуль». Но я перевожу все разговоры наших юных друзей и потому считаю нужным воспроизводить английские имена правильно, а не так, как их произносили ребята.
Вначале юный Добс чувствовал себя очень неловко среди приятелей своего двоюродного брата. Хотя почти все они изучали английский и французский, однако стеснялись говорить на этих языках, а Бен, пытаясь говорить по—голландски, делал много смешных ошибок. Он заучил, что «вроу» значит жена, а «йа» — значит «да», «споорвег» — железная дорога, «стоомбот» — пароход, «опхаальбрюгген» — подъемные мосты, «бейтен плаастен» — дачи, «мейнхеер» — господин, «твеегевегт» — поединок, «копер» — медь, «задель» — седло, но из этих слов он не мог составить ни одной фразы, так же как не находил случая воспользоваться длинным списком фраз, заученных им по учебнику «Голландские диалоги». Темы этих диалогов были очень интересны, но мальчики никогда не касались их.
Как и тот бедняга, который выучился по учебнику Оллендорфа спрашивать на безукоризненном немецком языке: «Вы видели рыжую корову моей бабушки?» — но, приехав в Германию, обнаружил, что ему не представится случая расспросить об этом интересном животном, Бен понял, что усвоенная им книжная голландская речь не помогает ему так, как он надеялся.
Но совместное катание на коньках сметает все преграды, поставленные языком. Поэтому Бен вскоре почувствовал, что он уже близко знаком со всеми мальчиками, и, когда Якоб (пересыпая свою речь французскими и немецкими словами — для удобства Бена) рассказывал об одном замечательном проекте, который они разработали, юный англичанин уже не стеснялся время от времени вставлять «йа» или непринужденно кивать головой.
Проект был и впрямь замечательный, к тому же теперь представлялся очень удобный случай провести его в жизнь, ибо учеников, как всегда, распустили на праздник святого Николааса и вдобавок еще на четыре дня, чтобы произвести генеральную уборку школьного здания.
Якоб и Бен получили разрешение отправиться в длинное путешествие на коньках — не больше не меньше, как в Гаагу, столицу Голландии, а от Брука до нее примерно пятьдесят миль.
— Ну, ребята, — добавил Якоб, рассказав о своем проекте, — кто отправится с нами?
— Я! Я! — возбужденно закричали все мальчики.
— И я тоже! — осмелился крикнуть маленький Воостенвальберт.
— Ха—ха—ха! — расхохотался Якоб, держась за толстые бока и тряся пухлыми щеками. — Ты тоже отправишься? Такой карапуз? Эх ты, малютка, да ведь ты еще носишь подушечки!
Надо вам сказать, что в Голландии маленькие дети носят на голове под каркасом из китового уса и лент тонкие подушечки, предохраняющие от ушибов при падении. День, когда перестают их носить, отмечает границу между младенчеством и детством. Воост уже несколько лет назад достиг этой высокой ступени, и стерпеть оскорбление, нанесенное ему Якобом, оказалось выше его сил.
— Думай, о чем говоришь? — пискнул он. — Лучше сам постарайся когда—нибудь сбросить свои подушки — они у тебя на всех частях тела!
— Ха—ха—ха! — громко захохотали все мальчики, кроме Добса, который ничего не понял.
— Ха—ха—ха! — громче всех рассмеялся сам Якоб. — Это мой жир… йа… он говорит, я ношу подушки из жира! — объяснил Бону добродушный толстяк.
Острота Вооста имела такой успех, что все единогласно решили принять его в компанию, если только его родители согласятся.
— Спокойной ночи! — протянул осчастливленный малыш, катясь домой во весь дух.
— Спокойной ночи!
— В Хаарлеме мы остановимся, Якоб, и покажем твоему двоюродному брату большой орган! — оживленно заговорил Питер ван Хольп. — В Лейдене тоже найдется много чего посмотреть. Сутки проведем в Гааге — там живет моя замужняя сестра, она очень обрадуется нам, — а на следующее утро отправимся домой.
— Ладно! — кратко ответил Якоб, мальчик не очень разговорчивый.
Людвиг смотрел на брата с восторженным восхищением:
— Молодец, Пит! Ну и мастер ты на всякие проекты! Мама обрадуется не меньше нас, когда узнает, что мы лично передадим ее привет сестре ван Генд… Ой, как холодно! — добавил он. — Так холодно, что голова с плеч валится. Пойдемте—ка лучше домой.
— Ну и что же, что холодно, неженка ты этакий! — вскричал Карл, усердно выписывая для упражнения фигуру, которую он называл «двойным лезвием». — Хорошо бы мы сейчас катались, будь теперь так же тепло, как в декабре прошлого года! Неужели не ясно, что, если б эта зима не была на редкость холодной да еще ранней, нам не пришлось бы отправиться в путешествие?
— А я считаю на редкость холодным сегодняшний вечер, — сказал Людвиг. — Ой, какой мороз! Кто куда, а я домой!
Питер ван Хольп вынул золотые часы луковицей и, повернув их к лунному свету, насколько ему позволяли окоченевшие пальцы, вскричал:
— Слушайте, уже почти восемь часов! Сейчас явится святой Николаас, а я хочу посмотреть, как будут на него дивиться малыши. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — закричали все и, сорвавшись с места, помчались, крича, распевая песни и хохоча.
А где же были Гретель и Ханс?
Ах, как внезапно порой кончается радость!
Они катались около часа, держась в стороне от прочих, совершенно довольные друг другом. И Гретель только успела воскликнуть: «О, Ханс, как чудесно, как хорошо! Подумать только, теперь у нас обоих есть коньки! Говорю тебе, это аист принес нам счастье!» — как вдруг они услышали что—то…
Это был крик, очень слабый крик. Никто на канале не обратил на него внимания; Ханс догадался сразу, что случилось. Гретель увидела при лунном свете, как он побледнел и поспешно сорвал с себя коньки.
— Отец! — крикнул Ханс. — Он испугал маму!
И Гретель побежала следом за ним к дому со всей быстротой, на какую была способна.
Глава IX. Праздник святого Николааса
Мы все знаем, что еще до того, как рождественская елка заняла подобающее ей место в домашнем быту нашей родины Америки, некий «развеселый старый эльф» в санках, запряженных «восемью крошечными северными оленями», привозил множество игрушек на крыши наших домов и затем спускался по дымовой трубе, чтобы наполнить чулки детей, с надеждой вывешенные ими у камина. Друзья величали его «Санта—Клаус», а наиболее близкие осмеливались называть «Старый Ник». Говорят, он впервые пришел к нам из Голландии. Несомненно, так оно и было; но, подобно многим другим иностранцам, он, высадившись на наш берег, резко изменил свои повадки. В Голландии святой Николаас — настоящий святой и зачастую появляется там в полном парадном облачении: в расшитых одеждах, сверкающих золотом и драгоценными камнями, в митре, с посохом и в перчатках, украшенных самоцветами. В Америке веселый Санта—Клаус является 25 декабря — в рождественское утро. В Голландии святой Николаас посещает землю 5 декабря, в день своего праздника. Рано утром 6–го он раздает детям сласти, игрушки и прочие сокровища, затем пропадает на целый год.
В день рождества голландцы только ходят в церковь, а потом в гости к родственникам. Зато в канун праздника святого Николааса голландская детвора просто с ума сходит от радостного ожидания. Надо, впрочем, сказать, что для некоторых ожидание не очень приятно, так как святой любит говорить правду в глаза, и, если кто—нибудь из ребят в этом году вел себя плохо, он не постесняется сказать об этом. Иногда он приносит под мышкой березовую розгу и советует родителям задать детям головомойку вместо сладостей и трепку вместо игрушек.
Хорошо, что в этот ясный зимний вечер наши мальчики поспешили домой: не прошло и часа, как святой появился чуть ли не во всех домах Голландии. Он пришел в королевский дворец и в то же самое мгновение появился в уютном доме Анни Боуман. Подарки, которые его святейшество оставил в доме крестьянина Боумана, стоили, наверное, не больше серебряного полудоллара, но бывают случаи, когда бедняк больше радуется медной монете, чем богач куче золота.
В тот вечер младшие братья и сестры Хильды ван Глек были чрезвычайно взволнованы. Им позволили играть в большой гостиной, их одели в лучшие платья и за ужином дали каждому по два пирожных. Хильда была так же весела, как и все прочие. А почему бы и нет? Ведь она знала, что святой Николаас не вычеркнет из своего списка четырнадцатилетнюю девочку только за то, что она высока ростом и на вид почти взрослая. Напротив, он, может быть, постарается воздать должное такой великовозрастной девице. Почем знать? Поэтому Хильда резвилась, смеялась и танцевала так же радостно, как и самые маленькие дети, и была душой всех их веселых игр. Отец, мать и бабушка смотрели на нее одобрительно; так же смотрел и дедушка — до того, как закрыл себе лицо большим красным носовым платком, оставив непокрытой лишь верхушку своей ермолки. Этот носовой платок был флагом, возвещавшим о том, что дедушка собирается вздремнуть.
В начале вечера все забавлялись вместе и так расшалились, что казалось, будто дедушка отличается от самого маленького своего внучка только ростом. Больше того, иногда на лицах младших членов семейства мелькала тень торжественного ожидания, и они становились по—взрослому серьезными.
Дух веселья безраздельно царил в доме. Пламя и то плясало и подпрыгивало в начищенном до блеска камине. Две свечи, надменно взиравшие на небесное светило, начали подмигивать другим далеким свечам в зеркалах. В углу с потолка свешивался длинный шнур от звонка, снизанный из стеклянных бус, которые сеткой оплетали канат в руку толщиной. Обычно этот шнур висел в тени, и его никто не замечал; но сегодня вечером он сверкал сверху донизу. Его ручка из малинового стекла дерзко бросала красные блики на обои, окрашивая их красивые голубые полосы в пурпурный цвет. Прохожие останавливались послушать веселый смех, который доносился до улицы сквозь оконные занавески и рамы, затем шли своей дорогой, вспомнив, что сегодня вечером у всей деревни сна нет ни в одном глазу.
Наконец шум поднялся такой, что красный платок вдруг соскользнул с дедушкиного лица. Да и какой почтенный пожилой человек мог бы спать под такой гам! Мейнхеер ван Глек удивленно смотрел на своих детей. Даже самый маленький и тот хохотал до упаду. Давно пора было приступить к делу. Мать напомнила детям, что, если они хотят увидеть доброго святого Николааса, им надо спеть ту самую ласковую призывную песенку, которая привела его сюда в прошлом году.
Малыш выпучил глазенки и сунул в рот кулачок, когда отец спустил его на пол. Вскоре он уже сидел прямо и мило хмурил бровки на всю компанию. Весь в кружевах и вышивках, в чепчике из голубых лент и китового уса (ведь он еще не вышел из того возраста, когда ребята то и дело шлепаются на пол), он казался королем всех малышей на свете.
Остальные дети сейчас же взяли в руки по хорошенькой, ивовой корзиночке, стали в круг и завели медленный хоровод вокруг малыша, подняв глаза вверх, ибо святой, которого они сейчас собирались призвать своей песенкой, пока еще пребывал в каких—то таинственных областях. Мать негромко заиграла на рояле; вскоре зазвучали, голоса — нежные детские голоса, дрожащие от волнения, а потому казавшиеся еще милее.
Друг святой, приди к нам в гости!
Только с розгой не ходи!
Все приветствуем мы гостя,
И восторг у всех в груди!
А за то, в чем виноваты,
Побрани своих ребяток:
Мы поем, мы поем,
Наставлений скромно ждем!
О святой, приди к нам в гости,
В наш веселый дружный круг!
Все приветствуем мы гостя,
Всех ты радуешь, наш друг!
А подарки, просят дети,
Положи в корзинки эти,
Мы поем, мы поем!
Принеси нам радость в дом!
Так пели дети, и глаза их, исполненные страха и нетерпеливого ожидания, были устремлены на полированную двустворчатую дверь. Но вот послышался громкий стук. Круг разомкнулся мгновенно. Младшие дети со смешанным чувством ужаса и восторга прижались к коленям матери. Дедушка наклонился вперед, опершись подбородком на руку; бабушка сдвинула очки на лоб; мейнхеер ван Глек, сидевший у камина, неторопливо вынул пенковую трубку изо рта, а Хильда и другие дети в ожидании сгрудились вокруг него.
Стук послышался снова.
— Войдите, — негромко сказала мать.
Дверь медленно открылась, и святой Николаас в полном парадном облачении предстал перед своими почитателями. Стало так тихо, что и булавка не могла бы упасть неслышно! Но вскоре святой нарушил молчание. Какое таинственное величие звучало в его голосе! Как ласково он говорил!
— Карел ван Глек, я рад приветствовать тебя и твою почтенную вроу Катрину, а также твоего сына и его добрую вроу Анни!.. Дети, я приветствую всех вас — Хендрика, Хильду, Броома, Кати, Хейгенса и Лукрецию, и ваших двоюродных братьев и сестер — Вольферта, Дидриха, Мейкен, Вооста и Катринку! С тех пор как я в последний раз беседовал с вами, все вы, в общем, вели себя хорошо. Правда, в прошлую осень, на хаарлемской ярмарке, Дидрих грубил, но с тех пор он старался исправиться. Мейкен в последнее время плохо училась; слишком много конфет и всяких сластей попадало ей в рот и слишком мало стейверов в ее копилку для раздачи милостыни. Надеюсь, что Дидрих будет впредь вежливым, хорошим мальчиком, а Мейкен постарается достичь блестящих успехов в науках. Пусть она запомнит также, что экономия и бережливость — основа достойной и добродетельной жизни. Маленькая Кати не раз мучила кошку. Ведь святой Николаас слышит, как кричит кошка, когда ее дергают за хвост. Я прощу Кати, если она отныне твердо запомнит, что и самые маленькие бессловесные твари тоже умеют чувствовать и обижать их не надо.
Перепуганная Кати разревелась, а святой вежливо молчал, пока ее не успокоили.
— Тебя, Броом, — продолжал он, — я предупреждаю, что мальчики, которые повадились сыпать нюхательный табак в ножную грелку школьной учительницы, в один прекрасный день могут попасться и получить трепку…
Броом побагровел и выпучил глаза от величайшего изумления.
— Но ты прекрасно учишься, и я больше ни в чем не стану упрекать тебя… Ты, Хендрик, прошлой весной отличился на состязаниях в стрельбе из лука и попал в самый центр мишени, хотя перед нею раскачивали птичку, чтобы мешать тебе прицеливаться. Я воздаю тебе должное за твои успехи в спорте и гимнастических упражнениях… однако я не советую тебе участвовать в лодочных гонках, так как у тебя остается слишком мало времени для школьных занятий… В эту ночь Лукреция и Хильда будут спать спокойно. Они добры к людям, преданы своим близким, охотно и весело слушаются взрослых дома, и все это принесет им счастье. Объявляю, что я очень доволен всеми и каждым. Доброта, прилежание, благожелательность и бережливость процветали в вашем доме. Поэтому благословляю вас, и пусть Новый год застанет вас всех вступившими на путь послушания, мудрости и любви! Завтра вы найдете более существенные доказательства моего пребывания среди вас. Прощайте!
Не успел он сказать эти слова, как целый ливень леденцов посыпался на полотняную простыню, разостланную перед дверью. Началась всеобщая свалка. Дети чуть не падали друг на друга, спеша наполнить леденцами свои корзинки. Мать осторожно придерживала малыша в этой толкотне, пока он не стиснул несколько леденцов в своих пухлых кулачках.
Тогда самый смелый из мальчиков вскочил и распахнул закрытую дверь… Но тщетно заглядывали дети в таинственную комнату: святой Николаас исчез бесследно.
Вскоре все устремились в другую комнату, где стоял стол, накрытый тончайшей белоснежной скатертью. Трепеща от возбуждения, дети поставили на него по башмаку. Дверь заперли крепко—накрепко, а ключ спрятали в спальне матери. Потом все перецеловались, желая друг другу спокойной ночи, поднялись торжественной семейной процессией на верхний этаж, весело распрощались у дверей своих спален — и наконец молчание воцарилось в доме ван Глеков.
***
На другой день рано утром все домашние собрались у запертой двери. Дверь торжественно отперли, распахнули — и что же? Всем взорам представилось зрелище, доказавшее, что святой Николаас свято держит свое слово.
Каждый башмак был полон до краев, и рядом с ним лежали пестрые груды всяких вещей… Стол ломился под грузом подарков: сластей, игрушек, безделушек, книг и всякой всячины. Каждый получил подарки, начиная с дедушки и кончая малышом.
Маленькая Кати восторженно хлопала в ладоши, давая себе обещание, что у кошки теперь не будет никаких горестей. Хендрик скакал по комнате, размахивая над головой великолепным луком и стрелами. Хильда смеялась от радости, открывая малиновый футляр и вынимая из него сверкающее ожерелье. Все остальные захлебывались от счастья, любуясь своими сокровищами и восклицая то «ох!», то «ах!» — точь—в–точь, как мы, американцы, в прошлогоднее рождество.
Держа в руках сверкающее ожерелье и стопку книг, Хильда протиснулась к родителям и протянула им свое сияющее личико для поцелуя. Взгляд ее ясных глаз был исполнен такой искренней нежности, что мать, наклонясь к ней, шепотом благословила ее.
— Я в восторге от этой книги, благодарю вас, папа! — промолвила Хильда, дотрагиваясь подбородком до верхней книги в стопке. — Я буду читать ее весь день напролет.
— Да, милочка, — сказал мейнхеер ван Глек, — правильно сделаешь: Якобу Катсу равных нет. Если дочь моя выучит на память его «Моральные эмблемы», нам с матерью будет нечему учить тебя. Книга, которую ты держишь, — это и есть «Эмблемы», лучшее его произведение. Она украшена редкими гравюрами работы ван дер Венне.
Надо сказать, что корешка этой книги не было видно, и никто из присутствующих еще не успел открыть ее. Так что трудно объяснить, как мог мейнхеер ван Глек догадаться, какую книгу подарил его дочери святой Николаас. Странно также, что святой каким—то образом добыл вещи, сработанные старшими детьми, и положил их на стол, прикрепив к ним ярлычки с именами родителей, дедушки и бабушки. Но все были слишком поглощены своим счастьем, чтобы заметить эти маленькие несообразности. От Хильды не укрылось выражение восторга, которое всегда появлялось на лице ее отца, когда он говорил о Якобе Катсе; поэтому она положила свою стопку книг на стол и покорно приготовилась слушать.
Мейнхеер ван Глек говорил очень—очень долго. Длинная его речь на всем ее протяжении сопровождалась приглушенным хором лающих собак, мяукающих кошек и блеющих ягнят, не говоря уж о погремушке — сверчке из слоновой кости, которую малыш вертел с невыразимым упоением. В довершение всего маленький Хейгенс, придравшись к тому, что отец его повысил голос, осмелился затрубить в свою новую трубу, а Вольферт принялся аккомпанировать ему на барабане.
Добрый святой Николаас! Что до меня, я ради юных голландцев, пожалуй, признаю его и буду защищать от всех неверующих, доказывая, что он существует.
Карл Схуммель в тот день был очень занят: он по секрету доказывал маленьким детям, что это вовсе не сам святой Николаас к ним приходил. Просто их же родные отцы и матери привели в дом человека, переодетого святым, и сами завалили столы подарками. Но мы—то с вами лучше знаем, как все было на самом деле.
Однако, если это действительно приходил святой, почему же он в тот вечер не наведался в дом Бринкеров? Почему один этот дом, такой темный и печальный, был обойден?
Глава Х. Что видели и делали мальчики в Амстердаме
— Все здесь? — ликующе крикнул Питер, когда на следующий день вся компания рано утром собралась на канале, снаряженная для путешествия на коньках. — Посмотрим! Якоб назначил меня капитаном — значит, я обязан сделать перекличку. Карл Схуммель! Ты здесь?
— Йа!
— Якоб Поот!
— Йа!
— Бенджамин Добс!
— Йа—а!
— Ламберт ван Моунен!
— Йа!
— Вот это здорово! Мне не обойтись без тебя: ты один говоришь по—английски… Людвиг ван Хольп!
— Йа!
— Воостенвальберт Схиммельпеннинк!
Ответа нет.
— Ага! Постреленка не пустили. Ну, ребята, сейчас ровно восемь часов… Погода великолепная, а лед на Ае твердый, как скала, — через полчаса мы будем в Амстердаме. Раз, два, три, пошли!
Действительно, не прошло и получаса, как они перебрались через прочную каменную плотину и очутились в самом сердце огромного города. Окруженный стеной, он стоял на девяноста пяти островках, соединенных почти двумя сотнями мостов. Хотя Бен со времени своего приезда в Голландию уже был здесь два раза, он и сейчас видел многое такое, что его изумляло. Но его товарищи—голландцы, жившие тут поблизости всю жизнь, считали, что Амстердам — самый обыкновенный город и в нем нет ничего особенного. Бена же здесь интересовало все: высокие дома с раздвоенными трубами и островерхими фасадами; склады товаров, расположенные высоко под крышами купеческих домов, с длинными, вытянутыми, словно руки, стрелами подъемных кранов, которые поднимают и опускают товары перед самыми окнами квартир; величественные общественные здания, построенные на деревянных сваях, которые были глубоко забиты в болотистую почву; узкие улицы; каналы, пересекающие город во всех направлениях; мосты; шлюзы; разнообразные костюмы горожан и — самое удивительное — прилепившиеся к церквам лавки и жилые дома с необычайно длинными трубами, высоко поднимающимися вдоль священных стен этих зданий.
Если Бен смотрел вверх, он видел высокие дома, которые, казалось, наклонялись вперед и пронзали небо своими блестящими крышами. Если он смотрел вниз, перед глазами у него была диковинная улица без мощеных переходов на перекрестках и без поднятых над ее уровнем тротуаров: булыжная мостовая непосредственно переходила в кирпичные дорожки для пешеходов. Если глаза его останавливались на полпути, он видел маленькие, сложной конструкции зеркальца (голландцы называют их «шпионами»), прикрепленные снаружи почти к каждому окну и устроенные так, что люди в доме могут следить за всем происходящим на улице и рассмотреть всякого, кто постучит в дверь, сами оставаясь невидимыми.
Время от времени мимо него проезжала двуколка, нагруженная деревянными изделиями; проходил осел под вьюком из двух больших корзин, наполненных фаянсовой или стеклянной посудой; по голым булыжникам проезжали сани (полозья которых непрерывно смазывались маслом, капающим с масляной тряпки, а потому легко скользили по мостовой), а за ними следовала пышная неуклюжая семейная карета, запряженная темно—гнедыми фламандскими лошадьми с белоснежными хвостами.
Город облекся в праздничный наряд. Все магазины были разукрашены в честь святого Николааса. Не раз приходилось капитану Питеру отрывать свою команду от соблазнительных витрин, где были выставлены все игрушки, какие только можно вообразить. Нидерланды славятся этой отраслью промышленности. Всевозможные вещи копируются здесь в миниатюре на радость малышам. Замысловатые механические игрушки, которые голландский ребенок равнодушно швыряет куда попало, вызвали бы целый переполох в нашем американском Бюро патентов на изобретения. Бен не мог удержаться от смеха при виде игрушечных рыбачьих лодок. Тяжелые и приземистые, они так походили на те диковинные суда, которые он видел близ Роттердама. А крошечные трексхейты, всего в один — два фута длиной, но полностью оборудованные, прямо—таки не давали ему покоя: очень уж хотелось сейчас же купить такое суденышко в подарок братишке, оставшемуся в Англии! Но лишних денег у него не было, так как путешественники из свойственной голландцам осторожности решили взять с собой ровно столько денег, сколько требовалось на расходы каждому из мальчиков, и вручили общий кошелек Питеру. Поэтому Бен решил перенести всю свою энергию на осмотр достопримечательностей и как можно реже думать о своем маленьком братце Робби.
Он ненадолго зашел в Морское училище и позавидовал учащимся в нем юношам: в их распоряжении имелся полностью оснащенный бриг, а их койки—гамаки покачивались над сундуками и ларями. Потом заглянул в еврейский квартал, где живут богатые гранильщики алмазов и убогие продавцы платья, и так же наскоро осмотрел все четыре главные улицы Амстердама: Принсен—грахт, Кейзерс—грахт, Хейрен—грахт и Сингель. Эти улицы изгибаются полукругом, и первые три достигают более двух миль длины. Посредине каждой из них течет канал, а по обеим его сторонам тянется превосходная мостовая, окаймленная величественными зданиями. Ряды обнаженных вязов по берегам канала отбрасывали на лед сетку теней, и всюду здесь было так ослепительно чисто, что Бен сказал Ламберту:
— Этот город — какая—то окаменелая чистота!
К счастью, погода была такая холодная, что помешала ежедневной обильной поливке улиц и мытью окон. А не то наши юные экскурсанты не раз промокли бы до костей. Голландские хозяйки одержимы страстью к мытью, подметанию, протиранию, и занести грязь в их безукоризненно чистые дома — значит совершить чуть ли не преступление. Повсюду глубокое презрение ждет тех, кто, переступая порог, поленится натереть до блеска подметки своей обуви; а в иных местах посетители, входя в дом, обязаны снимать свои тяжелые башмаки.
Сэр Уильям Темпл в своих воспоминаниях «Что произошло в христианском мире с 1672 года по 1679–й» рассказывает о некоем важном судье, который зашел навестить одну амстердамскую жительницу. Дюжая молодая голландка открыла ему дверь и единым духом выпалила, что хозяйка — дома, но что башмаки гостя не очень чисты. Не добавив ни слова больше, она обхватила изумленного гостя обеими руками, взвалила его себе на спину, пронесла через две комнаты, посадила на нижнюю ступеньку лестницы и, схватив туфли, стоявшие поблизости, надела их ему на ноги. И только после этого она сказала, что хозяйка сидит наверху и гость может подняться к ней.
Катясь вместе с друзьями по людным каналам города, Бен смотрел на сонных горожан, которые лениво покуривали свои трубки с таким видом, словно сбей у них с головы шляпу — они и глазом не моргнут; и ему трудно было поверить, что голландцы когда—то поднимали восстания, не раз происходившие в стране; трудно поверить, что теперешние амстердамцы — потомки тех храбрых, самоотверженных героев, о которых он читал в истории Голландии.
Легко скользя по льду с товарищами, Бен рассказал ван Моунену о «погребальном» бунте, вспыхнувшем здесь, в Амстердаме, в 1696 году, когда женщины и дети вместе с мужчинами вышли на улицы. Шуточные похоронные процессии ходили по всему городу: люди решили показать бургомистру, что они не подчинятся новым правилам погребения умерших. Под конец они совершенно вышли из повиновения и грозили чуть ли не разнести весь город; так что бургомистр поспешил отменить постановление, оскорбившее народ.
— Вот на этом углу, — сказал Якоб, указывая на какие—то крупные строения, — пятнадцать лет назад огромные склады зерна провалились в трясину. Это были прочные здания, построенные на хороших сваях. Но в них ссыпали слишком много зерна — больше семидесяти тысяч центнеров, — и они рухнули.
Якобу трудно было рассказать такую длинную историю, и он остановился передохнуть.
— А ты—то почем знаешь, что туда ссыпали семьдесят тысяч центнеров зерна? — резко спросил Карл. — В то время ты еще из пеленок не вышел.
— Мне отец говорил, а он хорошо знает, как все было, — ответил Якоб. Отдышавшись, он продолжал: — Бен любит живопись. Давайте покажем ему какие—нибудь картины.
— Хорошо, — согласился капитан.
— Будь у нас время, Бенджамин, — сказал Ламберт ван Моунен по—английски, — я повел бы тебя в Стадхейс, дом городского управления. Вот там сваи так сваи! Здание построено на четырнадцати тысячах свай, и они забиты в землю на глубину семидесяти футов. Но что я хочу тебе показать — так это большую картину, на которой изображено, как ван Спейк взрывает свой корабль… Замечательная картина!
— Ван кто? — переспросил Бен.
— Ван Спейк. Неужели не помнишь? Битва с бельгийцами была в самом разгаре, и, когда он понял, что они его одолеют и захватят в плен корабль, он взорвал и его и себя вместе с ним, чтобы не сдаться врагу.
— А разве не ван Тромп взорвал корабль?
— Вовсе нет. Но ван Тромп тоже был храбрецом. Ему поставили памятник в Дельфт—хавне — там, где пилигримы сели на корабль, чтобы отправиться в Америку.
— Так. А что совершил ван Тромп? Ведь он был знаменитым голландским адмиралом, да?
— Да, он участвовал в тридцати с лишним морских сражениях. Он победил испанский флот и английский, а потом привязал швабру к верхушке мачты, объявляя этим, что он вымел англичан — очистил от них море. Голландцы умеют побеждать, братец ты мой!
— Замолчи! — вскричал Бен. — Привязал он швабру или нет, а все—таки англичане победили его в конце концов! Теперь я все вспомнил. Его убили где—то на нидерландском побережье в битве, которую выиграл британский флот. Обидно, а? — лукаво добавил он.
— Хм! Куда это мы попали? — воскликнул Ламберт, чтобы переменить разговор. — Слушай, все нас опередили… все, кроме Якоба. Ой, до чего он толстый! Мы и полпути не пройдем, как он раскиснет.
Бену, конечно, было приятно бежать на коньках рядом с Ламбертом, который хоть и был чистокровным голландцем, но воспитывался неподалеку от Лондона и по—английски говорил так же свободно, как по—голландски. И все же Бен не огорчился, когда капитан ван Хольп крикнул:
— Коньки долой! Вот и музей.
Музей был открыт, и в тот день вход в него был бесплатный. Путешественники вошли, шаркая ногами: по обыкновению всех мальчишек, которые, кажется, никогда не упускают этой возможности — так им нравится слышать шорох своих подошв, скользящих по натертому полу.
Музей в Амстердаме — это просто картинная галерея, в которой можно увидеть лучшие произведения голландских мастеров и, кроме того, около двухсот папок с редкими гравюрами.
Бен тотчас же заметил, что некоторые картины здесь висят на щитах, прикрепленных к стене шарнирами. Их можно поворачивать, как оконные ставни, и рассматривать при наиболее благоприятном освещении. Это приспособление очень помогло мальчикам, когда они любовались «Вечерней школой», маленькой жанровой картиной Герарда Доу, так как оно позволило им оценить ее блестящую технику: казалось, что картина освещена тем светом, что проникает в изображенные на ней окна. Питер отметил также красоты другой картины Доу, «Отшельник», и рассказал мальчикам несколько интересных анекдотов об этом художнике, родившемся в Лейдене в 1613 году.
— Целых три дня писать ручку швабры! — удивленно воскликнул Карл, отзываясь на слова капитана, который рассказывал о том, как необычайно медленно писал Доу.
— Да, брат, три дня. И, говорят, он потратил целых пять дней, отделывая руку на одном женском портрете. Видишь, как удивительно ярки и до мелочей выписаны все детали этой картины. Каждый день после работы он тщательно закрывал свои неоконченные произведения, а краски и кисти прятал в непроницаемые для воздуха ящики. Судя по всем рассказам, сама его мастерская была закупорена, как шляпная картонка. Художник всегда входил в нее на цыпочках и, кроме того, прежде чем начать работу, сидел неподвижно, пока не оседала легкая пыль, поднявшаяся, когда он вошел. Я где—то читал, что его картины кажутся еще лучше, если рассматривать их в увеличительное стекло. Он так напрягал глаза, обрабатывая мелкие детали, что уже в тридцать лет был вынужден носить очки. В сорок он видел совсем плохо и едва мог писать. Ему нигде не удавалось найти такие очки, которые помогли бы ему видеть яснее. Наконец одна бедная старая немка предложила ему попробовать ее очки. Они пришлись ему как раз по глазам и помогли писать так же хорошо, как раньше.
— Хм! — негодующе воскликнул Людвиг. — Вот это мне нравится! А как же эта старушка обходилась без очков, спрашивается?
— Ну, — рассмеялся Питер, — возможно, у нее были другие. Во всяком случае, она уговорила художника взять ее очки. Он был так благодарен, что изобразил на картине эти очки вместе с футляром и подарил ей. А старушка отдала эту картину бургомистру, за что получила пожизненную пенсию и до конца своих дней прожила безбедно.
— Ребята, — громким шепотом позвал Ламберт, — пойдемте посмотрим «Медвежью облаву»!
Это была прекрасная картина работы Пауля Поттера, голландского художника XVII века, писавшего замечательные произведения еще до того, как ему исполнилось шестнадцать лет. Мальчиков она привела в восхищение, так как им понравился ее сюжет. Они равнодушно прошли мимо выдающихся произведений Рембрандта и ван дер Хельста, но восторгались одной плохой картиной ван дер Венне, изображающей морской бой между голландцами и англичанами. Потом они, совершенно очарованные, стояли перед портретом двух маленьких мальчуганов, один из которых хлебал суп, а другой ел яйцо. По мнению наших путешественников, главное достоинство этой картины заключалось в том, что мальчишка, который ел яйцо, вымазал себе рожицу желтком, к величайшему удовольствию зрителей.
Следующей картиной, удостоившейся их внимания, было прекрасное изображение праздника святого Николааса.
— Смотри, ван Моунен, — сказал Вен Ламберту: — до чего хорошо написано лицо этого малыша! Он как будто знает, что заслужил трепку, но надеется, что святой Николаас еще не вывел его на свежую воду. Вот такие картины мне нравятся: они как будто рассказывают целую историю.
— Идемте, ребята! — крикнул капитан. — Уже десять часов, пора в путь!
Они поспешили на канал.
— Коньки на ноги!.. Готовы? Раз, два… Эй! Где же Поот?
И правда, где же был Поот?
В десяти ярдах от них во льду только что была прорублена квадратная прорубь. Питер заметил ее и, не говоря ни слова, быстро покатил к ней. Остальные, конечно, последовали за ним. Питер заглянул в прорубь. И все заглянули в нее, потом в тревоге уставились друг на Друга.
— Поот! — крикнул Питер, снова заглядывая в прорубь.
Полная тишина. Черная вода застыла недвижно; ее поверхность уже затягивалась ледяной пленкой.
Ван Моунен вернулся к Вену с таинственным видом:
— Кажется, у него когда—то был припадок?
— О господи! Был, — ответил перепуганный Бен.
— Ну, значит, с ним, очевидно, снова случился припадок в музее.
Мальчики сразу догадались, что нужно сделать, и вмиг сняли коньки. У Питера хватило присутствия духа зачерпнуть своей шапкой воды из проруби, и все помчались в музей.
Они действительно нашли бедного Якоба в припадке… но это был припадок сонливости. Мальчик лежал в укромном уголке галереи и храпел, как утомленный солдат. Громкий хохот, вызванный этим открытием, привлек сердитого сторожа.
— Что тут происходит? — крикнул он. — Прекратите бесчинство! Эй ты, пивной бочонок, проснись! — И он весьма бесцеремонно растолкал Якоба.
Как только Питер понял, что здоровью Якоба не угрожает опасность, он поспешил на улицу—вылить воду из своей бедной шапки. Пока он расстилал в ней носовой платок, чтобы уже обледеневшая подкладка не прикасалась к его голове, остальные мальчики спустились по лестнице, таща за собой ошалевшего спросонья и возмущенного Якоба.
Снова был отдан приказ отправляться в путь. Якоб наконец совсем проснулся. Лед здесь был немного шероховатый и с трещинами, но мальчики не унывали.
— По каналу побежим или по реке? — спросил Питер.
— Разумеется, по реке, — отозвался Карл. — Вот хорошо—то будет! Говорят, лед на ней отличный всю дорогу. Только по реке гораздо дальше.
Якоб Поот тотчас же заинтересовался этими словами.
— А я стою за канал! — крикнул он.
— Ну что ж, побежим по каналу, — решил капитан, — если только все согласны.
— Согласны! — крикнули мальчики довольно разочарованными голосами.
И капитан Питер помчался вперед, бросив:
— Отлично… За мной! Через час будем в Хаарлеме!
Глава XI. Большие мании и маленькие странности
Они катились во весь опор, как вдруг услышали грохот нагонявшего их амстердамского поезда.
— Эй! — крикнул Людвиг, бросив взгляд на железнодорожное полотно. — Кто обгонит паровоз? Ну—ка, давайте наперегонки!
Паровоз свистнул, должно быть возмущенный такой наглостью. Мальчики тоже свистнули… и пустились во всю прыть.
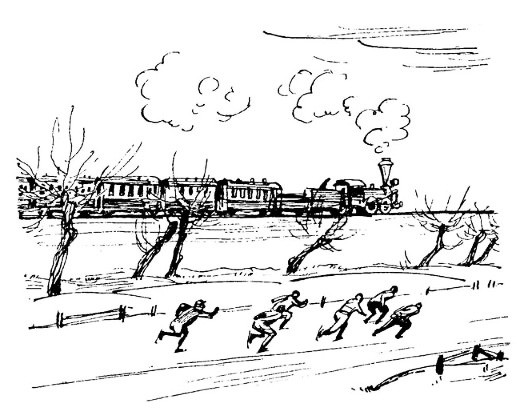
Секунду ребята мчались впереди, во весь голос крича «ура», — только секунду, но и это уже было кое—что. Успокоившись, они продолжали путь, не торопясь и позволяя себе разговаривать и шалить. Иногда они останавливались поболтать со сторожами, стоявшими на определенном расстоянии друг от друга по всему каналу. Зимой эти сторожа очищают лед от мусора и вообще от всего, что мешает движению. После метели они сметают со льда снежный пушистый покров, прежде чем он станет твердым и красивым, как мрамор, но очень неудобным для конькобежцев.
Порой мальчики настолько забывались, что шныряли между вмерзшими в лед судами, стоявшими где—нибудь в затоне. Но бдительные сторожа быстро выслеживали ребят и, ворча, приказывали им убираться прочь.
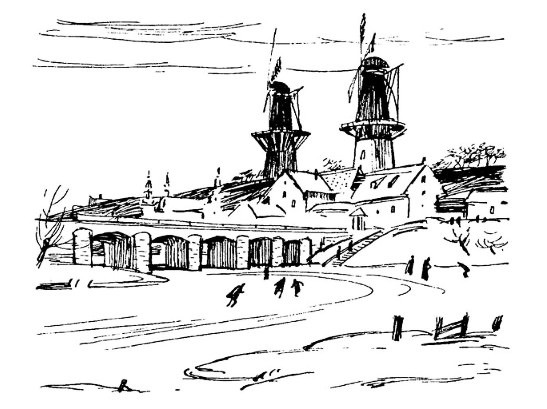
Канал, по которому мчался наш отряд, тянулся, прямой, как стрела, и таким же прямым был длинный ряд голых, тощих ив, растущих на берегу. На той стороне, высоко над окрестными полями, шла колесная дорога, проложенная на огромной плотине, которую построили, чтобы не дать разливаться Хаарлемскому озеру. Гладкий, как стекло, канал терялся вдали, и линии его берегов сходились в одной точке. По льду катилось множество конькобежцев, буеров с коричневыми парусами, кресел на полозьях и затейливых, легких, как пробки, маленьких санок, управляемых палкой с зубцом на конце. Бен был в восторге от всего, что видел.
Людвиг ван Хольп думал о том, как странно, что Бен, хоть и англичанин, знает о Голландии так много. Судя по словам Ламберта, Бен знал о ней больше, чем сами ее уроженцы. Это не очень нравилось юному голландцу, но вдруг ему вспомнилось нечто, способное, по его мнению, ошеломить «Шона Пуля». Он подкатил к Ламберту и с торжествующим видом крикнул:
— Расскажи—ка ему о тюльпанах!
Бен уловил слово «тульпен».
— Да—да, — горячо подхватил он по—английски, — тюльпаномания… Ты про нее говоришь? Я не раз о ней слышал, но знаю обо всем этом очень мало. Больше всего увлекались тюльпанами в Амстердаме, ведь да?
Людвиг досадливо крякнул. Слова Бена он понимал с трудом, но по его лицу безошибочно догадался, что тот знает и о тюльпанах. К счастью, Ламберт и не подозревал об огорчении своего юного соотечественника. Он ответил:
— Да, больше всего здесь и в Хаарлеме. Но этой страстью заразилась вся Голландия, да и Англия тоже, коли на то пошло.
— Вряд ли Англия, — сказал Бен, — но не знаю наверное, так как в те времена меня там не было.
— Ха—ха—ха! Это верно, если только тебе не стукнуло двухсот лет. Так вот, брат, ни до, ни после не было такого безумия. Люди тогда сходили с ума по тюльпановым луковицам и ценили их на вес золота.
— Как? За луковицы давали столько золота, сколько весит человек? — перебил его Бен, так широко раскрыв глаза от удивления, что Людвиг чуть не подпрыгнул.
— Да нет! Давали столько золота, сколько весила луковица. Первый тюльпан привезли сюда из Константинополя около 1560 года. Он вызвал такое восхищение, что амстердамские богачи послали в Турцию за другими тюльпанами. С тех пор ими начали безумно увлекаться, и это продолжалось много лет. Тюльпаны стоили от тысячи до четырех тысяч флоринов за штуку, а одна луковица, «Семпер Аугустус», была продана за пять с половиной тысяч.
— Это больше четырехсот гиней на наши деньги, — вставил Бен.
— Да, и я знаю это наверное — вычитал позавчера в книге Бекмана, переведенной на голландский язык. Да, брат, вот это здорово! Все и каждый спекулировали на тюльпанах — даже матросы с баржей, тряпичницы и трубочисты. Богатейшие купцы не стыдились предаваться этой страсти. Люди покупали и перепродавали луковицы, даже не видя их, однако наживали чудовищные прибыли. Это превратилось в своего рода азартную игру. Одни богатели в два — три дня, другие теряли все, что имели. Земли, дома, скот и даже одежду отдавали за тюльпаны, когда у людей не было наличных денег. Дамы продавали свои драгоценности и украшения, чтобы участвовать в этой игре. Все только о ней и думали. Наконец вмешались Генеральные штаты. Люди начали понимать, какие глупости они делают, и цены на тюльпаны пошли вниз. Уже нельзя было получить долги, оставшиеся от сделок с тюльпанами. Кредиторы обращались в суд, а суд отказывал им, объясняя, что долги, сделанные во время азартной игры, можно не платить. Ну и время тогда настало! Тысячи богатых спекулянтов за один час превратились в нищих. Как выразился старик Бекман: «Наконец—то луковица лопнула, как мыльный пузырь».
— Да, и немалый это был пузырь, — сказал Бен, слушавший с величайшим интересом. — Кстати, ты знаешь, что слово «тюльпан» происходит от турецкого слова «тюрбан»?
— Что—то не помню, — ответил Ламберт. — Но это очень любопытно. Представь себе лужайку, а на ней толпу турок, сидящих на корточках в своих пышных головных уборах — тюрбанах… Настоящая тюльпановая клумба! Ха—ха—ха! Очень любопытно!
«Ну вот, — мысленно проворчал Людвиг, — он рассказал Ламберту что—то интересное о тюльпанах. Так я и знал! »
— Надо сказать, — продолжал Ламберт, — что тюльпановая клумба очень напоминает толпу людей, особенно когда цветы кивают и покачивают головками на ветру. Ты когда—нибудь замечал это?
— Нет, не замечал. Но меня удивляет, ван Моунен, что вы, голландцы, и до сих пор страстно любите эти цветы.
— Еще бы! Без них не обходится ни один сад. По—моему, это самые красивые цветы на свете. У моего дяди в саду при его летнем домике на той стороне Амстердама есть великолепная клумба с тюльпанами самых лучших сортов.
— Я думал, твой дядя живет в городе.
— Ну да, но его летний домик, иначе говоря — павильон, стоит в нескольких милях от города. А другой домик он выстроил на берегу реки. Мы прошли мимо него, когда входили в город. В Амстердаме у каждого есть где—нибудь такой павильон, если позволяют средства.
— И в них живут, в этих павильонах? — спросил Бен.
— Что ты! Конечно, нет! Это маленькие строения, и годятся они только на то, чтобы летом проводить в них несколько часов после обеда. На южном берегу Хаарлемского озера есть очень красивые летние домики. Теперь, когда озеро начали осушать, чтобы превратить его дно в пахотную землю, вся их прелесть пропадет. Кстати, мы сегодня прошли мимо нескольких таких домиков с красными крышами. Ты, вероятно, заметил их. Помнишь — мостики, пруды, садики и надписи над входными дверьми?
Бен кивнул.
— Сейчас у них не особенно красивый вид, — продолжал Ламберт, — но летом они просто очаровательны. Как только на ивах появляются молодые побеги, дядя каждый день после обеда отправляется в свой летний домик. Там он дремлет и курит; тетя вяжет, поставив ноги на грелку, какая бы ни была жара; моя двоюродная сестра Рика и другие девочки из окна удят в озере рыбу или болтают со своими друзьями, когда те проезжают мимо на лодках, а малыши возятся поблизости или торчат на мостиках, переброшенных через канаву. Потом все пьют кофе с пирожными, а на столе стоит огромный букет водяных лилий. Там чудесно! Но, между нами, хоть и я родился здесь, я никогда не привыкну к запаху стоячей воды, а ею пахнет чуть не во всех загородных усадьбах. Почти все домики, которые ты видел, построены близ канав. Я, должно быть, потому так остро ощущаю этот запах, что долго жил в Англии.
— Может, и я почувствую его, — сказал Бен, — если наступит оттепель. К счастью для меня, ранняя зима покрыла льдом эти ароматные воды… и я ей очень благодарен. Без этого чудесного катанья на коньках Голландия понравилась бы мне гораздо меньше, чем она нравится сейчас.
— Как сильно ты отличаешься от Поотов! — воскликнул Ламберт, задумчиво вслушиваясь в слова Бена. — А ведь вы двоюродные братья… Мне это непонятно.
— Мы действительно двоюродные, или, скорее, всегда считали себя двоюродными, но на самом деле родство между нами не очень близкое. Наши бабушки были сводными сестрами. В нашей семье все — англичане; в его — голландцы. Наш прадедушка Поот, видишь ли, был женат два раза, и я — потомок его жены — англичанки. Однако я люблю Якоба больше, чем добрую половину своих родственников—англичан, вместе взятых. Он самый искренний, самый добродушный мальчик из всех, кого я знаю. Как ни странно это тебе покажется, но мой отец случайно познакомился с отцом Якоба во время деловой поездки в Роттердам. Они вскоре разговорились о своем родстве — по—французски, кстати сказать — и с тех пор переписываются на этом языке. Странные вещи случаются в жизни! Некоторые привычки тети Поот очень удивили бы мою сестру Дженни. Тетя — настоящая дама, но она так не похожа на мою мать… Да и дом у них, и обстановка, и образ жизни — все совсем не такое, как у нас.
— Конечно, — самодовольно согласился Ламберт, как бы желая сказать, что вряд ли можно где—нибудь, кроме Голландии, встретить такое совершенство во всем. — Но зато у тебя найдется много о чем порассказать Дженни, когда ты вернешься домой.
— Еще бы! И, уж во всяком случае, я скажу, что если чистоплотность, как полагают голландцы, почти равна набожности, то Бруку вечное спасение обеспечено. Я в жизни не видывал более опрятного места. Взять хотя бы мою тетю Поот: при всем своем богатстве она чуть ли не беспрерывно чистит что—нибудь, и у дома ее такой вид, словно он весь покрыт лаком. Вчера я писал матери, что вижу, как мой двойник неотступно ходит со мной, нога к ноге, в натертом полу столовой.
— Твой двойник? Я не понимаю этого слова. Что ты хочешь сказать?
— Ну, мое отражение, мой облик. Бен Добс номер два.
— Ах, так? Понимаю! — воскликнул ван Моунен. — А бывал ты когда—нибудь в парадной гостиной своей тети Поот?
Бен рассмеялся:
— Только раз — в день моего приезда. Якоб говорит, что мне не удастся войти в нее снова до свадьбы его сестры Кеноу, а свадьба будет через неделю после рождества. Отец позволил мне прогостить здесь до тех пор, чтобы участвовать в торжественном событии. Каждую субботу тетя Поот со своей толстухой Катье отправляется в гостиную и ну мести, скрести, натирать! Потом в комнате опускают занавески и запирают ее до следующей субботы. За всю неделю ни одна душа не входит туда, но тем не менее там все равно нужно делать уборку — «схоонмакен», — как выражается тетя.
— Что же тут особенного? В Бруке так убирают все гостиные, — сказал Ламберт. — А как тебе нравятся движущиеся фигуры в саду тетиных соседей?
— Ничего себе. Когда летом лебеди плавают по пруду, они, наверное, кажутся совсем живыми. Но китайский мандарин, что кивает головой в углу под каштанами, просто нелепый… Он годится только на то, чтобы смешить ребятишек. А потом, эти прямые садовые дорожки и деревья, сплошь подстриженные и раскрашенные! Прости, ван Моунен, но я никогда не научусь восхищаться голландским вкусом.
— На это нужно время, — снисходительно согласился ван Моунен, — но в конце концов ты обязательно оценишь его. Я многим восхищался в Англии, — и, надеюсь, меня отпустят туда вместе с тобой, учиться в Оксфорде, — но, в общем, Голландию я люблю больше.
— Ну разумеется! — сказал Бен тоном горячего одобрения. — Ты не был бы хорошим голландцем, если бы не любил ее. Что еще можно любить так горячо, как свою родину? Странно, однако, питать столь теплые чувства к столь холодной стране. Если бы мы не двигались без передышки, мы бы совсем замерзли.
Ламберт рассмеялся:
— У тебя английская кровь, Бенджамин! А вот мне вовсе не холодно. Посмотри на конькобежцев здесь, на канале: все румяные, как розы, и довольные, как лорды… Эй, славный капитан ван Хольп, — крикнул Ламберт по—голландски, — как думаешь, не зайти ли нам на ту ферму погреть ноги?
— А кто замерз? — спросил Питер оборачиваясь.
— Бенджамин Добс.
— Согреем Бенджамина Добса!
И отряд остановился.
Глава XII. На пути в Хаарлем
Подойдя к дверям фермы, мальчики внезапно оказались свидетелями оживленной семейной сцены. Из дома выбежал дородный голландец, а следом за ним неслась его дорогая вроу, яростно колотя его грелкой с длинной ручкой. Выражение ее лица отнюдь не обещало ребятам радушного приема, так что они благоразумно решили унести отсюда свои ноги и погреть их где—нибудь в другом месте.
Следующий домик казался более приветливым. Его пологая крыша, крытая ярко—красной черепицей, покрывала также безукоризненно чистый коровий хлев, пристроенный к жилому дому. Опрятная спокойная старушка сидела у окна и вязала. В соседнем окне, с частым переплетом, сверкающими стеклами и белоснежными гардинами, виден был профиль толстого человека с трубкой во рту. В ответ на негромкий стук Питера светловолосая румяная девушка в праздничном наряде открыла верхнюю половину зеленой двери (дверь разделялась посредине на две части) и спросила, что им угодно.
— Можно нам войти погреться, юфроу? — почтительно спросил Питер.
— Добро пожаловать! — ответила девушка, и нижняя половина двери бесшумно открылась тоже.
Прежде чем войти, все мальчики долго и добросовестно вытирали ноги о грубый коврик, и каждый из них отвесил изысканно вежливый поклон старушке и старику, сидевшим у окон. Бен готов был подумать, что это не люди, а такие же автоматы, как движущиеся фигуры в брукских садах. Старики, медленно и совершенно одинаково кивнув головой, размеренно и неторопливо, как заведенные, продолжали заниматься каждый своим делом. Старик все попыхивал и попыхивал трубкой, а его вроу постукивала вязальными спицами, словно внутри у нее вертелись зубчатые колеса. Даже настоящий дым, поднимавшийся из неподвижной трубки, не казался убедительным доказательством того, что эти старики — живые люди.
Зато румяная девушка!.. Ах, как она хлопотала! Как быстро она подвинула ребятам полированные кресла с высокими спинками и пригласила гостей присесть! Как ловко раздувала огонь в камине, заставив его пылать так, словно он был охвачен вдохновением! Как чуть не вызвала слезы на глазах у Якоба Поота, притащив огромную имбирную коврижку и глиняный кувшин с кислым вином! Как она смеялась и кивала, когда мальчики уплетали еду, словно дикие, хотя и смирные звери, и как удивилась, когда Бен вежливо, но твердо отказался от черного хлеба и кислой капусты! Как заботливо сняла с Якоба варежку, разорванную возле большого пальца, и заштопала ее на глазах у мальчика, откусив нитку зубами и сказав при этом: «Теперь будет теплее», — и, наконец, как ласково она пожала руку всем мальчикам по очереди и, бросив умоляющий взгляд на автоматическую старушку, набила пряниками карманы ребят!
Все это время вязальные спицы непрерывно постукивали, а трубка ни разу не забыла выпустить клуб дыма.
Пробежав изрядную часть дороги, ребята увидели замок Званенбург, его массивный каменный фасад и ворота, по обеим сторонам которых стояли башни, увенчанные изваяниями лебедей.
— Халфвег. Мы на полдороге, ребята, — сказал Питер. — Снимайте коньки.
— Видишь ли, — объяснял Ламберт своему спутнику, — в этом месте Ай сливается с Хаарлемским озером, и хлопот здесь не оберешься. Вода на пять футов выше земли, поэтому и плотины у нас и щиты на шлюзах должны быть прочны, не то сейчас же зальет. Говорят, устройство здешних шлюзов совершенно исключительное. Мы пройдем через них, и ты увидишь такое, что глаза вытаращишь. Весенняя вода в этом озере, как я слышал, лучше всех вод на свете белит полотно, и ею пользуются все крупные хаарлемские белильные фабрики. Об этом я не могу рассказать тебе подробно… но я расскажу кое—что из своего опыта.
— Да? Что же?
— В озере водится множество угрей, таких крупных, каких ты в жизни не видывал. Я часто ловил их здесь… Прямо чудовищные! И, знаешь, с ними нелегко бороться: если не поостережешься, вывернут руку из сустава. Но ты, я вижу, не интересуешься угрями. А замок огромный. Правда?
— Да. Но зачем на нем лебеди? Они имеют какое—нибудь особое значение? — спросил Бен, глядя на каменные башни у ворот.
— Мы, голландцы, можно сказать, почитаем лебедей. А от этих каменных лебедей замок получил свое название—Званенбург, то есть «Лебединый замок». Вот все, что я знаю. Это очень важное место: именно здесь устраиваются совещания специалистов по всем вопросам, касающимся плотин. Когда—то в замке жил знаменитый Кристьян Брюнингс.
— А кто он был такой? — спросил Бен,
— Питер ответил бы тебе лучше меня, — сказал Ламберт, — если бы только вы могли понимать друг друга и не цеплялись за свой родной язык. Впрочем, я часто слышал, как мой дедушка говорил о Брюнингсе. Он никогда не устает рассказывать нам об этом великом инженере: какой он был хороший, да какой ученый, да как после его смерти вся страна оплакивала его, словно друга. Брюнингс был членом многих ученых обществ и стоял во главе государственного департамента, ведающего плотинами и другими заградительными сооружениями, которые защищают страну от моря. Невозможно сосчитать, сколько усовершенствований он ввел на плотинах, шлюзах, водяных мельницах и тому подобных сооружениях. Ты знаешь, мы, голландцы, почитаем наших великих инженеров больше, чем всех прочих общественных деятелей… Брюнингс умер много лет назад. Ему поставили памятник в хаарлемском соборе. Я видел его портрет, и знаешь, Бен, лицо у него такое благородное! Неудивительно, что у замка важный и гордый вид: ведь он давал приют такому человеку, а это не пустяк!
— Вот именно, — сказал Бен. — Интересно знать, ван Моунен, будет ли когда—нибудь гордиться тобой и мной какое—нибудь старинное здание? Да, знаешь, в мире еще много чего остается сделать. Сейчас мы еще мальчики, но когда—нибудь нам придется заняться этим… Смотри, у тебя развязался шнурок на башмаке.
Глава XIII. Катастрофа
Было около часу дня, когда капитан ван Хольп и его команда вошли в прекрасный старинный город Хаарлем. С утра они пробежали на коньках около семнадцати миль, но все еще были свежи, как молодые орлы. Начиная с младшего (Людвига ван Хольпа, которому только что минуло четырнадцать лет) и кончая старшим, то есть самим капитаном, семнадцатилетним «старцем», все единодушно считали, что ни разу в жизни не испытывали такого удовольствия, как во время этого путешествия. Правда, когда они пробегали последние две — три мили, Якоб Поот совсем запыхался и, пожалуй, не прочь был заснуть еще разок. Но и он был весел и оживлен как никогда. Даже Карл Схуммель, очень подружившийся с Людвигом за время экскурсии, теперь перестал язвить. Что касается Питера, он чувствовал себя счастливейшим из счастливых и, катясь по льду, пел и свистел так радостно, что, заслышав его, самые степенные прохожие улыбались.
— Вот что, ребята: пора завтракать, — сказал он, когда они подошли к одной кофейне на главной улице. — Надо нам поесть чего—нибудь посытнее, чем пряники той хорошенькой девушки.
И капитан сунул руки в карманы с таким видом, словно хотел сказать: «Денег хватит накормить целую армию!»
— Смотрите, — крикнул вдруг Ламберт, — что с ним? Питер, весь бледный, хлопал себя по груди и бокам… уставившись куда—то в пространство. Он был похож на человека, который внезапно сошел с ума.
— Он заболел! — вскрикнул Бен.
— Нет, что—то потерял, — сказал Карл.
Питер едва выговорил:
— Кошелек… со всеми нашими деньгами… исчез!
На мгновение все замерли, пораженные, не в силах вымолвить ни слова.
Но вот Карл проворчал:
— Глупо было отдавать все деньги одному. Так я и говорил с самого начала… Поищи кошелек в другом кармане.
— Искал… нет его там.
— Расстегни нижнюю куртку.
Питер машинально повиновался. Он даже снял шапку и заглянул в нее; потом в отчаянии стал шарить по всем своим карманам.
— Потерял, ребята! — проговорил он наконец безнадежным тоном. — Ни завтрака у нас не будет, ни обеда, Что же делать? Мы не можем идти дальше без денег. Будь мы в Амстердаме, я мог бы достать денег сколько нужно, но в Хаарлеме мне не у кого занять ни стейвера. Может, кто из вас знает здесь человека, который мог бы одолжить нам несколько гульденов?
Мальчики озадаченно переглянулись. Потом что—то вроде улыбки обежало весь круг, но, достигнув Карла, превратилось в хмурую гримасу.
— Это никуда не годится, — резко проговорил он. — Я знаю тут нескольких человек — все богатые люди, но отец жестоко высечет меня, если я займу у кого—нибудь хоть медяк. Он велел написать над воротами нашего летнего домика: «Честному человеку не нужно брать в долг».
— Хм! — откликнулся Питер, в эту минуту не особенно восхищаясь подобным изречением.
Мальчики сразу почувствовали волчий голод.
— Это моя ошибка, — покаянным тоном сказал Вену Якоб по—английски: — я первый сказал: пускай все мальчики положат свой кошелек в деньги ван Хольпа… то есть свои деньги в…
— Глупости, Якоб, ведь ты хотел сделать лучше! Бен выпалил это с таким жаром, что оба ван Хольпа и Карл разом пришли к одному и тому же убеждению: очевидно, Бен придумал, как немедленно спасти отряд.
— Что? Что? Скажи, ван Моунен, что он говорит! — закричали они.
— Он говорит: Якоб не виноват, что деньги потеряны… Он старался сделать как можно лучше, когда предложил ван Хольпу взять наши деньги и положить их в свой кошелек.
— И это все? — разочарованно проговорил Людвиг. — Не стоило так горячиться, чтобы сказать только это. Сколько денег мы потеряли?
— Или ты забыл? — сказал Питер. — Все мы внесли ровно по десяти гульденов. В кошельке было шестьдесят гульденов. Такого дурака, как я, во всем мире не сыщешь! Малыш Схиммельпеннинк и тот лучше меня сумел бы исполнить обязанности капитана. Я готов отдубасить самого себя за то, что так огорчил вас!
— Ну и отдубась! — проворчал Карл. — Фу! — добавил он. — Все мы знаем, что произошла несчастная случайность, но толку от этого мало. Нам надо добыть денег, ван Хольп, хотя бы тебе пришлось продать свои замечательные часы.
— Продать подарок матери? Часы, которые она подарила мне в день рождения? Никогда! Я продам свою куртку, шапку, только не часы.
— Полно, полно, незачем так волноваться, — вмешался Якоб. — Давайте вернемся домой, а через день—два опять тронемся в путь.
— Ты, может, и получишь еще десять гульденов, — сказал Карл, — но нам, всем прочим, это не так легко. Уж если мы вернемся домой, мы дома и останемся, будь уверен!
Тут капитан, еще ни на минуту не терявший своего добродушия, внезапно возмутился.
— Ты думаешь, я позволю вам страдать из—за моей небрежности? — воскликнул он. — Дома у меня в несгораемом ящике лежит втрое больше, чем шестьдесят гульденов!
— Ах, прости, пожалуйста! — не замедлил отозваться Карл еще более угрюмым тоном. — В таком случае, я вижу лишь один выход: давайте возвращаться домой голодными.
— А я вижу более хороший выход, — сказал капитан.
— Какой? — закричали мальчики.
— А вот какой: стойко перенесем неприятность и повернем назад, не унывая, как настоящие мужчины, — проговорил Питер.
И, когда товарищи посмотрели на его открытое лицо и ясные голубые глаза, он показался им таким смелым и красивым, что они заразились его бодростью.
— Хо! Да здравствует капитан! — закричали они.
— А теперь, ребята, давайте—ка убедим себя в том, что нет на свете места лучше Брука и мы постановили прибыть туда ровно через два часа! Согласны?
— Согласны! — крикнули все в один голос и пустились бежать к каналу.
— Коньки на ноги!.. Готовы? Позволь, я тебе помогу, Якоб. Ну! Раз, два, три… пошли!
И, когда по этому сигналу мальчики покинули Хаарлем, лица у них были почти такие же веселые, как полчаса назад, когда отряд входил в город во главе с капитаном Питером.
Глава XIV. Ханс
— Дондер эн бликсем! (Гром и молния!) — сердито вскричал Карл, прежде чем отряд успел отбежать на двадцать ярдов от городских ворот. — Смотрите, вон бежит на своих деревяшках оборванец в заплатанных штанах. Этот малый шляется всюду, чтоб ему провалиться! Счастье, — язвительно добавил он, — если наш капитан не прикажет нам остановиться, чтобы пожать ему руку.
— Ваш капитан ужасный человек, — шутливо проговорил Питер, — но это ложная тревога, Карл: я не вижу среди конькобежцев твоего пугала… А, вот он! Но что с ним такое, с этим парнем?
Бедный Ханс! Лицо у него было бледное, губы крепко сжаты. Он скользил по льду, как во сне, как в страшном сне. Когда он поравнялся с мальчиками, Питер окликнул его:
— Добрый день, Ханс Бринкер!
Лицо у Ханса посветлело:
— Ах, мейнхеер, это вы? Вот хорошо, что мы встретились!
— Ну и нахал! — зашипел Карл Схуммель, с презрением обгоняя спутников, которые, кажется, были склонны задержаться вместе со своим капитаном.
— Рад вас видеть, Ханс, — приветливо откликнулся Пbтер. — Но вы, кажется, чем—то расстроены… Не могу ли я помочь вам?
— Я и вправду расстроен, — ответил Ханс, опустив глаза. Но вдруг он снова взглянул на Питера, почти радостно, и добавил: — На этот раз Ханс может помочь мейнхееру ван Хольпу.
— Как? — спросил Питер, не пытаясь со свойственной голландцам прямотой скрыть свое изумление.
— А вот так: Ханс вернет вам это, — и Ханс протянул ему потерянный кошелек.
— Ура! — заорали ребята и, вынув застывшие руки из карманов, радостно замахали ими.
А Питер только сказал: «Благодарю вас, Ханс Бринкер», — но таким тоном, что Хансу показалось, будто сам король стал перед ним на колени.
Крики ликующих ребят долетели до закутанных ушей того молодого господина, что катил в сторону Амстердама, весь кипя подавляемой яростью. Мальчик—американец сейчас же повернул бы назад и поспешил бы удовлетворить свое любопытство, но Карл только остановился и, стоя спиной к своему отряду, старался угадать, что могло случиться. Так он стоял, не двигаясь, пока не догадался, что только возможность позавтракать могла вызвать столь пылкое «ура». Повернувшись, он медленно покатил обратно к своим возбужденным товарищам.
Между тем Питер отвел Ханса в сторону.
— Как вы догадались, что это мой кошелек? — спросил он.
— Вчера вы заплатили мне три гульдена за цепочку из тюльпанового дерева и посоветовали купить коньки.
— Да, помню.
— Тогда я и видел ваш кошелек: он из желтой кожи.
— А где вы нашли его сегодня?
— Утром я вышел из дому очень расстроенный. Катил, не глядя себе под ноги, да и налетел на какие—то бревна. Стал растирать себе колено и тут увидел ваш кошелек: он завалился под бревно.
— Так вот, значит, где! Ну, теперь я все понимаю: когда мы пробегали мимо этих бревен, я, помнится, вытащил из кармана свой шарф, а вместе с ним, должно быть, выпал и кошелек. Не будь вас, Ханс, он пропал бы. Вот что, — и Питер высыпал деньги на ладонь: — сделайте нам удовольствие — позвольте разделить эти деньги с вами…
— Нет, мейнхеер, — ответил Ханс.
Он сказал это спокойно, без всякого притворства и жеманства, но Питер почувствовал себя так, словно ему сделали выговор, и, не говоря ни слова, положил серебро обратно в кошелек.
«Богат он или беден, а мне этот малый нравится», — подумал он и громко сказал:
— Можно спросить, чем вы расстроены, Ханс?
— Ах, мейнхеер, случилось несчастье… Но рассказывать долго, а я и так задержался. Я спешу в Лейден, к знаменитому доктору Букману…
— К доктору Букману? — удивленно переспросил Питер.
— Да. И мне нельзя терять ни минуты. До свидания!
— Подождите, я тоже направляюсь туда… Вот что, ребята: давайте—ка вернемся в Хаарлем, хорошо?
— Хорошо! — громко закричали мальчики и пустились в обратный путь.
— Слушайте… — начал Питер, придвигаясь поближе к Хансу, и оба они покатили рядом, так легко и свободно скользя по льду, как будто и не чувствовали, что движутся, — слушайте, в Лейдене мы остановимся, и если вы идете туда только затем, чтоб пригласить доктора Букмана, то хотите — я сделаю это за вас? Ребята, наверное, слишком устанут сегодня, чтобы бежать так далеко, но я обещаю вам повидать доктора завтра рано утром, если только он в городе.
— Ну, этим вы действительно помогли бы мне! Не расстояния я боюсь — боюсь оставлять мать одну.
— Разве она больна?
— Нет, не она — отец. Вы, должно быть, слышали об этом; слышали, что он душевнобольной вот уже много лет… с тех самых пор, как была построена большая мельница Схолоссен. Но телом он всегда был здоров и крепок. А вчера вечером мать стала на колени перед камином, чтобы раздуть огонь в торфе. У отца ведь только и есть одна радость: сидеть и смотреть на тлеющие угли, и мать то и дело раздувает их поярче, чтобы доставить удовольствие больному. И вот не успела она пошевельнуться, как отец бросился на нее, словно великан, и пихнул ее чуть ли не в самый огонь; а сам все смеялся и тряс головой… Я был на канале, как вдруг услышал крик матери и побежал к ней. Отец не выпускал ее из рук, и платье на ней уже дымилось. Я попытался затушить огонь, но отец оттолкнул меня одной рукой. Будь в доме вода, мне удалось бы залить пламя… А отец все время смеялся таким страшным смехом, почти беззвучно, только лицо у него кривилось… Тогда — это было ужасно, но не мог же я допустить, чтобы мать моя сгорела, — я ударил его… Ударил табуретом. Он отпихнул меня. Платье мамы уже загоралось… Необходимо было затушить его… Я плохо помню, что было потом. Я очнулся на полу, а мать молилась… Мне показалось, что вся она объята пламенем, и я услышал странный смех отца. Моя сестра Гретель крикнула, что он держит мать совсем близко к огню, — сам я ничего не мог разобрать!.. Тут Гретель кинулась в чулан, положила в миску любимое кушанье отца и поставила ее на пол. Тогда он бросил мать и пополз к миске, как маленький ребенок. Мать не обожглась, только платье ее было прожжено в одном месте… До чего нежна она была с отцом всю эту ночь, как ухаживала за ним, не смыкая глаз!.. Он заснул в сильном жару, прижав руки к голове. Мать говорит, что в последнее время он часто прижимает руки к голове, словно она у него болит… Эх, не хотелось мне рассказывать вам все это! Будь мой отец в своем уме, он не обидел бы и котенка.
Минуты две мальчики катили молча.
— Ужасно! — вымолвил наконец Питер. — А как он чувствует себя сегодня?
— Очень плохо.
— К чему вам идти за доктором Букманом, Ханс? В Амстердаме есть другие врачи, и они, быть может, помогли бы вашему отцу… Букман — знаменитость, его приглашают только самые богатые люди, да и те иногда не могут дождаться его.
— Он обещал мне… он вчера обещал мне прийти к отцу через неделю… но теперь, когда отцу так плохо, мы не можем ждать… Нам кажется, что он, бедный, умирает… Пожалуйста, мейнхеер, попросите доктора прийти поскорее… Не станет же он откладывать свой приход на целую неделю, когда наш отец умирает… Меестер такой добрый!..
— Такой добрый? — повторил Питер удивленно. — Но его считают самым жестким человеком в Голландии!
— Он только кажется таким, потому что он очень худой и всегда озабоченный, но я знаю — сердце у него доброе. Передайте меестеру то, что я рассказал вам, и он придет.
— От всего сердца надеюсь на это, Ханс. Но я вижу — вы спешите домой. Обещайте мне, что, если вам понадобится дружеская помощь, вы обратитесь к моей матери в Бруке. Скажите, что это я послал вас к ней. И вот еще что, Ханс Бринкер… не как награду, но как подарок… возьмите хоть несколько гульденов.
Ханс решительно покачал головой:
— Нет—нет, мейнхеер… не возьму. Вот если бы мне найти работу в Бруке или на Южной мельнице… Но повсюду отвечают одно и то же: «Подождите до весны»,
— Хорошо, что вы об этом сказали! — горячо проговорил Питер. — У моего отца найдется для вас работа теперь же. Ему очень понравилась ваша красивая цепочка. Он сказал: «Этот малый чисто работает; он будет мастерски резать по дереву». В нашем новом летнем домике дверь будет резная, и отец хорошо заплатит за эту работу.
— Слава богу! — вскричал Ханс, радуясь неожиданному предложению. — Вот было бы хорошо! Я еще ни разу не брался за большую работу, но с этой справлюсь. Знаю, что справлюсь.
— Прекрасно! Так скажите моему отцу, что вы тот самый Ханс Бринкер, о котором я говорил. Он охотно поможет вам.
Ханс посмотрел на Питера с искренним удивлением:
— Благодарю вас, мейнхеер.
— Ну, капитан, — крикнул Карл, стараясь казаться как можно более кротким, чтобы сгладить свое недавнее поведение, — мы теперь в самом центре Хаарлема, а от тебя еще не слышали ни слова!.. Ждем твоих приказаний. Мы голодны, как волки.
Питер весело ответил ему что—то и поспешно обернулся к Хансу:
— Пойдемте с нами, поедим вместе, и я не буду вас больше задерживать.
Какой быстрый печальный взгляд бросил на него Ханс! Питер и сам не понимал, как это он до сих пор не догадался, что бедному мальчику хочется есть.
— Нет, мейнхеер, может, в эту самую минуту я нужен матери… может, отцу стало хуже… Мне нельзя мешкать. Храни вас бог! — И Ханс, торопливо кивнув, повернулся в сторону Брука и скрылся из виду.
— Ну, ребята, — со вздохом сказал Питер, — теперь идемте завтракать!
Глава XV. Родные дома
Не следует думать, что наши юные голландцы уже позабыли о больших конькобежных состязаниях, которые должны были состояться двадцатого числа. Напротив, они весь день очень часто думали и говорили об этом. Даже Бен, — хотя он больше других чувствовал себя путешественником, — и тот, какими бы видами он ни любовался, не забывал о желанных серебряных коньках, день и ночь носившихся перед ним, как видение, вот уже целую неделю.
Как истый Джон Будь, по выражению Якоба, он не сомневался, что его английская стремительность, английская сила и другие английские качества помогут ему когда угодно посрамить на льду всю Голландию, да, пожалуй, и весь мир. Бен действительно был отличный конькобежец. Ему не пришлось тренироваться так часто, как его новым товарищам, и все же он насколько возможно развил свои способности; кроме того, он был так крепко сложен, так гибок — короче говоря, был всегда и всюду таким подтянутым, подобранным, проворным, ловким, что кататься на коньках было для него так же естественно, как верблюду бежать, а орлу парить.
Только бедный Ханс, у которого было так тяжело на сердце, не мечтал о серебряных коньках ни в ту звездную зимнюю ночь, ни в тот ясный солнечный день.
Гретель — та, сидя рядом с матерью в долгие, утомительные часы дежурства у постели больного, видела в своих мечтах серебряные коньки, но видела не как приз, который можно получить, а как безнадежно недоступное сокровище.
Рихи, Хильда и Катринка — те ни о чем другом не думали: «Состязания! Состязания! Они состоятся двадцатого!»
Все три девочки дружили между собой. И по возрасту, и по способностям, и по общественному положению они почти не отличались друг от друга, но натуры у них были совсем разные.
С Хильдой ван Глек вы уже знакомы — это была четырнадцатилетняя девочка с добрым, благородным сердцем. Рихп Корбес была хороша собой — гораздо ярче и красивее Хильды; но душа у нее была совсем не такая ясная и солнечная. Тучи гордости, недовольства и зависти уже собирались в ее сердце и день ото дня все росли и темнели. Конечно, они, как всякие тучи, часто рассеивались, но, когда разражалась буря и лились слезы, кто же был их свидетелем? Только служанка Рихи да ее отец, мать и маленький брат — словом, все те, кто больше всего любил ее. И, как всякие тучи, тучи в душе Рихи нередко принимали странные формы: все то, что на самом деле было пустяками, призрачным плодом воображения, превращалось в чудовищные обиды и в препятствия, непреодолимые, как горы. Для Рихи бедная крестьянская девочка Гретель не была человеком, таким же, как сама Рихи, — она была лишь чем—то напоминающим о бедности, лохмотьях и грязи. Такие, как Гретель, думала Рихи, но имеют права чувствовать и надеяться, а главное, они не должны становишься поперек дороги тем, кто богаче их. Они могут на почтительном расстоянии трудиться и работать на богатых, даже восхищаться ими, но восхищаться смиренно, и только. Если они возмущаются, подавляйте их; если они страдают, не беспокойте этим меня — вот каков был тайный девиз Рихи. А ведь как она была остроумна, с каким вкусом одевалась, как прелестно пела! Какие нежные чувства она испытывала (к любимым котятам и кроликам) и как она умела пленять умных, славных ребят вроде Ламберта ван Моунена и Людвига ван Хольпа!
Карл — тот был слишком похож на нее характером, чтобы серьезно увлекаться ею; а быть может, он побаивался «туч». Ему, скрытному и угрюмому, всегда чем—нибудь очень недовольному, конечно, больше нравилась живая Катринка, которая казалась созданной из множества звонких колокольчиков. Она была кокеткой в младенчестве, кокеткой в детстве, кокеткой теперь, в свои школьные годы. Без всякого злого умысла она кокетничала со своими занятиями, своими обязанностями, даже со своими маленькими горестями. (Горести ее не одолеют, ну нет!) Она кокетничала с матерью, с любимым ягненком, с маленьким братишкой, даже со своими золотыми локонами — когда отбрасывала их назад с притворным презрением. Всем она нравилась, но кто мог полюбить ее? Она ни к чему не относилась серьезно. Милое личико, милое сердечко, милые манеры—все это пленяет только на час. Бедная счастливая Катринка! Все ей подобные так весело звенят и бренчат в юности! Но жизнь не прочь, в свою очередь, пококетничать с ними и нарушить строй их нежных колокольчиков или заставить их умолкнуть один за другим.
Как отличались родные дома этих трех девочек от покосившейся, ветхой лачуги Гретель!
Рихи жила недалеко от Амстердама, в красивом доме, где резные буфеты были заставлены серебряными и золотыми сервизами, а с потолка до полу свешивались шелковые гобелены.
Отец Хильды владел самым большим домом в Бруке. Его блестящая кровля из полированных черепной обитый тесом фасад, раскрашенный в несколько разных цветов, вызывали восхищение всей округи.
В миле от него стоял дом Катринки, и он был самым красивым из всех голландских загородных домов. Сад при нем был разбит так правильно, дорожки так симметрично делили его на отдельные участки, что птицы могли бы принять его за огромную китайскую головоломку, все составные части которой лежат в полном порядке. Но летом сад был прекрасен; цветы тут всячески старались украсить свое симметричное жилище, и, если садовник не следил за ними, как чудесно они пылали, наклонялись и обвивали друг друга! А какая там была тюльпановая клумба! Королева фей и та не стала бы искать лучшего замка для своих придворных приемов! Но Катринка больше любила клумбу с розовыми и белыми гиацинтами. Ей нравились их свежесть и аромат и беспечность, с какой их колокольчики покачивались на легком ветерке.
Карл был и прав и неправ, когда сказал, что Катринка и Рихи бесятся при одной мысли, что крестьянка Гретель будет участвовать в состязаниях. Он слышал, как Рихи однажды заявила, что это «ужасно, постыдно, просто позор!», а эти слова как по—английски, так и по—голландски—самые сильные выражения, какие вправе употребить возмущенная девочка. Карл видел также, что Катринка при этом кивнула своей хорошенькой головкой, и слышал, как она нежно повторила: «Постыдно, позор!» — подражая Рихи, насколько звон колокольчиков способен подражать голосу, исполненному неподдельного гнева. Этого Карлу было довольно. Ему и в голову не пришло, что если бы не Рихи, а Хильда первая заговорила о Гретель с Катринкой, «колокольчики» так же охотно и звонко стали бы вторить словам Хильды. Катринка тогда, наверное, сказала бы: «Конечно, пусть участвует вместе с нами», — и умчалась бы прочь, тотчас же позабыв обо всем. Но теперь Катринка с милой горячностью заявила: «Позор, что из—за какой—то гусятницы, никудышной девчонки Гретель, состязания будут испорчены».
Рихи, богатая и влиятельная (в школьной жизни), имела, кроме Катринки, других сторонников, которые разделяли ее мнение, так как сами были или слишком беззаботны, или слишком трусливы, чтобы думать самостоятельно.
Бедная маленькая Гретель! Теперь в ее родном доме было очень тяжело и печально. Рафф Бринкер стонал на своей жесткой постели, а его вроу, забыв и простив все, смачивала водой его лоб и губы, плача и молясь о том, чтобы он не умер. Ханс, как мы уже знаем, в отчаянии отправился в Лейден отыскивать доктора Букмана и, если удастся, упросить его сейчас же приехать к отцу. Гретель, в каком—то необъяснимом страхе, по мере сил сделала всю работу по дому: вымела неровный кирпичный пол, принесла торфу, развела нежаркий огонь и растопила лед для матери. Сделав все это, она присела на низенький табурет у кровати и стала упрашивать мать вздремнуть хоть ненадолго.
— Ты так утомилась! — шептала она. — Ты всю ночь не сомкнула глаз с того страшного часа. Видишь, я оправила ивовую кровать в углу и положила на нее все, что только нашлось мягкого, чтобы моей маме было удобно спать. Вот твоя кофта. Сними свое красивое платье; я очень аккуратно сложу его и уберу в большой сундук, — ты и заснуть не успеешь, а оно уже будет убрано.
Тетушка Бринкер покачала головой, не отрывая глаз от мужнина лица.
— Я буду дежурить при отце, мама, — умоляла Гретель, — и разбужу тебя, как только он пошевельнется! Ты такая бледная, а глаза у тебя совсем красные… Ну мама, пожалуйста, ляг!
Но девочка просила тщетно: тетушка Бринкер отказалась покинуть свой пост.
Гретель, расстроенная, молча смотрела на нее и раздумывала о том, очень ли это плохо любить мать больше, чем отца… Ведь, прижимаясь к матери с горячей любовью, почти с обожанием, она понимала, ясно понимала, что отца она только боится.
«Ханс очень любит папу, — думала она, — а почему я не могу так любить его? Однако я не могла удержаться от слез в тот день, когда месяц назад он схватил нож и порезался так, что из руки у него потекла кровь… И теперь, когда он стонет, как у меня болит душа! Может быть, я все—таки люблю его и я вовсе не такая скверная, злая девчонка, какой себя считаю? Да, я люблю бедного папу… почти как Ханс… Не совсем — ведь Ханс сильнее и не боится его. Ох, неужели он не перестанет стонать?.. Бедная мама, какая она терпеливая! Вот уж кто никогда не жалеет, как жалею я, о деньгах, что так непонятно пропали! Если бы отец мог хоть на минутку открыть глаза, посмотреть на нас, как смотрит Ханс, и сказать нам, куда девались мамины гульдены, я ничего другого не желала бы… Нет, желала бы… Я не хочу, чтобы бедный папа умер, чтобы он весь посинел и застыл, как сестренка Анни Боуман… я знаю, что не хочу… я не хочу, чтобы папа умер».
Мысли ее перешли в молитву. Бедная девочка даже не сознавала, когда эта молитва кончилась. Вскоре она уже смотрела на слабый огонек в затухающем торфе, мигавший едва заметно, но упорно — признак того, что когда—нибудь огонь может разгореться в яркое пламя.
Большой глиняный горшок с горящим торфом стоял у кровати; Гретель поставила его туда, чтоб «отец больше не дрожал», как она выразилась. Она смотрела, как пламя освещало ее мать, окрашивая алым светом полинялую юбку и придавая какую—то свежесть изношенному лифу. Девочке было приятно видеть, как сглаживались морщинки на усталом лице матери, когда отблеск пламени нежно мерцал на нем.
Затем Гретель принялась считать оконные стекла, разбитые и заклеенные бумагой, и наконец, обежав глазами все щели и трещины в стенах, устремила взгляд на резную полку, сделанную Хансом. Она висела невысоко, и Гретель могла дотянуться до нее. На полке лежала большая библия в кожаном переплете с медными застежками — свадебный подарок тетушке Бринкер от того семейства в Гейдельберге, для которого она работала.
«Ах, какой Ханс ловкий! Будь он здесь, он уже перевернул бы отца поудобнее, и тот перестал бы стонать… Как все это грустно! Если болезнь затянется, мы уже не сможем кататься на коньках. Придется мне отослать свои новые коньки назад той красивой барышне. Ни я, ни Ханс—мы и состязаний—то не увидим».
И глаза Гретель, до того совсем сухие, наполнились слезами.
— Не плачь, дитятко, — утешала ее мать. — Может, болезнь у него не такая тяжелая, как мы думаем. Отец ведь и раньше так хворал.
Гретель уже рыдала:
— Ох, мама, не только это… ты не все знаешь… Я такая плохая, такая злая!
— Ты, Гретель? Ты такая терпеливая и послушная! — И ясные удивленные глаза матери просияли. — Тише, милочка, ты разбудишь его.
Гретель спрятала лицо в коленях матери, стараясь удержаться от слез.
Ее ручонка, такая худенькая и смуглая, лежала в шершавой материнской ладони, огрубевшей от тяжелой работы, и они нежно сжимали одна другую. А вот Рихи — та содрогнулась бы, прикоснись к ней одна из этих рук…
Вскоре Гретель подняла глаза — теперь в них появилось то грустное и покорное выражение, которое, как говорят, часто бывает во взгляде бедных детей, — и пролепетала дрожащим голосом:
— Отец хотел сжечь тебя… да, хотел, я все видела… и при этом он смеялся!
— Тише, дочка!
Мать проговорила эти слова так порывисто и резко, что Рафф Бринкер, хоть он и был без сознания, слегка шевельнулся на кровати.
Гретель умолкла и, грустная, стала ощипывать неровные края дырки в праздничном платье матери. Здесь оно было прожжено… Счастье еще для тетушки Бринкер, что платье было шерстяное.
Глава XVI. Хаарлем. Мальчики слышат голоса
Насытившись и отдохнув, мальчики вышли из кофейни в тот миг, когда большие часы на площади, как и многие другие часы в Голландии, пробили два раза тем колоколом, который отбивает полчаса; это означало, что сейчас половина третьего.
Капитан был задумчив, так как печальный рассказ Ханса Бринкера все еще звучал у него в ушах. И, только когда Людвиг, смеясь, окликнул его: «Проснись, дедушка!» — он снова принялся выполнять обязанности доблестного вожака своего отряда.
— Эй вы, молодые люди, сюда! — крикнул он.
Ребята шли по городским улицам, но не по тротуару—они редко встречаются в Голландии, — а по выложенной кирпичом дорожке, примыкающей на одном уровне к булыжной мостовой.
В честь святого Николааса Хаарлем, так же как Амстердам, принял праздничный вид.
Навстречу мальчикам шел какой—то странный человек. Он был невысок ростом, в черном костюме и коротком плаще; на голове у него были парик и треугольная шляпа, с которой свешивался длинный креповый шарф.
— Кто это? — воскликнул Бен. — Что за странная фигура!
— Это аанспреекер (оповеститель), — сказал Ламберт. — Кто—нибудь умер.
— Разве здесь у вас все так носят траур?
— Нет. Аанспреекер распоряжается на похоронах; когда кто—нибудь умирает, он должен обойти всех друзей и родственников покойника и оповестить их.
— Что за странный обычай!
— Ну, — сказал Ламберт, — нам, пожалуй, не стоит особенно огорчаться той смертью, о которой он сейчас оповещает: я вижу — другой человек только что прибыл в мир, чтобы занять опустевшее место.
Бен удивленно взглянул на него:
— Почему ты знаешь?
— Видишь хорошенькую красную подушечку для булавок, что висит на той двери? — в свою очередь, спросил Ламберт.
— Да.
— Так вот: значит, родился мальчик.
— Мальчик? Как ты это узнал?
— Видишь ли, когда здесь, в Хаарлеме, родится мальчик, его родители вешают на дверь красную подушечку для булавок. Если бы родилась девочка, висела бы белая подушечка. В некоторых местах на дверь вешают более нарядные вещицы — сплошь обшитые кружевами, — и даже на самых бедных домах можно увидеть ленту или хотя бы веревочку, привязанную к дверному замку…
— Смотри! — чуть не взвизгнул Бен. — Так оно и есть; видишь белую подушечку на двери того дома с пристройкой и с такой чудной крышей?
— Я не вижу никакого дома с чудной крышей.
— Ну конечно, — сказал Бен, — я забыл, что ты местный житель; а мне здесь все крыши кажутся странными. Я говорю о доме, что стоит рядом с тем зеленым зданием.
— Верно, там родилась девочка. Вот что я тебе скажу, капитан, — крикнул Ламберт, без запинки переходя на голландский язык: — надо нам как можно скорей убраться с этой улицы! Она кишит грудными ребятами! Еще минута — и они поднимут дикий гвалт.
Капитан рассмеялся.
— Идем, я поведу вас слушать музыку получше этой, — сказал он. — Мы попали сюда как раз вовремя, чтобы послушать орган святого Бавона. Сегодня церковь открыта.
— Как! Огромный хаарлемский орган? — спросил Бен. — Вот замечательно! Я не раз читал о нем, о его громадных трубах и vox humana, который звучит, как голос гиганта.
— Он самый и есть, — ответил Ламберт ван Моунен.
Питер не ошибся. Церковь была открыта, хотя церковная служба в ней не шла. Но кто—то играл на органе. Когда мальчики вошли, навстречу им хлынул целый поток звуков. Казалось, он увлекал их, одного за другим, в темную глубину здания.
Все громче и громче звучала музыка, и наконец она перешла в шум и рев грозной бури или океана, ринувшегося на берег. Среди этого смятения вдруг послышался звон колокольчика. Ему начал вторить другой колокольчик, потом третий, и буря притихла, словно прислушиваясь к ним. Колокольчики осмелели: они звенели громко и звонко. Другие колокольчики, более низкого тона, присоединились к ним, и все зазвучали в торжественном единении: дин, дон! дин, дон! Но тут буря разразилась снова, с удвоенной яростью, и призвала отдаленные громы. Мальчики молча переглянулись. Совершалось нечто важное. Что это? Кто это кричит? Что кричит таким страшным мелодическим криком? Человек это или демон? Или какое—то чудовище, что сидит в плену за этой кованой медной рамой, за этими огромными серебряными колоннами… чудовище, отчаянным криком молящее о свободе? Это был vox humana.
Но вот послышался ответ, мягкий, нежный, любовный, как песня матери. Буря утихла; таившиеся где—то птички выпорхнули и огласили воздух радостной восторженной музыкой, поднимаясь все выше и выше, пока последний слабый звук не замер вдали.
Vox humana умолк; но в том великолепном благодарственном гимне, что зазвучал теперь, как будто слышалось биение человеческого сердца. Питеру и Бену эта музыка казалась ангельским пением. Глаза их затуманились, странная радость ошеломила душу. И вот, словно поднятые невидимыми руками, они уже уносились куда—то в потоке звуков, забыв об усталости и желая лишь одного: вечно слушать эту прекрасную музыку… Но вдруг кто—то нетерпеливо дернул ван Хольпа за рукав, и ворчливый голос прозвучал у него над ухом:
— Долго ты будешь тут сидеть, капитан, и щуриться на потолок, как больной кролик? Давно пора в путь.
— Тише! — прошептал Питер, еще не совсем очнувшись.
— Пойдем, братец! Пойдем! — сказал Карл, снова дернув Питера за рукав.
Питер нехотя обернулся. Он не мог задерживать мальчиков против их желания. Все, кроме Бена, смотрели на него укоризненно.
— Ну что ж, ребята, — прошептал он, — пойдемте! Только потише!
— Это самое замечательное, что я видел и слышал с тех пор, как приехал в Голландию! — с восторгом воскликнул Бен, как только они вышли на воздух. — Чудесно!
Людвиг и Карл лукаво подсмеивались над этой, как они выразились, «ваартал», то есть чушью. Якоб зевнул. Питер переглянулся с Беном — и оба сейчас же почувствовали, что они не так уж различны по складу, хотя один родился в Нидерландах, а другой в Англии.
А переводчик Ламберт поспешил откликнуться:
— И правда чудесно! Насколько я знаю, теперь есть и другие органы не хуже этого, но орган святого Бавона многие годы был самым лучшим в мире.
— А знаешь ты, как он велик? — спросил Бен. — Я заметил, что сама церковь необыкновенно высока, а ведь орган заполняет весь конец большого бокового придела от пола чуть ли не до потолка.
— Это верно, — сказал Ламберт. — А как хороши трубы!.. Точь—в–точь чудесные колонны из серебра. Но, знаешь, они здесь только для виду: настоящие трубы находятся сзади них, и некоторые так велики, что в них может влезть человек, а другие меньше детского свистка. Да, брат, эта церковь выше самого Вестминстерского аббатства, и все—таки, как ты сам сказал, орган кажется прямо громадным. Вчера вечером отец говорил мне, что высота этого органа сто восемь футов, ширина — пятьдесят футов, а труб у него свыше пяти тысяч. У него шестьдесят четыре регистра — если ты только понимаешь, что это такое, я же нет — и три клавиатуры.
— Тебе повезло, — сказал Бен. — У тебя прекрасная память. А моя — настоящее решето: не успеешь туда всыпать какие—нибудь цифры, как они уже высыпаются. Зато факты, исторические события — те застревают в ней… Все—таки утешение.
— Тут мы с тобой не похожи друг на друга, — сказал ван Моунен. — Я мастер запоминать имена и цифры, но история кажется мне непроходимыми дебрями.
Тем временем Карл и Людвиг вели спор насчет каких—то четырехугольных деревянных памятников, которые они видели в церкви. Людвиг утверждал, что на каждом из них написано имя человека, погребенного под этим памятником, а Карл настаивал, что никаких имен там нет, а только гербы умерших, изображенные красками на черном фоне, с датой кончины, написанной золотыми буквами.
— Мне лучше знать, — сказал Карл. — Я прошел к восточной стене посмотреть на застрявшее в ней пушечное ядро, о котором мне говорила мама. В тысяча пятьсот… не помню точно, каком году… подлые испанцы выстрелили из пушки в церковь, когда там шла служба. Ядро действительно осталось в стене. На обратном пути я осмотрел памятники. Уверяю тебя, на них нет никаких надписей.
— Спроси Питера, — сказал Людвиг, не вполне убежденный.
— Карл прав, — сказал Питер, который слышал спор, хотя сам в это время разговаривал с Якобом. — Так вот, Якоб, как я уже и говорил, великий композитор Гендель случайно приехал в Хаарлем и, конечно, сейчас же пошел искать этот знаменитый орган. Он получил разрешение на осмотр и начал играть на органе со всем присущим ему мастерством, как вдруг в церковь вошел местный органист. Вошел и остановился, пораженный: он и сам прекрасно играл, но такой музыки не слышал никогда. «Кто там? — крикнул он. — Если это не ангел и не дьявол, значит это Гендель!» Когда же он узнал, что это действительно великий композитор Гендель, он удивился еще больше. «Но как вам это удалось? — сказал он. — Вы совершили невозможное: нет в мире человека, который мог бы сыграть своими десятью пальцами те пассажи, какие сыграли вы. Человеческие руки не в силах управлять всеми этими клавишами и регистрами!» — «Знаю, — спокойно ответил Гендель, — поэтому мне пришлось брать некоторые ноты кончиком носа…» Черт возьми! Представь себе старого органиста: как он, должно быть, выпучил глаза!
— А? Что? — встрепенулся Якоб, когда оживленный голос Питера внезапно умолк.
— Ты что ж, не слушал меня, что ли, болван ты этакий? — возмутился Питер.
— О да… нет… дело в том, что… вначале я слушал тебя… Сейчас я уже не сплю, но, очевидно, я шел рядом с тобой в полусне, — запинаясь, пробормотал Якоб, и лицо у него было такое оторопевшее и смущенное, что Питер не мог удержаться от смеха.
Глава XVII. Человек о четырех головах
Выйдя из церкви, мальчики остановились поблизости, на базарной площади, чтобы осмотреть бронзовую статую Лоурейса—Янзоона Костера, которого голландцы считают изобретателем книгопечатания. С ними спорят те, кто приписывает эту заслугу Иоганну Гутенбергу из Майнца. Многие утверждают даже, что слуга Костера, Фауст, в сочельник украл деревянные шрифты своего хозяина, когда тот был в церкви, а сам бежал со своей добычей и секретом изобретения в Майнц. Костер был уроженец Хаарлема, и голландцам, конечно, хочется приписать честь этого изобретения своему прославленному соотечественнику. Во всяком случае, первую книгу, напечатанную Костерем, город хранит в серебряном ларце завернутой в шелк и показывают ее с величайшими предосторожностями, как драгоценный памятник старины. Как говорят, мысль о возможности книгопечатания пришла в голову Костеру, когда он однажды вырезал свое имя на коре дерева и прижал к буквам лист бумаги.
Ламберт и его друг англичанин, разумеется, много говорили об этом. Они даже горячо поспорили насчет другого изобретения. Ламберт заявил, что и микроскоп и телескоп подарены миру двумя голландцами — Метиусом и Янсеном, а Бен столь же упорно отстаивал свое мнение, утверждая, что один английский монах, Роджер Бэкон, живший в XIII веке, «подробно написал обо всем этом… да, брат, и сделал исчерпывающее описание микроскопов и телескопов задолго до того, как те двое голландцев родились».
В одном только мальчики сошлись: а именно в том, что впервые научил людей заготавливать впрок и солить сельди голландец Вильгельм Беклес; Голландия правильно делает, почитая его благодетелем народа, так как своим богатством и положением она в большой мере обязана сельдяному промыслу.
— Удивительно, — сказал Бен, — в каком необычайном изобилии водится эта рыба! Не знаю, как здесь, но на побережье Англии, близ Ярмута, косяки сельди достигают шести — семи футов толщины.
— Это действительно необычайно, — сказал Ламберт. — А знаешь, английское слово «херринг» — селедка — происходит от немецкого «хеер» — войско. Так назвали рыбу потому, что она держится несметными полчищами.
Немного погодя, поравнявшись с какой—то сапожной мастерской, Бен воскликнул:
— Смотри, Ламберт, над ларьком сапожника написана фамилия одного из твоих величайших соотечественников! Бурхаав… Если бы только сапожника звали Герман Бурхаав, а не Хендряк, они были бы тезками, а не только однофамильцами.
Ламберт наморщил брови, стараясь вспомнить.
— Бурхаав… Бурхаав… Эта фамилия мне хорошо знакома. Помнится, он родился в 1668 году, но все остальное, по обыкновению, улетучилось у меня из памяти. Было, видишь ли, столько знаменитых голландцев, что запомнить их просто немыслимо. Кто он был такой? Не о нем ли говорили, что это человек о двух головах? Или он был великим путешественником, как Марко Поло?
— Он был не о двух, а о четырех головах, — со смехом подтвердил Бен, — так как это был великий врач, натуралист, ботаник и химик. Я сейчас очень увлекаюсь им, потому что месяц назад прочел его биографию.
— Ну, так выкладывай, — сказал Ламберт, — только шагай побыстрее, а то мы потеряем из виду наших ребят.
— Вот, — начал Бен, ускоряя шаг и с величайшим интересом наблюдая за всем, что происходило на людной улице, — этот доктор Бурхаав был великим анспевкером.
— Великим — чем? — во все горло крикнул Ламберт.
— Ах, прости, пожалуйста! Я думал о том человеке, которого мы встретили: о прохожем в треуголке. Ведь он анспевкер, да?
— Да. Вернее, он аанспреекер — вот как надо произносить это слово. Но при чем тут твой любимый герой о четырех головах?
— Так вот, я хотел сказать, что доктор Бурхаав в шестнадцать лет остался сиротой, без гроша, без образования, без друзей…
— Неплохо для начала! — вставил Ламберт.
— Не перебивай. В шестнадцать лет он был бедным, одиноким сиротой. Но он был так настойчив и трудолюбив, так твердо решил овладеть науками, что пробил себе дорогу и со временем сделался одним из ученейших людей Европы. Все его… А это что такое?
— Где? О чем ты говоришь?
— Вон там, на той двери, бумага. Видишь? Ее читают два — три человека; я уже заметил здесь несколько таких бумаг.
— Да это просто бюллетень о состоянии здоровья какого—то человека. В этом доме кто—то болен, и, чтобы избавить его от частых стуков в дверь, родственники пишут, как чувствует себя больной, и вешают это описание, как афишу, на входной двери для сведения друзей, что приходят справляться о его здоровье… Бесспорно, очень разумный обычай. В нем, по—моему, нет ничего странного. Продолжай, пожалуйста. Ты сказал «все его…» и не докончил.
— Я хотел сказать, — снова начал Бен, — что все ею… все его… Ну и смешно же здесь одеваются, право! Посмотри—ка на этих мужчин и женщин в шляпах, похожих на сахарные головы, и вон на ту тетушку впереди нас: ее соломенная шляпка совсем как совок — на затылке она суживается и кончается острием. Вот потеха! А ее громадные деревянные башмаки! Прямо загляденье!
— Все это люди из глухой провинции, — сказал Ламберт довольно нетерпеливо. — Придется тебе или бросить своего старика Бурхаава, или закрыть глаза…
— Ха—ха—ха! Так вот что я хотел сказать… Все его знаменитые современники искали с ним встречи. Даже Петр Первый, когда он из России приехал в Голландию учиться кораблестроению, регулярно посещал лекции этого прославленного профессора. К тому времени Бурхаав был уже профессором медицины, химии и ботаники в Лейденском университете. Занимаясь врачебной практикой, он очень разбогател, но всегда говорил, что его бедные пациенты — самые лучшие пациенты, так как за них ему заплатит бог. Вся Европа любила и почитала его. Короче говоря, он так прославился, что один китайский мандарин написал ему письмо с таким адресом: «Знаменитому Бурхааву, доктору, в Европе», и письмо дошло без задержек!
— Не может быть! Вот это действительно знаменитость!.. А наши ребята остановились. Ну, капитан ван Хольп, куда направимся теперь?
— Мы хотим двинуться дальше, — сказал ван Хольп. — В это время года не стоит осматривать Босх… Босх — это замечательный лес, Бенджамин, великолепная роща, где растут прекраснейшие деревья, охраняемые законом… Понимаешь?
— Йа! — кивнул Бен.
А капитан продолжал:
— Может быть, вы все хотите пойти в Музей естественной истории? А если нет, давайте вернемся на Большой канал. Будь у нас больше времени, хорошо было бы повести Бенджамина на Голубую лестницу.
— Что это за Голубая лестница, Ламберт? — спросил Бен.
— Это самая высокая точка на дюнах. Оттуда замечательный вид на океан, и, кроме того, можно хорошо рассмотреть, какое чудо сами дюны. С трудом верится, что ветер смог намести такие огромные гряды песку. Но, чтобы попасть туда, нам придется пройти через Блумендаль, а это не очень приятная деревня; кроме того, она довольно далеко отсюда. Что ты на это скажешь?
— Ну, я—то готов на все. Я даже, пожалуй, направился бы прямо в Лейден; но мы поступим так, как скажет капитан… А, Якоб?
— Йа, это хорошо, — промолвил Якоб, которому, впрочем, гораздо больше хотелось еще немного поспать, чем подниматься на Голубую лестницу.
Капитан стоял за то, чтобы направиться в Лейден.
— Отсюда до Лейдена четыре мили с лишком… Целых шестнадцать английских миль, Бенджамин. Если мы хотим попасть туда до полуночи, времени терять нельзя. Решайте быстрей, ребята: Голубая лестница или Лейден?
— Лейден, — ответили мальчики и, в одно мгновение вылетев из Хаарлема, побежали по каналу, любуясь высокими, как башни, ветряными мельницами и красивыми загородными усадьбами.
— Если хочешь видеть Хаарлем во всей его красе, — сказал Ламберт Вену, после того как они несколько минут катили молча, — ты должен приехать сюда летом. Нигде в мире нет таких прекрасных цветов. За городом тоже очень красиво — есть где погулять. А Босх — «Лес» — растянулся на много миль. Нельзя забыть его величественные вязы. Но голландские вязы не имеют себе равных: это самое благородное дерево на свете, Бен, кроме английского дуба…
— Да, кроме английского дуба, — важно проговорил Бен и на несколько мгновений перестал видеть канал, потому что Робби и Дженни замелькали в воздухе перед ним.
Глава XVIII. Друзья в беде
Между тем остальные мальчики слушали рассказ Питера об одном давнем событии, случившемся в той части города, где стоял древний замок. Его владелец так жестоко угнетал горожан, что они окружили и осадили замок. Когда опасность стала неминуемой, высокомерный владелец понял, что не выдержит осады, и уже готовился как можно дороже продать свою жизнь. Но тут его супруга вышла на крепостной вал и предложила осаждающим забрать все, что было в замке, если только ей самой позволят взять и сохранить все то из ее ценного имущества, что она сможет унести на своей спине. Ей обещали это, и вот владелица замка вышла из ворот: она несла на плечах своего мужа. Обещание, данное осаждающими, спасло его от их ярости; но зато они в отместку разорили замок.
— И ты веришь этой истории, капитан Питер? — спросил Карл недоверчиво.
— Конечно, верю. Это исторический факт. Почему я должен сомневаться в нем?
— Просто потому, что никакая женщина не смогла бы нести на спине взрослого мужчину; а и смогла бы, так не захотела бы. Вот мое мнение.
— А я верю, что многие женщины захотели бы. Разумеется, если бы дело шло о спасении горячо любимого человека, — сказал Людвиг.
Якоб при всей своей толщине и сонливости был довольно сентиментальным юношей и слушал с глубоким интересом.
— Все это правда, дружок, — сказал он, одобрительно кивнув, — я верю тут каждому слову. И сам я никогда не женюсь на женщине, которая с радостью не сделала бы того же ради меня.
— Помоги ей небо! — воскликнул Карл, оглядываясь на Якоба. — Одумайся, Поот! Поднять тебя? Да это ведь и троим мужчинам не под силу!
— Может, и нет, — спокойно ответил Якоб, чувствуя, что, пожалуй, потребовал слишком многого от будущей госпожи Поот, — но она должна хотеть этого, вот и все.
— Да, — весело воскликнул Питер, — как говорится, «Сердце захочет — ноги побегут»! А может, и руки понесут, почем знать!
— Питер, — спросил Людвиг, меняя тему разговора, — ты, кажется, говорил мне вечером, что художник Воуверманс родился в Хаарлеме?
— Да, а также Якоб Рейсдаль и Бергем. Мне нравится Бергем, потому что он был славный малый… Говорят, он во время работы всегда пел песни, и, хотя он умер около двухсот лет назад, в народе все еще рассказывают, как весело он смеялся. Он был великим художником, а жена у него была злая, как Ксантиппа.
— Они чудесно дополняли друг друга, — сказал Людвиг: — он был добрый, а она злая. Но, Питер, пока я не забыл: та картина, на которой изображен святой Губерт с конем, — она написана Воувермансом, да? Помнишь, отец вчера показывал нам гравюру, сделанную с нее.
— Да, помню. С этой картиной связана целая история.
— Расскажи! — крикнули двое — трое мальчиков, подъезжая поближе к Питеру.
— Воуверманс, — начал капитан тоном оратора, — родился в 1620 году, ровно на четыре года раньше Бергема. Он был мастером своего дела и особенно хорошо изображал лошадей. Как ни странно, люди так долго не признавали его таланта, что даже после того, как он достиг вершины своего мастерства, ему приходилось продавать свои картины очень дешево. Бедный художник совсем пал духом и, что еще хуже, был по уши в долгах. Однажды он беседовал о своих заботах с духовником, а тот был одним из тех немногих, кто понимал, как гениален художник. Священник решил поддержать его: дал ему в долг шестьсот гульденов и посоветовал продавать свои картины подороже. Воуверманс послушался и постепенно расплатился с долгами. Его положение сразу улучшилось. Все стали ценить великого художника, писавшего такие дорогие картины; он разбогател. Вернув священнику шестьсот гульденов, Воуверманс послал ему в знак благодарности картину, на которой изобразил своего благодетеля в виде святого Губерта, преклонившего колена перед своим конем. Это та самая картина, Людвиг, о которой мы говорили вчера вечером.
— Вот—вот! — вскричал Людвиг, очень заинтересованный. — Надо мне еще разок посмотреть эту гравюру, как только мы вернемся домой.
***
В тот самый час, когда Бен в Голландии вместе с товарищами бежали на коньках вдоль плотины, в Англии Робби и Дженни сидели в своем уютном классе на уроке чтения.
— Начинайте! Роберт Добс, — сказал учитель, — страница двести сорок вторая. Ну, сэр, обращайте внимание на все точки.
И Робби звонким детским голоском начал читать, крича на весь класс:
— «Шестьдесят второй урок. «Хаарлемский герой». Много лет назад в одном из главных городов Голландии, Хаарлеме, жил один тихий белокурый мальчик. Отец его был шлюзовщиком, то есть рабочим, который открывал и закрывал шлюзы — большие дубовые ворота. Они стоят на определенных расстояниях друг от друга поперек входа в каналы и регулируют уровень воды.
Шлюзовщик то поднимает, то опускает эти ворота, смотря по тому, сколько требуется воды, а вечером тщательно закрывает их, чтобы канал не переполнился. Ведь если это случится, вода быстро выйдет из берегов и затопит всю окружающую местность. Большая часть Голландии лежит ниже уровня моря, и вода только потому не затопляет страну, что ее останавливают мощные плотины, иначе говоря — заградительные сооружения. Останавливают ее и шлюзы, которые зачастую едва выдерживают напор прилива. В Голландии даже малые дети знают, что нужно постоянно сдерживать реки и океан и не давать им затопить страну. Даже минутная небрежность шлюзовщика может повлечь за собой всеобщее разорение и гибель…»
— Отлично, — сказал учитель. — Теперь Сьюзен!
— «В один ясный осенний день, когда мальчику было лет восемь, родители велели ему отнести печенье одному слепому, который жил за городом, по ту сторону плотины. Мальчик весело отправился в путь и, посидев около часа у своего старого друга, простился с ним и отправился домой.
Бодро шагая по берегу канала, он заметил, как поднялась вода после осенних дождей. Мальчик беззаботно напевал детскую песенку и думал о своих старых знакомцах — славных шлюзах отца, радуясь, что они такие прочные. «Ведь уж если они сдадут, — думал он, — что тогда будет с папой и мамой? Все эти прекрасные поля скроются под гневной водой, — папа всегда называет ее гневной: он, наверное, думает, что она злится на него за то, что он так долго сдерживает ее». Вот какие мысли мелькали у мальчика в голове, когда он нагибался и рвал по дороге красивые голубые цветы. Время от времени он останавливался, чтобы пустить по ветру пушистый шарик одуванчика, и смотрел, как он улетает. Порой он прислушивался к глухому шороху, кролика, бегущего в траве, но чаще всего улыбался, вспоминая, какой радостью светилось усталое, внимательное лицо его старого слепого друга…»
— Теперь Хенри, — сказал учитель, кивнув другому маленькому чтецу.
— «Но вдруг мальчик в тревоге оглянулся кругом. Он не заметил, как зашло солнце, и теперь только увидел, что на траве уже нет его собственной длинной тени. Темнело. Мальчик был все еще довольно далеко от дома, в уединенной ложбине, где даже голубые цветы казались серыми. Он ускорил шаги и с бьющимся сердцем стал вспоминать сказки о детях, заблудившихся поздно ночью в темном лесу. Он уже хотел пуститься бегом, но вздрогнул, услышав журчание текущей воды. «Откуда она течет?» — подумал он. Он поднял глаза и заметил в плотине небольшое отверстие, из которого вытекала тонкая струйка воды. В Голландии каждый ребенок содрогается при одной мысли о течи в плотине! Мальчик сразу понял, какая грозит опасность. Если воде не помешают течь, маленькое отверстие скоро сделается большим, и начнется ужасное наводнение.
Он сейчас же догадался, что ему надо делать. Бросив цветы, мальчик стал карабкаться на плотину, пока не добрался до отверстия. Почти бессознательно он сунул в отверстие свой пухлый пальчик. Струйка перестала течь! «Ну, — подумал он, посмеиваясь в детском восторге, — «гневная вода» теперь остановится! Она не затопит Хаарлем, пока я здесь!»
Вначале все было хорошо. Но теперь быстро надвигалась ночь; поднялся холодный туман. Наш маленький герой стал дрожать от холода и страха. Он громко кричал, он звал: «Сюда, сюда!» — но никто не приходил. Становилось все холоднее, пальчик у ребенка совсем онемел; потом онемела рука до плеча, и вскоре все тело его заныло. Он снова закричал: «Неужто никто не придет? Мама! Мама!» Но его мать, заботливая хозяйка, уже заперла дверь, твердо решив выбранить сына завтра утром за то, что он без ее позволения остался ночевать у слепого Янсена. Мальчик хотел было свистнуть, надеясь, что какой—нибудь запоздавший парнишка его услышит, но зубы его так стучали, что свистеть он не мог. Потом он стал просить помощи у бога и наконец пришел к самоотверженному решению: «Я останусь тут до утра…»
— Теперь Дженни Добс, — сказал учитель.
Глаза у Дженни блестели. Она глубоко вздохнула и начала:
— «Полночная луна освещала маленькую одинокую фигурку, примостившуюся на камне посредине склона плотины. Мальчик опустил голову, но не спал. Время от времени он судорожно тер слабой рукой другую, вытянутую руку, которая словно приросла к плотине, и не раз его бледное заплаканное личико быстро оборачивалось на какой—нибудь действительный или воображаемый шум.
Как можем мы понять, какие страдания испытал мальчик за эту долгую страшную вахту! Сколько раз он колебался в своем решении! Какие ребяческие ужасы представлялись ему, когда он вспоминал о теплой постельке дома, о своих родителях, братьях и сестрах, когда он смотрел в холодную, угрюмую ночь! Если он вытащит пальчик, думал он, «гневная вода» разгневается еще больше, устремится вперед и не остановится, пока не зальет всего города. Нет, он пробудет здесь до рассвета… если останется в живых! Он не был твердо уверен в том, что выживет… А почему у него такой странный шум в ушах? Что это за ножи колют и пронзают его с головы до ног? Теперь уже он подозревал, что не сможет вытащить палец, даже если захочет.
На рассвете один священник, навещавший больного прихожанина, возвращался домой по плотине и услышал стоны. Он наклонился и увидел далеко внизу, на склоне плотины, ребенка, который корчился от боли.
«Вот чудеса! — воскликнул он. — Мальчик, что ты там делаешь?»
«Я удерживаю воду, — просто ответил маленький герой. — Скорее зовите сюда людей…»
Нечего и говорить, что люди пришли быстро и что…»
— Дженни Добс, — сказал учитель, слегка раздражаясь, — если вы не можете владеть собой и читать внятно, мы подождем, пока вы не успокоитесь.
— Да, сэр, — пролепетала Дженни, совсем расстроенная.
Как ни странно, но в эту самую минуту Бен далеко за морем говорил Ламберту:
— Молодец мальчишка! Я не раз читал рассказы об этом случае, но до сих пор не знал, что это правда.
— Правда! Конечно, правда! — сказал Ламберт с жаром. — Я рассказал тебе эту историю так, как мне ее рассказывала мама несколько лет назад. В Голландии ее знает каждый ребенок. И вот еще что, Бен: тебе это, может, не пришло в голову, но в этом мальчугане воплотился дух всей страны. Где бы ни образовалась течь, миллионы пальцев будут готовы остановить ее любой ценой.
— Ну, все это громкие слова! — воскликнул Бен.
— Во всяком случае, это правдивые слова, — отозвался Ламберт таким сдержанным тоном, что Бен благоразумно решил не говорить ничего больше.
Глава XIX. На канале
Конькобежный сезон начался необычно рано, и, кроме наших мальчиков, по льду каталось много народу. День был такой погожий, что мужчины, женщины и дети решили повеселиться в праздник и толпами устремились на канал из ближних и дальних окрестностей. Святой Николаас, очевидно, вспомнил о любимом развлечении своей паствы: всюду мелькали сверкающие новые коньки. Целые семьи катились в Хаарлем, Лейден или соседние деревни. Лед, казалось, ожил. Бен заметил, как прямо держались и легко двигались женщины, как живописно и разнообразно они были одеты. Модные костюмы, только что прибывшие из Парижа, красовались среди полинявших, изъеденных молью нарядов, послуживших двум поколениям. Шляпы, похожие на ведерки для угля, обрамляли веснушчатые лица, сияющие праздничной улыбкой. Лопасти накрахмаленных кисейных чепчиков хлопали по румяным щечкам, пышущим здоровьем и довольством. Меха окутывали белоснежные шейки; скромные платья развевались по ветру, а лица их хозяек раскраснелись от быстрого бега… Короче говоря, здесь можно было наблюдать самую причудливую, порой даже комическую смесь одежд и лиц, какую только может создать Голландия,
Здесь были и лейденские красавицы, и рыбачки из прибрежных деревень, и женщины—сыроварки из Гауды, и чопорные хозяйки красивых усадеб с берегов Хаарлемского озера. То и дело встречались седовласые конькобежцы, морщинистые старухи с корзинами на голове и пухленькие малыши, которые катились на коньках, уцепившись за платья матерей. Некоторые женщины несли на спине грудных младенцев, крепко привязанных яркой шалью. Приятно было смотреть на них, когда они грациозно мчались или медленно скользили мимо, то кивая знакомым, то болтая друг с другом, то нежно нашептывая что—то своим закутанным малюткам.
Мальчики и девочки гонялись друг за другом, прячась за одноконными санями, высоко нагруженными торфом или бревнами и осторожно проезжавшими по отведенной им полосе льда, отмеченной знаком «безопасно». В спокойных глазах величавых красивых женщин сверкало веселье. Время от времени с быстротой электрического тока проносилась длинная вереница юношей, причем каждый держался за куртку товарища, бежавшего впереди него. А порой лед трещал под креслом какой—нибудь разряженной старухи — знатной вдовы или жены богатого бургомистра. Красноносые, с колючими глазами, эти дамы казались пугалами, изобретенными старым дедушкой—морозом для устрашения оттепели, грозящей его каткам. Кресло на блестящих полозьях тяжело скользило по льду, нагруженное ножными грелками и подушками, не говоря уж о самой старухе. Заспанный слуга толкал кресло вперед, не оглядываясь по сторонам, весь поглощенный своим делом, а его хозяйка бросала грозные взгляды на ораву визгливых сорванцов, неизменно сопровождавших ее вместо телохранителей.
Что касается мужчин, они казались воплощением безмятежного удовольствия. Некоторые были одеты в обычное городское платье, но многие имели очень своеобразный вид: они были в коротких шерстяных куртках с большими серебряными пряжками и в широчайших штанах. Бену они казались маленькими мальчиками, которые каким—то чудом внезапно выросли и были вынуждены носить одежду, наспех перешитую их матерями. Он заметил также, что почти все катившие мимо него мужчины держали в зубах трубки, которые пыхтели и дымили, как паровоз. Трубки были всевозможных сортов: от самых обыкновенных, глиняных, и до самых дорогих, пенковых, оправленных в серебро и золото. У некоторых головки имели форму каких—то необычайных, фантастических цветов, голов, жуков и всяких других предметов; другие были похожи на цветы «голландской трубки» — вьюнка, растущего в американских лесах. Изредка попадались красные трубки и очень часто — белоснежные. Но больше всего ценились трубки, которые постепенно приобрели темно—коричневый оттенок. Чем гуще и бархатистее был этот оттенок, тем, разумеется, больше ценилась сама трубка, как доказательство того, что хозяин добросовестно обкуривал ее, сознательно посвятив этому труду свои зрелые годы. Какая трубка не возгордится, если ей приносят такую жертву!
Некоторое время Бен скользил молча. Здесь столь многое привлекало его внимание, что он почти забыл о своих спутниках. Он смотрел на буера (лодки на полозьях), мчавшиеся по огромному замерзшему Хаарлемскому «морю» (точнее — озеру), которое было теперь хорошо видно с канала.
У буеров очень большие паруса — относительно больших размеров, чем у обыкновенных судов, — а корпус поставлен на треугольную раму со стальным полозом на каждом углу. Основание треугольника служит опорой для носа лодки, а противоположная ему вершина выдается назад, за корму. Буером управляют при помощи рулей, а движение их замедляют тормозами.
Каких только буеров здесь не было — от маленьких, грубо сколоченных лодчонок, управляемых мальчуганами, и до больших красивых судов, набитых веселыми пассажирами, с командой из опытных матросов, которые с очень важным видом и с величайшей точностью брали рифы, лавировали и правили рулем, не выпуская изо рта своих коротеньких трубочек…
Некоторые буера, аляповато раскрашенные и позолоченные, щеголяли яркими вымпелами на верхушках мачт; другие, белые как снег, с раздутыми ветром безукоризненно чистыми парусами, напоминали лебедей, подхваченных неодолимым течением. Бону, следившему издали за одним таким «лебедем», даже послышался с той стороны жалобный, испуганный крик. Но мальчик вскоре понял, что звук этот исходит от чего—то более близкого и гораздо менее романтичного: оказалось, что один буер, мчавшийся в полусотне ярдов, пустил в ход тормоза, чтобы не столкнуться с санями, гружеными торфом.
На канале буера, как правило, встречаются редко, и их появление обычно вызывает немалую тревогу среди конькобежцев, особенно — робких. Но сегодня казалось, будто все буера в стране поплыли, или, точнее, заскользили, в разных направлениях, и на канале их тоже было немало.
Бен восторженно любовался этим зрелищем, хотя не раз вздрагивал при стремительном приближении острокрылых неудержимых лодок, вечно грозивших неожиданно шарахнуться вправо или влево. Кроме того, ему приходилось напрягать всю свою энергию, чтобы не столкнуться с пробегавшими мимо него конькобежцами и помешать крикливым малышам сшибить его санками. Один раз он остановился посмотреть, как мальчишки делают во льду прорубь, готовясь ловить рыбу острогой. И только он собрался снова тронуться в путь, как вдруг, сам того не заметив, очутился на коленях у какой—то старой дамы, кресло которой налетело на него сзади. Старуха взвизгнула; слуга, толкавший кресло, предостерегающе зашипел. Но спустя секунду Бен извинялся уже перед пустым пространством: негодующая старуха была далеко впереди.
Однако это казалось лишь маленьким несчастьем в сравнении с тем, которое грозило ему теперь. Огромный буер мчался на всех парусах по каналу, и Бен чуть не окаменел при мысли о своей неминуемой гибели. Буер был у него за спиной! Мальчик увидел позолоченный нос, услышал окрик шкипера и свист длинного бушприта пронесшегося над его головой. Он на миг ослеп, оглох, онемел, но, открыв глаза, понял, что вертится на одном месте в нескольких ярдах позади громадного руля, похожего на конек. Буер пронесся, едва не задев его за плечо, но все—таки Бен спасся! Он спасся и уже знал, что снова увидит Англию, поцелует милые лица отца, матери, Робби, Дженни, молниеносно промелькнувшие перед ним одно за другим, — громадный бушприт как бы запечатлел эти образы в его душе. Бен понял теперь, как горячо он любит своих родных. Быть может, это помогло ему равнодушно отнестись к брани окружающих, которые, видимо, думали, что, если мальчик чуть не погиб, значит, он, бесспорно, скверный мальчишка и заслуживает немедленной головомойки.
Ламберт выругал его:
— Я уж думал, тебе конец пришел, растяпа! Что ж ты не смотришь, куда бежишь? Мало тебе усаживаться на колени ко всем старухам — ты еще бросаешься под полозья каждого встречного буера, как индусы под колесницу Джагернаута. Будешь зевать по сторонам — придется нам отдать тебя на попечение аанспреекеров!
— Пожалуйста, не отдавайте! — промолвил Бен с шутливым смирением, но, заметив, что у Ламберта побелели губы, добавил вполголоса: — Мне кажется, ван Моунен, что в один этот миг я успел передумать больше, чем за всю свою жизнь.
Ламберт не ответил, и некоторое время мальчики катились молча.
Вскоре они услышали слабый звон далеких колоколов.
— Слушай! — проговорил Бон. — Это что такое?
— Это куранты, — ответил Ламберт. — Вон в той деревенской церковке подбирают колокола. Ах, Бен, послушать бы тебе колокольный звон в Новой церкви в Дельфте! Вот это звон! Там около пятисот колоколов с очень мягким звуком, а звонарь — один из лучших в Голландии. Но это тяжелый труд: говорят, звонарь прямо—таки изнемогает и, отзвонив, сразу же ложится в постель. Колокола там, видишь ли, соединены с чем—то вроде клавиш, похожих на клавиши рояля. А ногами приходится нажимать на целый ряд педалей. Когда звонарь звонит в быстром темпе, он весь дергается — точь—в–точь как лягушка, пригвожденная шпилькой.
— Как тебе не стыдно! — возмутился Бен.
Питер к тому времени исчерпал весь свой запас анекдотов о Хаарлеме и, так как делать было больше нечего, пустился вместе со своими тремя спутниками догонять Ламберта и Бена.
— Англичанин неплохо бегает, — сказал Питер. — Он не уступит и чистокровному голландцу. Обычно Джоны Були, когда они на коньках, имеют довольно жалкий вид… Эй! Вот вы где, ван Моунен! А мы уж и не надеялись, что нам выпадет честь снова встретиться с вами. От кого это вы удирали с такой поспешностью?
— От вас, улиток! — отрезал Ламберт. — А вас что задерживало?
— Мы разговаривали… и, кроме того, постояли немного, чтобы дать передохнуть Пооту.
— Похоже, что он выбивается из сил, — сказал Ламберт вполголоса.
В эту минуту красивый буер с распущенными парусами и развевающимися вымпелами неторопливо скользил мимо них. Палуба его кишела детьми, закутанными до подбородка. Были видны только их улыбающиеся личики, обрамленные цветистыми шерстяными шалями. Они хором пели песню в честь святого Николааса. Мелодия, начатая вразброд, скоро была подхвачена сотней голосов и, окрепнув, зазвучала красиво и стройно:
Покровитель мореходов,
Добрый друг ребят,
Мчится вдаль под парусами
Юный наш отряд.
«Николаас! Николаас!» —
Голоса звучат.
Мы несемся в день морозный —
Воды подо льдом.
Друг, ты близко? Друг, ты слышишь?
Мы тебе поем!
«Николаас! Николаас!» —
Мы тебя зовем.
Солнце яркое весною
Весь растопит лед.
Если в сердце светит солнце,
Юность не уйдет.
«Николаас! Николаас!» —
Старость не придет.
Весел, счастлив, благодарен
Юный наш отряд;
Наставленья и подарки
Он принять был рад!
Николаас! Николаас! —
Щедрый друг ребят!
Глава XX. Якоб Поот меняет план
Последний звук песни замер вдали. Наши ребята пытались не отстать от буера, но тщетно: им казалось, будто они катятся назад. Они переглянулись.
— Вот красота! — воскликнул ван Моунен.
— Прямо как сон! — сказал Людвиг.
Якоб подкатил к Бену и, одобрительно кивая головой, сказал по—английски:
— Это хорошо. Это лучший способ. Я хочу сказать: лучше отправиться в Лейден на такой лодке.
— На буере! — ужаснулся Бен. — Что ты! Ведь мы решили путешествовать на коньках, а не сидеть на буере, как малые ребятишки.
— Тейвельс! (Черти!) — выругался Якоб. — Это не пустяк, не для ребятишек… на буере—то!
Мальчики смеялись, но смотрели друг на друга смущенно. Если б им выпал случай прокатиться на буере, вот была бы радость!.. Но отказаться от своей великолепной затеи?.. Позор!.. Кто решится на это?
Тотчас же возник оживленный спор.
Капитан Питер утихомирил свой отряд.
— Ребята, — сказал он, — по—моему, в этом вопросе нам нужно считаться с пожеланиями Якоба. Ведь это он первый предложил отправиться в экскурсию, не забудьте!
— Чушь! — язвительно усмехнулся Карл, бросив презрительный взгляд на Якоба. — А разве кто—нибудь из нас устал? Мы всю ночь будем отдыхать в Лейдене.
У Людвига и Ламберта лица были встревоженные и разочарованные. Не пустяк — отречься от славы, которую заслужишь, когда пробежишь на коньках весь путь от Брука до Гааги и обратно. Но оба согласились, что решать должен Якоб.
Добродушный, изнемогающий Якоб! Он сразу угадал настроение товарищей.
— Нет—нет, — сказал он по—голландски, — я пошутил. Мы, конечно, побежим на коньках.
Мальчики испустили восторженный крик и снова помчались с обновленными силами.
Все, кроме Якоба. Он всячески старался скрыть свою усталость и молчал, чтобы сберечь дыхание и энергию для тяжелой конькобежной работы. Но все было напрасно. Вскоре его тучное тело стало казаться ему все более и более тяжелым, ноги подкашивались и слабели. В довершение всего кровь Якоба, видимо стремившаяся удрать подальше ото льда, прилила к пухлым добродушным щекам, а лицо побагровело до корней редких светлых волос.
От этого недалеко до головокружения, про которое пишет славный Ханс Андерсен, того самого головокружения, что сбрасывает с гор отважных молодых охотников, или швыряет их вниз с самых острых пиков ледника, или одолевает их, когда они по камням переходят горный поток.
Незаметно подкралось головокружение и к Якобу. Сначала оно помучило его, то обдавая холодом с головы до ног, то опаляя, каждую его жилку лихорадочным огнем. Потом заставило канал дрожать и качаться под его ногами, а белые плывущие мимо паруса — кланяться и вертеться; и наконец оно тяжело швырнуло его на лед.
— Эй! — крикнул ван Моунен. — Поот шлепнулся!
Бен поспешно подскочил к нему:
— Якоб! Якоб, ты ушибся?
Питер и Карл уже поднимали Якоба. Лицо у него совсем побелело. Оно казалось мертвым; исчезло даже его добродушное выражение.
Собралась толпа. Питер расстегнул куртку бедному малому, развязал его красный шарф и подул в полуоткрытый рот.
— Отойдите в сторону, друзья! — крикнул он. — Дайте ему подышать воздухом!
— Положите его! — крикнула какая—то женщина из толпы.
— Поставьте его на ноги! — крикнула другая.
— Дайте ему вина, — проворчал толстяк, правивший санями с грузом.
— Да—да! Дайте ему вина! — подхватили все.
Людвиг и Ламберт крикнули в один голос:
— Вина! Вина! У кого есть вино?
Какой—то голландец с сонными глазами, в тяжелейшей синей куртке принялся с таинственным видом шарить у себя за пазухой, твердя при этом:
— Потише, молодые господа, потише! Ну и чурбан этот парень, если упал в обморок, как девчонка!
— Вина, скорее! — крикнул Питер, вместе с Беном растирая Якоба с головы до ног.
Людвиг умоляюще протянул руку голландцу, а тот с чрезвычайно важным видом все еще шарил у себя под курткой…
— Скорей же! Он умрет! Нет ли еще у кого вина?
— Он уже умер! — послышался из толпы зрителей чей—то испуганный голос.
Голландец вздрогнул.
— Осторожней! — сказал он, нехотя вынимая маленькую синюю фляжку. — Это шнапс (водка). Ему хватит и одного глотка.
И правда, одного глотка оказалось довольно. Бледное лицо мальчика чуть—чуть порозовело. Якоб открыл глаза и, не то растерянный, не то смущенный, сделал слабую попытку освободиться от тех, кто его поддерживал.
Теперь у нашего отряда не было другого выхода: надо было во что бы то ни стало доставить изнемогшего товарища в Лейден. Не приходилось и думать о том, чтобы он в этот день бежал дальше на коньках. По правде говоря, к этому времени все мальчики втайне уже начали мечтать о буерах, так что они по—спартански решили не покидать Якоба. К счастью, подул легкий северный ветер. Только бы нагнал их какой—нибудь покладистый шкипер, и, в общем, все устроится неплохо, думали они.
Питер махнул рукой, как только показался первый парус; но люди на корме даже не взглянули на него. Проехало трое ломовых саней, но они и так были перегружены. Потом стрелой пронесся красивый заманчивый буерок. Мальчики едва успели с надеждой взглянуть на него, как он уже скрылся из виду. Отчаявшись, они решили поддерживать Якоба и как—нибудь дотащить его до ближайшей деревни. Но тут появился какой—то очень жалкий буер. Питер, почти не надеясь на успех, снял шапку и, размахивая ею, окликнул его.
Парус опустился, послышался лязг тормоза, и кто—то приветливо крикнул с палубы:
— Что вам нужно?
— Подвезите нас! — крикнул Питер и вместе со спутниками помчался что было силы догонять буер, остановившийся далеко впереди. — Подвезите нас!
— Мы заплатим за проезд! — заорал Карл.
Человек на палубе даже не взглянул на него, только пробормотал, что его судно не трексхейт. Глядя на Питера, он спросил:
— Сколько вас всех?
— Шестеро.
— Ну ладно… нынче праздник святого Николааса… полезайте! Молодой человек болен? — кивнул он на Якоба.
— Да… выбился из сил… бежал на коньках от самого Брука, — ответил Питер. — Вы едете в Лейден?
— Смотря какой будет ветер. Сейчас дует в ту сторону… Лезьте!
Бедный Якоб! Если бы в тот миг появилась будущая его супруга, самоотверженная госпожа Поот, готовая в случае нужды взвалить его себе на спину, ее услуги очень пригодились бы. Мальчикам едва удалось втащить толстяка в лодку. Наконец влезли все. Шкипер, попыхивая трубкой, поставил парус, поднял тормоз и сел на корме, сложив руки.
— Ой! Ну и мчимся же мы! — воскликнул Бон. — Вот здорово! Тебе лучше, Якоб?
— Гораздо лучше, спасибо.
— Ну, через десять минут ты будешь совсем молодцом. Тут чувствуешь себя птицей.
Якоб кивнул и заморгал глазами.
— Не засыпай, Якоб, ведь сейчас очень холодно. Заснешь, да, пожалуй, и не проснешься. Так вот люди и замерзают до смерти.
— Я не сплю, — сказал Якоб решительным тоном… и спустя две минуты захрапел.
Карл и Людвиг рассмеялись.
— Надо его разбудить! — крикнул Бен. — Говорю вам, это опасно… Якоб! Я—а–а—а… коб…
Тут пришлось вмешаться капитану Питеру, так как остальные трое принялись помогать Бену потехи ради.
— Глупости! Не трясите его! Оставьте его в покое, ребята. Когда люди замерзают, они так не храпят. Укройте его чем—нибудь… Вот хоть этим плащом… Можно, шкипер? — И Питер оглянулся на корму, ожидая позволения взять плащ.
Шкипер кивнул.
— Так, — сказал Питер, ласково укрывая Якоба плащом. — Пусть поспит. Проснется бодрым, как ягненок… Как далеко мы от Лейдена, шкипер?
— Не больше чем в двух трубках, — послышался из дымного облака голос — точь—в–точь голос джинна в волшебных сказках, — а пожалуй (пых! пых!), не больше чем в полутора трубках (пых! пых!)… если ветер не переменится (пых! пых! пых!).
— Что он говорит, Ламберт? — спросил Бен, приложив к щекам руки в варежках, чтобы защититься от резкого ветра.
— Он говорит, что мы в двух трубках от Лейдена. Почти все лодочники здесь на канале измеряют расстояние временем, которое тратят на курение одной трубки.
— Какая нелепость!
— Слушай, Бенджамин Добс… — отпарировал Ламберт, неизвестно почему возмущенный спокойной улыбкой Бена, — слушай, у тебя привычка называть почти все, что ты видишь по сю сторону Немецкого моря, «нелепым». Тебе, может быть, нравится это слово, но оно не нравится мне. Уж если говорить о нелепостях, вспомни один ваш английский обычай: когда лондонский лорд—мэр вступает в должность, он считает гвозди на лошадиной подкове, чтобы показать свою ученость.
— Кто тебе сказал, что у нас есть такой обычай? — воскликнул Бен, и лицо его тотчас же сделалось серьезным.
— Я это знаю, вот и все… Никто мне не говорил, и говорить незачем: об этом написано во многих книгах, и это правда. Меня удивляет, — продолжал Ламберт с невольным смехом, — что ты пребываешь в блаженном неведении тех нелепостей, каких много на твоем участке географической карты.
— Хм! — фыркнул Бен, удерживаясь от улыбки. — Когда я вернусь домой, я наведу справки об этом обычае. Тут, наверное, что—нибудь да не так… У—у–у—у, как быстро мы несемся! Ну и прелесть!
Чудесное это было плавание или поездка — не знаю, как правильнее назвать. Пожалуй, лучше всего сказать «полет»; ведь мальчики чувствовали себя примерно так, как Синдбад, когда он, привязанный к лапам птицы Рох, мчался в облаках, или как Беллерофон, когда он несся в воздухе на спине своего крылатого коня Пегаса. Но все равно, «плыли» они, «ехали» или «летели», — все окружающее мчалось мимо них назад, и не успели они хорошенько передохнуть, как сам Лейден с его островерхими крышами уже понесся им навстречу.
Когда впереди показался город, пришлось будить спящего. Этот трудный подвиг все—таки как—то удалось совершить. И тут предсказание Питера исполнилось: к Якобу вернулись и силы и прекрасное настроение.
Шкипер слабо сопротивлялся, когда Питер, горячо благодаря его, попытался сунуть несколько серебряных монет в его жесткую коричневую ладонь.
— Видите ли, молодой человек, — сказал он, отдернув руку, — одно дело заниматься извозом, другое — оказать любезность.
— Я знаю, — сказал Питер, — но ваши сыновья и дочки будут просить сластей, когда вы вернетесь домой. Так купите им конфет во имя святого Николааса.
Шкипер усмехнулся:
— Что правда, то правда: ребятишек у меня целая куча, хватит всю лодку загрузить. Вы мастер угадывать.
И узловатая рука протянулась вперед, как будто невольно, но — ладонью кверху. Питер поспешно положил в нее монеты и отошел.
Вскоре парус поник. Заскрежетал тормоз, рассыпая вокруг лодки целую кучу ледяной пыли.
— До свиданья, шкипер! — кричали мальчики, забирая свои коньки и по одному соскакивая с палубы. — Большое вам спасибо!..
— До свиданья! До сви… Стойте! Эй! Стойте! Отдайте мой плащ!
Бен осторожно помогал Якобу перелезть через борт.
— Что он кричит, этот человек?.. Ах, понимаю, у тебя на плечах его плащ.
Это верно, — ответил Якоб по—английски и, соскакивая с лодки, споткнулся о раму на полозьях. — Вот отчего ему так тяжело.
— Ты хочешь сказать, тебе тяжело, Поот?
— Ну да, тебе тяжело… это верно, — не поняв, ответил Якоб, выпутываясь из широкого плаща. — Вот, передай прямо ему и скажи — я очень благодарю за это.
— Вперед! В гостиницу! — крикнул Питер, когда они вошли в город. — Поторопитесь, ребятки!
Глава XXI. Мейнхеер Клееф и его меню
Вскоре мальчики отыскали неподалеку от Бреедестраат («Широкой улицы») скромную гостиницу со львом, аляповато написанным красками над входной дверью. Гостиница называлась «Рооде леу», то есть «Красный лев», и ее содержал некий Хейгенс Клееф, толстый голландец с короткими ногами и длинной трубкой во рту.
К тому времени мальчики уже успели жестоко проголодаться. Завтрак в Хаарлеме только раздразнил их аппетит, разыгравшийся еще больше от бега и быстрой езды на буере по каналу.
— Ну, хозяин, подавайте—ка нам, что у вас есть! — воскликнул Питер, напустив на себя важный вид.
— Я могу подать вам все, что угодно… все, что пожелаете, — ответил мейнхеер Клееф, кланяясь с трудом.
— Ладно. Дайте нам колбасы и пудинг.
— Ах, мейнхеер, колбаса вся вышла! Пудинга нету.
— Ну, так подайте винегрет из селедки с мясом, да побольше.
— И винегрет весь вышел, молодой господин.
— Тогда яиц, да поживее.
— Зимние яйца — очень плохая еда, — ответил хозяин гостиницы, сложив губы трубочкой и подняв брови.
— И яиц нет? В таком случае, дайте икры.
Голландец поднял пухлые руки к небу:
— Икры! Да ведь она на вес золота! Кто же тут продает икру?
Питер не раз ел икру дома. Он знал, что ее добывают из осетра и других крупных рыб, но не имел понятия о том, сколько она стоит.
— Ну, хозяин, что же у вас тогда есть?
— Что у меня есть? Все. Ржаной хлеб, кислая капуста, картофельный салат и самые жирные селедки в Лейдене.
— Что скажете, ребята? — спросил капитан. — Подойдет?
— Да! — заорали изголодавшиеся юнцы. — Только поскорее!
Мейнхеер Клееф двигался как во сне, но вскоре широко раскрыл глаза, увидев, с какой чудодейственной быстротой исчезают его селедки. Затем появились, или, точнее, исчезли, картофельный салат, ржаной хлеб и кофе; за ними последовали утрехтская вода, смешанная с апельсиновым соком, и, наконец, ломтики сухой имбирной коврижки. Этот последний деликатес не входил в состав обычного меню, но мейнхеер Клееф, доведенный до крайности, торжественно извлек его из своих личных запасов и только тупо моргнул глазами, когда прожорливые юные путешественники встали, заявляя, что теперь наелись.
«Наелись… надо думать!» — воскликнул про себя хозяин, но его гладкое лицо ничего не выразило.
Тихонько потирая себе руки, он спросил:
— Вашим благородиям потребуются постели?
— «Вашим благородиям потребуются постели?» — передразнил его Карл. — Что вы хотите этим сказать? Разве у нас сонный вид?
— Вовсе нет, сударь, но я приказал бы проветрить и согреть их. В «Красном льве» никто не спит под сырыми простынями.
— А, понимаю… Мы сюда вернемся ночевать, да, капитан?
Питер привык к более удобным помещениям, но сейчас все ему казалось приятным.
— Почему же нет? — ответил он. — Здесь мы будем прекрасно питаться.
— Ваше благородие изволит говорить истинную правду, — проговорил хозяин с величайшей почтительностью.
— Как приятно, когда тебя называют «ваше благородие»! — со смехом сказал Людвиг Ламберту.
А Питер ответил:
— Ну что ж, хозяин, приготовьте комнаты к девяти.
— У меня есть прекрасная комната с тремя кроватями, и на них поместятся все ваши благородия, — вкрадчиво проговорил мейнхеер Клееф.
— Ладно.
— Фью! — свистнул Карл, когда они вышли на улицу.
Людвиг вздрогнул:
— Чего это ты?
— Ничего… только мейнхеер Клееф, хозяин «Красного льва», и не подозревает, какой сумбур мы устроим в этой самой комнате нынче вечером. То—то полетят у нас и подушки и валики!
— Смирно! — крикнул капитан. — Вот что, ребята: я до вечера должен отыскать знаменитого доктора Букмана. Если он в Лейдене, найти его будет нетрудно, так как он всегда останавливается в гостинице «Золотой орел»… Удивляюсь, почему вы все сразу же не улеглись спать! Но раз уж вы не спите, то как скажете — не пойти ли вам с Беном в музей или в Стадхейс?
— Согласны, — сказали Людвиг и Ламберт.
А Якоб предпочел пойти вместе с Питером.
Тщетно уговаривал его Бен остаться в гостинице и отдохнуть. Якоб заявил, что чувствует себя чудесно и непременно хочет посмотреть город, так как это его «первый приезд в Лейден», добавил он по—английски.
— Это ему не повредит, — сказал Ламберт. — Какой нынче был длинный день… и как замечательно мы покатались! Даже не верится, что мы вышли из Брука только сегодня утром.
Якоб зевнул.
— Мне было очень приятно, — сказал он, — только вот кажется, будто мы отправились в путь неделю назад.
Карл рассмеялся и пробормотал что—то насчет того, что Якоб «засыпал раз двадцать».
— Ну, вот мы «и на углу. Не забудьте, мы все встречаемся в «Красном льве» в восемь часов, — сказал капитан, уходя вместе с Якобом.
Глава XXII. В «Красном Льве» становится опасно
Мальчики обрадовались, когда, вернувшись в «Красный лев», увидели ярко пылающий огонь, зажженный к их приходу. Карл и его спутники явились первыми. Вскоре после них пришли Питер и Якоб. Они не смогли найти доктора Букмана. Им только удалось узнать наверное, что сегодня утром доктора видели в Хаарлеме.
— В Лейдене его нет, — сказал Питеру хозяин «Золотого орла». — Ведь он всегда останавливается здесь, когда приезжает в город. Если бы он приехал, целая толпа сейчас стояла бы у моих дверей, ожидая от него совета. Да! У нас дураков хватает!
— Говорят, он замечательный хирург, — сказал Питер.
— Да, лучший в Голландии. Ну и что же? Забивать глотки пилюлями да полосовать ножом — на это он мастер, но и грубить тоже умеет. Сущий медведь! Не дальше как в прошлом месяце он на этом самом месте обозвал меня свиньей перед тремя посетителями!
— Не может быть! — воскликнул Питер, притворяясь изумленным и негодующим.
— Да, молодой господин… свиньей, — повторил хозяин гостиницы, с обиженным видом пыхтя трубкой. — Правда, он платит мне хорошие деньги, да и посетителей в мое заведение привлекает. А не будь этого, я предпочел бы видеть его во Влейтском канале, чем пускать к себе в гостиницу.
Тут хозяин, быть может, почувствовал, что слишком откровенно разболтался с неизвестным ему юношей, а может быть, заметил улыбку, мелькнувшую на губах Питера. Так или иначе, он резко переменил тон:
— Ну, что вам еще нужно?.. Ужин? Постели?
— Нет, мейнхеер, я только разыскиваю доктора Букмана.
— Так ступайте и поищите его еще. В Лейдене его нет.
Но отделаться от Питера было не так легко. Выслушав еще несколько грубостей, он все—таки добился позволения оставить записку на имя знаменитого врача, или, точнее, купил у «любезного» хозяина позволение написать ее здесь, а также обещание передать ее доктору Букману, как только он приедет. Затем Питер и Якоб вернулись в «Красный лев».
Гостиница помещалась в некогда превосходном доме, где жил один богатый горожанин; но, когда дом обветшал и стал разрушаться, он начал переходить из рук в руки, и наконец его купил мейнхеер Клееф. Глядя на грязные стены в трещинах, мейнхеер Клееф любил повторять: «Подправить бы его да покрасить, и во всем Лейдене не найдется такого красивого дома». В доме было шесть этажей. Первые три были равны по площади, но различной высоты. Остальные представляли собой трехэтажный чердак, расположенный под огромной высокой крышей. Они были один меньше другого и суживались кверху, как двусторонняя лестница—стремянка, так что у верхнего этажа потолок был двускатный. Кровля у дома была сложена из коротких блестящих черепиц, а окна с маленькими стеклами как попало разбросаны по фасаду, без всяких претензий на симметрию. Но общая комната в нижнем этаже была гордостью и отрадой хозяина. О ней он никогда не говорил: «Подправить бы ее да покрасить», — так как здесь царили истинно голландская чистота и порядок. Давайте заглянем туда.
Представьте себе просторную комнату с голыми стенами. Пол в ней выложен плитками, и на первый взгляд кажется, будто они вырезаны из глазурованных глиняных мисок для паштета: желтые плитки чередуются с красными, так что пол напоминает огромную шахматную доску. Представьте себе несколько деревянных стульев с высокими спинками, расставленных вдоль стен, потом — громадный глубокий камин. В камине ярко горит огонь, отражаясь в таганах из шлифованной стали. Пол у камина кафельный, стены кафельные, верхняя часть над жерлом тоже кафельная, и на ней начертано голландское изречение; а над всем этим, выше человеческого роста, — узкая каминная полка, заставленная сверкающими медными подсвечниками, огнивами для зажигания трубок и коробками с трутом. Далее вы увидите в одном углу комнаты три сосновых стола, а в другом — стенной шкаф и буфет. Буфет набит кружками, блюдами, трубками, оловянными кувшинами с крышками, глиняными и стеклянными бутылками, а рядом с ним на высоких ножках стоит бочонок, обитый медными обручами. Все здесь немного потускнело от дыма, но так чисто, как только могут быть чистыми вещи, вымытые мылом и протертые песком.
Теперь представьте себе двух заспанных мужчин в потрепанном платье и деревянных башмаках. Они сидят у пылающего камина, обхватив руками колени и покуривая коротенькие толстые трубочки, а мейнхеер Клееф, в кожаных штанах до колен, войлочных туфлях и короткой, но очень широкой зеленой куртке, ходит туда—сюда, бесшумно и тяжело ступая. Затем бросьте в угол целую кучу коньков и посадите на деревянные стулья шестерых усталых, хорошо одетых мальчиков, и вы увидите общую комнату в «Красном льве» такой, какой она была вечером 6 декабря 184… года.
На ужин снова подали имбирную коврижку, а кроме нее, голландскую колбасу, нарезанную ломтиками, ржаной хлеб с анисом, пикули, бутылку утрехтской воды и кофе весьма загадочного происхождения.
Мальчики так проголодались, что ели все без разбора да еще похваливали — только подавай. Бен, правда, морщился, а Якоб — тот заявил, что в жизни не ел такого вкусного ужина.
Немного посмеявшись и поболтав, ребята пересчитали свои деньги, чтобы решить спор, возникший по поводу расходов. Потом капитан повел отряд в спальню, а впереди, как вожак следопытов, шел какой—то засаленный мальчишка с коньками и подсвечником в руках вместо топора.
Один из подозрительных мужчин, сидевших у камина, подошел, волоча ноги, к буфету и потребовал себе кружку пива как раз в ту минуту, когда Людвиг, замыкавший шествие, выходил из комнаты.
— Не нравятся мне глаза этого малого, — шепнул он Карлу. — Он смахивает на пирата или что—то в этом роде.
— А может, на твою бабушку? — презрительно бросил Карл, совсем сонный.
Людвиг рассмеялся, но ему было не по себе. — Бабушка не бабушка, — прошептал он, — а все—таки вид у него совсем как у одного из пленников на картине «Вутсполен».
— Вздор! — язвительно усмехнулся Карл. — Так я и знал! Эта картина выбила тебя из колеи. Вглядись получше — может, парнишка со свечкой смахивает на другого злодея?
— Вовсе нет, у него честная физиономия. Но знаешь, Карл, это и впрямь страшная картина.
— Хм! Что ж ты так долго глазел на нее?
— Не мог оторваться.
Тут мальчики подошли к «прекрасной комнате с тремя кроватями». У дверей их встретила коренастая девушка с длинными сережками в ушах. Она сделала мальчикам реверанс и ушла. В руках она несла что—то вроде сковороды с длинной ручкой и крышкой.
— Вот это приятно видеть! — сказал ван Моунен Бену.
— Что именно?
— Грелку! В ней насыпана горячая зола; девчонка согревала ею наши постели.
— Ага! Значит, это грелка. Так! Ну что ж, я ей очень благодарен, — отозвался Бен и больше не вымолвил ни слова — так одолевал его сон.
Между тем Людвиг все еще говорил о картине, которая произвела на него такое сильное впечатление. Он видел ее во время прогулки в витрине одного магазина. На этой картине, плохо написанной, были изображены двое мужчин, связанных друг с другом спина к спине и стоявших на борту корабля в толпе моряков, которые готовились бросить связанных в море. Этот способ казни пленников назывался «вутсполен», то есть омовение ног, Так голландцы казнили пиратов в Дюнкерке в 1605 году, а испанцы — голландцев во время страшной резни, последовавшей за осадой Хаарлема. Как ни плохо была написана картина, но выражение лица у пиратов было передано хорошо. Мрачные, доведенные до отчаяния пленники все же казались такими жестокими и злобными, что Людвиг при виде их в столь беспомощном положении был втайне доволен. Может быть, он и позабыл бы про эту картину, если б не подозрительный человек, сидевший у камина. И теперь, по—ребячески дурачась, Людвиг с ужимками бросился в постель, уповая на то, что «вутсполен» ему не приснится.
Комната была холодная, неуютная и напоминала опустевшую больничную палату; в блестящей кафельной печке только что развели огонь, но он, казалось, сам дрожал от холода, стараясь разогреться. Окна с затейливым частым переплетом не были завешены, и стекла их поблескивали при лунном свете, а холодный навощенный пол казался глыбой желтого льда. Три стула с тростниковыми сиденьями стояли у стены, чередуясь с тремя узкими деревянными кроватями. Во всякое другое время мальчики ни за что не согласились бы спать по двое, да еще на таких узких ложах; но в этот вечер их не пугала никакая теснота, и они жаждали только одного — уложить свои истомленные тела на перины, пышно вздымавшиеся на кроватях. Если бы мальчики были сейчас не в Голландии, а в Германии, они, вероятно, покрылись бы другой периной, набитой пухом или перьями. Но в те времена лишь богатые или чудаковатые голландцы позволяли себе такую роскошь.
Людвиг, как мы уже знаем, еще не совсем утратил желание порезвиться, но остальные мальчики после двух — трех слабых попыток кидаться подушками улеглись спать в высшей степени чинно. Ничто так не смиряет мальчиков, как усталость.
— Спокойной ночи, ребята! — прозвучал из—под одеяла голос Питера.
— Спокойной ночи! — откликнулись все, кроме Якоба, который уже храпел рядом с капитаном.
— Слушайте, вы, — крикнул Карл немного погодя, — не вздумайте чихнуть кто—нибудь, а то Людвиг и так перепуган до смерти!
— Вовсе нет, — возразил Людвиг вполголоса.
Вслед за тем возникла короткая перебранка шепотом, и последнее слово в ней осталось за Карлом.
— Вот я… — сказал он, — я не знаю, что значит страх. А ты, Людвиг, форменный трусишка.
Людвиг проворчал что—то сонным голосом, но больше возражать не стал.
Было уже около полуночи. Огонь в печке все дрожал и дрожал, пока не угас, а вместо его отблесков на пол легли квадратики лунного света и медленно, очень медленно поползли но комнате. Кроме них, двигалось еще что—то, но ребята ничего не видели. Спящие мальчики — плохая стража.
В начале ночи Якоб Поот постепенно, но упорно поворачивался на другой бок вместе со всеми своими одеялами. Теперь он лежал, похожий на куколку бабочки—великанши, рядом с полузамерзшим Питером, которому, естественно, снилось, что он стремглав скатывается на коньках с каких—то отчаянно холодных и мрачных айсбергов в стране снов.
Кроме лунного света, что—то еще двигалось по голому натертому полу — двигалось не так бесшумно, но почти так же медленно.
Проснись, Людвиг! Пират перед казнью воплощается в жизнь.
Нет, Людвиг не просыпается, он только стонет во сне. Неужели этих стонов не слышит Карл, храбрый, бесстрашный Карл!
Нет, Карл видит во сне конькобежные состязания.
А Якоб? Ван Моунен? Бен?
Нет! Им тоже снятся состязания и… Катринка; она поет, смеясь и обгоняя их. Время от времени до них доносятся волны звуков, исходящие от огромного органа.
А что—то все движется, медленно—медленно…
Питер! Капитан Питер, опасность близка!
Питер не слышал зова, но во сне он скатился по тысячефутовому склону с одного айсберга к подножию другого, и толчок разбудил его.
Ой, как холодно! Не надеясь на успех, он все—таки с силой дернул «куколку» — Якоба. Тщетно! Простыня, одеяло и покрывало туго спеленали бесчувственное тело его соседа. Питер сонно посмотрел на окно.
«Светлая лунная ночь, — подумал он. — Завтра будет прекрасная погода… Постой! Это что такое?»
Он увидел какой—то движущийся предмет, вернее — просто что—то черное, что скорчилось на полу и замерло на месте, когда Питер пошевелился.
Питер молча смотрел.
Вскоре предмет снова стал придвигаться, все ближе и ближе… Это был человек, и он полз на четвереньках!
Первым побуждением капитана было позвать товарищей, но он помедлил, чтобы обдумать положение.
Человек держал в руке блестящий нож. Это было страшно, но Питер хорошо владел собой. Когда голова человека повертывалась в его сторону, мальчик закрывал глаза, притворяясь спящим; но, когда человек отворачивался, капитан следил за ним во все глаза.
Все ближе, ближе подползал грабитель… Теперь спина его была совсем близко от Питера. Нож он тихонько положил на пол и осторожно протянул вперед руку, чтобы стащить одежду со стула у кровати капитана… Началось! Теперь наступил черед Питера! Задерживая дыхание, он вскочил и, собрав все силы, прыгнул на спину грабителю, ошеломив его этим толчком. Схватить нож было делом одной секунды. Грабитель отбивался, но Питер уже сидел верхом на распростертом теле.
— Только пошевельнись! — крикнул храбрый юноша, стараясь изо всех сил придать грозный тон своему голосу. — Сдвинься хоть на дюйм, и я воткну тебе нож в шею!.. Ребята! Ребята! Просыпайтесь! — крикнул он, пригибая к полу черноволосую голову и держа нож наготове. — Помогите! Я поймал его! Поймал!
«Куколка» перевернулась на другой бок, но не откликнулась.
— Вставайте, ребята! — кричал Питер не шевелясь. — Людвиг! Ламберт! Гром и молния! Умерли вы все, что ли?
Умерли? Ну нет! Ван Моунен и Бен в ту же секунду соскочили с кровати.
— А! Что такое? — крикнули они.
— Я тут грабителя поймал, — спокойно ответил Питер. — Лежи смирно, негодяй, не то я тебе голову отрежу!.. Вот что, ребята: срежьте веревки с вашей кровати… времени у вас хватит… Попробуй он шевельнуться — убью!
Питер чувствовал себя так уверенно, словно он весил тысячу фунтов. Да и было от чего: ведь в руке он держал нож. Человек рычал и ругался, но не смел и пальцем пошевельнуть.
Тем временем встал и Людвиг. В кармане штанов у него лежала его гордость — огромный складной нож. Теперь он пригодился. Мальчики вмиг сдернули постель на пол. Рама кровати была вдоль и поперек оплетена веревкой.
— Я срежу ее! — крикнул Людвиг, перепиливая ножом веревку возле узла. — Держи его крепче, Пит!
— Не беспокойся, — ответил капитан, для острастки кольнув грабителя ножом.
Спустя минуту мальчики принялись расплетать веревку, стараясь изо всех сил. Наконец она расплелась и оказалась крепкой и длинной.
— Ну, ребята, — приказал капитан, — теперь поднимите руки этого подлеца. Заложите их ему за спину!.. Так… простите, что я вам мешаю… Вяжите покрепче!
— Да и ноги связать негодяю! — кричали мальчики в величайшем возбуждении, завязывая узел за узлом и затягивая их изо всех сил.
Пленник сбавил тон.
— Ox… ox! — стонал он. — Пощадите бедного больного человека… Я просто лунатик и ходил во сне.
— Вот как! — проворчал Ламберт, затягивая верейку еще крепче. — Ты спал, да? Ну, так мы тебя разбудим!
Человек пробормотал сквозь зубы свирепое ругательство, потом крикнул жалобным голосом:
— Развяжите меня, добрые молодые господа! Дома у меня пятеро маленьких детей. Именем святого Бавона клянусь дать вам каждому по монете в десять гульденов, только отпустите меня!
— Ха—ха—ха! — засмеялся Питер.
— Ха—ха—ха! — расхохотались остальные.
Тут посыпались угрозы, такие угрозы, что Людвиг даже вздрогнул, не перестав, однако, связывать грабителя и затягивать узлы с удвоенной энергией.
— Замолчи, мейнхеер громила! — сказал ван Моунен предостерегающим тоном. — Нож у самой твоей глотки. Попробуй только рассердить капитана — посмотрим, что из этого получится!
Грабитель послушался и погрузился в мрачное молчание.
В эту минуту «куколка» на кровати шевельнулась и села.
— Что случилось? — спросил Якоб, не открывая глаз.
— «Что случилось»! — передразнил его Людвиг, дрожа и смеясь. — Вставай, Якоб! Вот тебе подходящая работа: ступай посиди на спине у этого малого, пока мы оденемся, а то мы чуть не замерзли до смерти.
— Какого малого? Дондер! — спросил опять Якоб.
— Ура в честь Поота! — крикнули мальчики в один голос, когда Якоб, быстро соскользнув с кровати вместе с одеялом, простыней и всем прочим, с одного взгляда разобрался во всем и тяжело уселся рядом с Питером на спине грабителя.
Вот когда пленник застонал!
— Не стоит больше оставлять его на полу, ребята, — сказал Питер, вставая, и наклонился, чтобы вытащить у грабителя пистолет из—за кушака. — Я вот уже минут десять слежу за этой опасной игрушкой. Курок взведен, и пистолет мог выстрелить от малейшего движения. Теперь опасность миновала. Мне нужно одеться. Мы с тобой, Ламберт, сходим за полицией… Я и не чувствовал, как холодно!
— А где Карл? — спросил кто—то из мальчиков.
Все переглянулись. Карла среди них не было.
— Ох! — крикнул Людвиг, наконец—то испугавшись не на шутку. — Да где же он? Может, он подрался с грабителем и убит?
— Ну нет, — ответил Питер, спокойно застегивая свою толстую куртку. — Посмотрите—ка лучше под кроватями.
Мальчики заглянули под кровати. Но Карла но было и там.
Тут они услышали шум на лестнице. Бен бросился отворять дверь. В комнату, чуть не споткнувшись, ввалился хозяин, вооруженный большим старинным мушкетом. За ним следовали двое или трое постояльцев, потом хозяйская дочь со сковородкой в одной руке и свечкой в другой, а сзади нее доблестный Карл — бледный и перепуганный.
— Вот ваш жилец, хозяин, — сказал Питер, кивнув на пленника.
Хозяин поднял мушкет, девушка взвизгнула, а Якоб с необычным для него проворством быстро скатился со спины грабителя.
— Не стреляйте, — крикнул Питер, — он связан по рукам и по ногам! Давайте перевернем его на спину и посмотрим, как он выглядит.
Карл сделал быстрый шаг вперед и проговорил хвастливо:
— Вот—вот! Уж мы его перевернем, да так, что это ему не понравится! Какое счастье, что мы его поймали!
— Ха—ха—ха! — расхохотался Людвиг. — А где же был ты, Карл? Куда ты девался?
— Где был я? — сердито переспросил Карл. — Я пошел поднять тревогу. Куда же мне еще было деваться?
Мальчики переглянулись, но они были слишком счастливы и горды, чтобы сделать какое—нибудь язвительное замечание. А Карл теперь вел себя достаточно храбро. Он первый принялся перевертывать беспомощного человека; три других мальчика помогали ему.
Грабитель теперь лежал навзничь, хмурясь и бормоча что—то. Людвиг взял у девушки подсвечник.
— Надо хорошенько рассмотреть этого красавца, — сказал он, подходя вплотную к грабителю. Но не успел он произнести эти слова, как внезапно побледнел и вздрогнул так сильно, что чуть не выронил свечу. — «Вутсполен»! — крикнул он. — Ребята, ведь это тот человек, что сидел у камина!
— Он самый, — откликнулся Питер. — Мы, как дураки, считали при нем деньги. Но к чему говорить о «вутсполен», брат Людвиг? Месяц в тюрьме — и хватит с него.
Незадолго перед тем дочь хозяина вышла. Теперь она вбежала в комнату, держа в руках огромные деревянные башмаки.
— Смотри, отец, — крикнула она, — вот его здоровенные, безобразные башмаки! Это тот человек, которого мы поместили в соседней комнате, после того как молодые господа улеглись. Ах! Не надо было помещать бедных молодых господ так далеко от нас!
— Подлец! — зашипел хозяин. — Он опозорил мой дом! Сейчас же иду за полицией!
Не прошло и четверти часа, как прибежали двое заспанных полицейских. Предложив мейнхееру Клеефу рано утром явиться вместе с мальчиками к судье и подать жалобу, полицейские увели грабителя.
Естественно предположить, что капитан и его отряд уже не заснули в эту ночь. Но еще не найден тот якорь, который может помешать юности и чистой совести плыть по реке снов. Мальчики слишком устали, чтобы не спать из—за таких пустяков, как поимка грабителя. Немного погодя они снова улеглись, и им снились знакомые вещи в причудливых сочетаниях.
Людвиг и Карл постелили себе на полу. Людвиг уже позабыл и «вутсполен», и состязания, и все на свете; а у Карла сна не было ни в одном глазу. Он слышал торжественную ночную музыку курантов, назойливую колотушку сторожа, каждые четверть часа стучавшую вразброд с колоколами; он видел, как лунный свет соскользнул с окна и алый свет зари проник в комнату. И все это время он думал:
«Фу, каким болваном я себя показал!»
Карл Схуммель, когда он был наедине с самим собой и никто не видел и не слышал его, был отнюдь не таким молодчиной, как тот Карл Схуммель, который хорохорился перед другими.
Глава XXIII. На суде
Можете мне поверить, что дочь хозяина уж постаралась и наутро приготовила мальчикам отменный завтрак. У мейнхеера Клеефа был китайский гонг, гудевший громче, чем целый десяток обеденных колоколов. Когда его противные звуки раздавались по всему дому, самые сонные постояльцы просыпались, как от толчка, и вскакивали. Но в это утро дочь хозяина не позволила бить в гонг.
— Пусть храбрые молодые господа поспят, — сказала она засаленному кухонному мальчику, — а когда они проснутся, мы их хорошенько накормим.
Пробило десять часов, когда капитан Питер и члены его отряда один за другим вразброд спустились вниз.
— Поздновато! — проворчал хозяин. — Нам давно пора в суд. Хорошенькая история для порядочной гостиницы! Но ведь вы на суде скажете правду, молодые господа? Вы скажете, что в «Красном льве» вы получили превосходный стол и комнату, не так ли?
— Конечно, — дерзко ответил Карл, — и, кроме того, мы наслаждались приятным обществом. Хотя соседи здесь делают визиты в довольно—таки неурочные часы.
Хозяин только посмотрел на него в упор и хмыкнул. Но его дочь оказалась более словоохотливой. Тряся сережками, она резко осадила Карла:
— Общество здесь, должно быть, не очень приятное, господин путешественник, раз вы от него сбежали!
— Нахалка! — тихонько прошептал Карл и деловито принялся осматривать ремни на своих коньках.
А кухонный мальчик, который подслушивал за дверью, приложив ухо к щели, скорчился от беззвучного смеха.
После завтрака мальчики пошли в суд при полиции вместе с Хейгенсом Клеефом и его дочерью. Мейнхеер Клееф в своих показаниях говорил больше всего о том, что вплоть до прошлой ночи в «Красном льве» никогда не было ни одного грабителя. Что касается самого «Красного льва», то это в высшей степени приличная гостиница, не хуже любой другой в Лейдене.
Мальчики поочередно рассказали все, что им было известно по делу, и опознали в арестанте, сидевшем на скамье подсудимых, того самого человека, который поздно ночью пробрался к ним в комнату.
Рассмотрев, что грабитель — человек среднего роста, Людвиг изумился: а он—то под присягой расписал его суду как громадного детину с широкими квадратными плечами и чудовищно тяжелыми ногами!
Якоб — тот клятвенно уверял, что проснулся от шума, который производил грабитель, стуча и ерзая ногами по полу. Но сразу же после его показаний Питер и остальные мальчики (очень жалевшие, что не передали всех подробностей своему заспанному товарищу) показали, что грабитель и пальцем не пошевелил с той минуты, как острие кинжала прикоснулось к его шее, и вплоть до той, как его, связанного по рукам и ногам, перевернули на спину для осмотра.
Дочь хозяина вызвала краску на лице у одного мальчика и улыбку у всех присутствующих на суде, заявив, что, «не будь вот этого красивого молодого господина (тут она указала на Питера), их всех зарезали бы в кроватях, потому что у этого ужасного человека был огромный блестящий нож, длинный, как рука вашей чести». И далее она уверяла, что «красивый молодой господин боролся изо всех сил, стараясь вырвать нож у грабителя, но он слишком скромен, дай ему бог здоровья, чтобы рассказывать об этом».
После того как общественный обвинитель закончил короткий допрос, свидетелей отпустили, а дело грабителя передали на рассмотрение уголовного суда.
— Мерзавец! — в ярости проговорил Карл, когда мальчики вышли на улицу. — Его надо сейчас же посадить в тюрьму. Будь я на твоем месте, Питер, я тут же прикончил бы его!
— Значит, счастье его, что он попал в менее опасные руки, — ответил Питер спокойно. — Кажется, его и раньше арестовывали по обвинению в краже со взломом. На этот раз ему ничего не удалось украсть, но он сломал крючок на двери, а это в глазах закона, насколько я знаю, приравнивается к грабежу. Кроме того, он был вооружен ножом, и это еще ухудшит положение бедняги!
— «Бедняги»! — передразнил его Карл. — Можно подумать. что он твой брат!
— Он и есть мой брат, да и твой тоже, Карл Схуммель, коли на то пошло, — ответил Питер, глядя Карлу прямо в глаза. — Нельзя сказать, что вышло бы из нас самих при других обстоятельствах. Ведь нас охраняли от зла с самого часа нашего рождения. Если бы этому парню счастливо жилось дома и родители у него были хорошие, быть может, он сделался бы прекрасным человеком, вместо того чтобы докатиться до преступления. Дай бог, чтобы суд не сломил его, а исправил!
— Да будет так! — горячо подхватил Ламберт.
А Людвиг ван Хольп устремил на брата взгляд, исполненный такой радости и гордости, что Якоб Поот, который был единственным сыном в семье, от всего сердца пожалел, что его маленький брат, давно погребенный в старой церкви в Бруке, не остался в живых и не подрастал теперь вместе с ним, Якобом.
— Хм! — фыркнул Карл. — Очень хорошо быть благочестивым и всепрощающим и все такое, но я от природы суров. Все эти прекрасные идеи скатываются с меня, как град… Впрочем, если и не так, никому до этого нет дела.
В этой неуклюжей уступке Питер угадал проблеск добрых чувств и, протянув Карлу руку, проговорил искренне и горячо:
— Слушай, братишка, давай пожмем друг другу руки и будем добрыми друзьями, хоть мы и не часто сходимся в мнениях!
— Чаще, чем ты думаешь, — угрюмо буркнул Карл, пожав руку Питеру.
— Прекрасно, — коротко отозвался Питер. — А теперь, ван Моунен, послушаем, что скажет Бен. Куда он хотел бы пойти?
— В Египетский музей, — ответил Ламберт, наскоро посовещавшись с Беном.
— Это на Брееде—страат. Ну, значит, в музей. Идем, ребята!
Глава XXIV. Осажденные города
— Вот эта площадь перед вами, — сказал Ламберт, шагая рядом с Беном, — очень красива летом, когда деревья на ней дают тень. Ее называют Руины. Много лет назад здесь стояли дома, а Рапенбургский канал—вод тот! — проходил посреди улицы. Ну так вот, однажды здесь, на канале, остановилась баржа, которая везла в Дельфт сорок тысяч фунтов пороха, и матросам вздумалось сварить себе обед на палубе. Но не успели они оглянуться, братец ты мой, как вся эта махина взорвалась. Погибло множество людей, и около трехсот домов взлетело в воздух.
— Как! — воскликнул Бон. — Неужели при взрыве разрушилось целых триста домов?
— Да, дружище. В то время отец мой был в Лейдене. Он рассказывал, какой это был ужас. Взрыв произошел ровно в полдень и напоминал извержение вулкана. Вся эта часть города запылала в одно мгновение. Вспыхнул огромный пожар, здания рушились, мужчины, женщины, дети стонали под развалинами. В город приехал сам король и, по словам отца, вел себя благородно: всю ночь провел на улицах, подбодрял тех, кто остались в живых и старались потушить пожар и спасти как можно больше людей из—под камней и обломков. По его почину, во всем королевстве собирали пожертвования в пользу пострадавших, и, кроме того, им выдали сто тысяч гульденов из казны. Это случилось в 1807 году. Если не ошибаюсь, в то время отцу было только девятнадцать лет, но он прекрасно все помнит. Среди убитых был и один его друг — профессор Люзак. В церкви Святого Петра в память его прибили доску, и, что всего удивительней, на доске изображен сам профессор в том виде, в каком его нашли после взрыва.
— Вот чудно—то! А что, памятник Бурхааву тоже находится в церкви Святого Петра?
— Не помню. Может быть, Питер знает.
Капитан очень обрадовал Бена, подтвердив, что памятник действительно там и мальчики, вероятно, смогут посмотреть его сегодня.
— Ламберт, — продолжал Питер, — спроси Бена, видел ли он вчера портрет Ван дер Верфа в ратуше.
— Нет, — сказал Ламберт. — Я могу ответить вместо него. Идти туда было уже поздно. Слушайте, ребята, просто удивительно, сколько Бен знает! Он уже успел так много рассказать мне из истории Нидерландов, что этого хватило бы на целый том. Держу пари, он знает назубок историю лейденской осады.
— Ну, в таком случае, «зубок» у него воспален, — вмешался Людвиг: — ведь, если Бильдердейк пишет правду, это было довольно жаркое дело.
Бен смотрел на них с вопросительной улыбкой.
— Мы говорим об осаде Лейдена, — объяснил ему Ламберт.
— Ах да, — с жаром проговорил Бей, — я совсем было позабыл о ней! А ведь это было здесь. Крикнем троекратно «ура» в честь старика Ван дер Верфа! Урр…
— Тише! — поспешно перебил его ван Моунен и объяснил, что голландская полиция, при всем ее патриотизме, вряд ли позволит целой ораве ребят кричать «ура» на улице.
— Как! Нельзя кричать «ура» Ван дер Верфу? — с негодованием воскликнул Бен. — Одному из величайших людей в истории? Подумать только! Ведь он много месяцев держался против кровожадных испанцев! Лейден был со всех сторон окружен врагами; огромные черные форты посылали огонь и смерть в самое сердце города… но никто не сдавался! Любой мужчина тогда был героем, а женщины и дети тоже были храбры и боролись, как львы… Когда истощились запасы продуктов, вырвали даже всю траву, что росла меж камней мостовой… Горожанам пришлось есть лошадей, кошек, собак, крыс. Потом вспыхнула чума… Люди сотнями умирали на улицах, но не сдавались! И вот, когда у них уже не стало сил терпеть и они, при всем своем мужестве, столпились на площади вокруг Ван дер Верфа, умоляя его сдаться, что же тогда сказал благородный старый бургомистр? Он сказал: «Я поклялся защищать этот город и с божьей помощью намерен защитить его! Если мое тело может утолить ваш голод, возьмите это тело и разделите между собой… но, пока я жив, и не думайте о сдаче!» Ур—ра!
Бен заорал так громко, что Ламберт в шутку шлепнул его ладонью по губам. В результате последовала одна из тех схваток, когда противники, столкнувшись, отскакивают друг от друга, как мячи. Взрослых зрителей такие схватки приводят в ужас, а желторотых юнцов — в восторг.
— Что такое, Бен? — спросил Якоб, бросаясь вперед.
— Да ничего, — ответил Бен задыхаясь. — Просто ван Моунен опасался, как бы в этом благопристойном городе не вспыхнул бунт на английский лад. Он помешал мне кричать «ура» в честь старика Ван дер…
— Йа! Йа… Это нехорошо — кричать… шуметь для этого. Ты увидишь подобие старика Ван дер Дуса в Стадхейсе, — сказал Якоб по—английски.
— Увижу Ван дер Дуса? Я думал, там висит портрет Ван дер Верфа…
— Йа. — ответил Якоб, — Ван дер Верф… Ну так что же! Они одинаково хороши.
— Да, Ван дер Дус был благородный старый голландец, но это не Ван дер Верф. Я знаю, он защищал город, как кирпич, и…
— Ну зачем ты так говоришь, Бенджамин? Он защищал город не кирпичами; он сражался, как настоящий солдат — стрелял из пушек. Ты любишь насмехаться над всем голландским!
— Вовсе нет! Я сказал, что он защищал город, «как кирпич», а по—нашему это очень высокая похвала. Мы, англичане, называем «кирпичом» даже герцога Веллингтона.
Якоб удивился, но его возмущение уже остывало.
— Ну, это неважно. Я не понял сначала, что кирпич — это все равно что солдат; но это неважно.
Бен добродушно расхохотался и, заметив, что его двоюродный брат устал говорить по—английски, обернулся к своему другу, знавшему оба языка:
— Слушай, ван Моунен, говорят, те самые почтовые голуби, которые принесли утешительные вести осажденному городу, находятся где—то здесь, в Лейдене. Мне очень хотелось бы посмотреть их. Подумай только! Ведь в самый опасный момент ветер внезапно переменился и погнал на берег морские волны. Множество испанцев затонуло, а голландские корабли поплыли прямо поперек страны с людьми и провиантом и подошли к самым воротам города. И тут голуби очень пригодились: они переносили донесения, письма… Я где—то читал, что с тех пор о них благоговейно заботились. А когда голуби издохли, из них сделали чучела и поставили их для большей сохранности в ратуше. Нам непременно надо взглянуть на эти чучела.
Ван Моунен рассмеялся.
— Если так, Бен, — сказал он, — когда ты поедешь в Рим, ты, наверное, захочешь увидеть тех гусей, что спасли Капитолий. Но голубей наших посмотреть нетрудно. Они в том здании, где находится портрет Ван дер Верфа… А когда защищались упорнее, Бен: при осаде Лейдена или при осаде Хаарлема?
— Видишь ли, — ответил Вен подумав, — Ван дер Верф — один из моих любимых героев; ведь у всех нас есть свои любимцы среди исторических личностей. Но мне все—таки кажется, что осада Хаарлема вызвала более мужественное, более героическое сопротивление, чем даже осада Лейдена. Кроме того, хаарлемцы подали лейденским страдальцам пример храбрости и стойкости, потому что черед Хаарлема наступил раньше.
— Я не знаю подробностей хаарлемской осады, — сказал Ламберт, — знаю только, что это было в 1573 году. А кто победил?
— Испанцы, — ответпл Вен. — Голландцы держались много месяцев. Ни один мужчина не хотел сдаваться, да и ни одна женщина. Женщины взялись за оружие и храбро воевали рядом со своими мужьями и отцами. Три сотни из них сражались под командой Кенау Хесселар — это была замечательная женщина, храбрая, как Жанна д’Арк. Город был осажден испанцами под предводительством Фредерика Толедского, сына этого красавца герцога Альбы. Отрезанные от всякой помощи извне, жители были в явно безнадежном положении, но они стояли на городских стенах и громко бросали вызов противнику. Они даже кидали хлеб во вражеский лагерь, показывая этим, что не боятся умереть с голоду. Они мужественно держались до самого конца, ожидая помощи, — а она не приходила, — и становились все более и более дерзкими, пока не иссякли их запасы пищи. Тогда наступило страшное время. Сотни голодных падали мертвыми на улицах, а у живых едва хватало сил хоронить их. Наконец осажденные пришли к отчаянному решению: вместо того чтобы гибнуть от медленной пытки, они построятся в каре, поставив слабейших в середину, и толпой ринутся навстречу смерти, хотя почти нет надежды пробиться сквозь полчища врагов. Испанцы каким—то образом пронюхали это и, зная, что голландцы способны на все, решили предложить им сдаться на известных условиях.
— Давно было пора, по—моему.
— Еще бы! Обманом и предательством они вскоре сумели войти в город, так как обещали покровительство и прощение всем, кроме тех, кого сами горожане признали бы достойным смерти.
— Не может быть! — проговорил Ламберт, очень заинтересованный. — На этом, очевидно, дело и кончилось?
— Ничуть, — ответил Бон: — герцог Альба приказал своему сыну не давать пощады никому.
— А! Так вот. значит, когда произошло страшное хаарлемское побоище! Теперь припоминаю. Не приходится удивляться, что голландцы ненавидят Испанию, когда читаешь, как их резали герцог Альба и его молодчики. Хотя надо признать, что и наши порой мстили врагам ужасным образом. Впрочем, как я уже тебе говорил, я лишь очень смутно помню исторические события. Все у меня перепуталось… начиная от всемирного потопа и кончая битвой при Ватерлоо. Однако ясно одно: герцог Альба был самым подлым из всех подлецов на свете.
— Ну, так сказать про него — это еще очень мало, — заметил Бен. — Впрочем, мне даже думать противно об этом негодяе. Что из того, что он был умный человек, искусный полководец и все такое! Вот такие люди, как Ван дер Верф и… Что это ты?
— Знаешь, — сказал ван Моунен, удивленно оглядываясь по сторонам, — ведь мы прошли мимо музея, и я не вижу наших ребят. Давай вернемся.
Глава XXV. Лейден
В музее все мальчики встретились и тотчас же занялись осмотром его обширных коллекций и редкостей, обогащая свои познания в древней и современной жизни Египта. Бен и Ламберт не раз бывали в Британском музее и все—таки были поражены богатством лейденских коллекций. Здесь были выставлены домашняя утварь, одежда, оружие, музыкальные инструменты, саркофаги и мумии мужчин, женщин, кошек, ибисов и других животных.
Мальчики увидели массивное золотое запястье, которое носил один египетский фараон в те времена, когда, быть может, люди, которые превратились вот в эти самые мумии, быстро шагали по улицам Фив; видели драгоценные украшения, подобные тем, какие носила дочь фараона.
Были здесь и другие интересные древности из Рима и Греции, а также редкостная римская посуда, найденная при раскопках близ Гааги, — она сохранилась с тех времен, когда здесь селились соотечественники Юлия Цезаря. А где они только не селились!
Выйдя из этого музея, мальчики пошли в другой и там осмотрели замечательную коллекцию ископаемых животных скелетов, птиц, минералов, драгоценных камней и других экспонатов. Но, не будучи учеными ребята плохо разбирались в том, что видели, и только бродили среди коллекций, глядя на них вовсе глаза, радуясь, что знают хотя бы начатки естественной истории, и от всего сердца жалея, что не приобрели более основательных знаний.
Якоба поразил даже скелет мыши. И не мудрено: ведь ему не приходилось видеть, чтобы эти зверюшки, которые так боятся кошек, бегали в столь обнаженном виде, можно сказать, «в одних костях», — и мог ли он предполагать, какие диковинные у них шеи?
После Музея естественной истории надо было осмотреть церковь Святого Петра. Здесь находилась памятная доска профессора Люзака и памятник Бурхааву из белого и черного мрамора, с урной, на которой были высечены изображения четырех возрастов человеческой жизни — детство, юность, зрелость, старость — и медальоны Бурхаава с его любимым девизом: Simplex sigillum veri. Мальчиком разрешили войти в общественный сад, который летом был любимым местом отдыха лейденцев. Пройдя мимо оголенных дубов и фруктовых деревьев, они поднялись на высокий холм, расположенный в центре сада. Здесь некогда стояла круглая, теперь полуразрушенная башня. По мнению одних, она была построена англо—саксонским королем Хенгистом, другие говорили, что это был замок одного из древних графов Голландии.
Поднявшись на каменную стену, мальчики прошлись по ней, любуясь на окружающий город. Но вид был неширокий. Некогда башня была гораздо выше. Два века назад жители осажденного Лейдена в отчаянии кричали сторожевому, стоявшему наверху: «Помощь идет? Вода поднимается? Что ты там видишь?» И много месяцев он отвечал только одно: «Помощи нет. Я вижу вокруг лишь врагов».
Бен отогнал от себя эти мысли и стал упорно смотреть на голые деревья, воображая, что теперь лето и сад полон веселых гуляющих людей. Он старался позабыть о тучах дыма над древними полями сражений и представить себе только вьющийся кольцами табачный дым, поднимающийся из толпы мужчин, женщин и детей, в то время как они с удовольствием пьют чай или кофе на свежем воздухе… Но тут, вопреки всем его благим намерениям, произошла «трагедия».
Поот перегнулся через край высокой стены. «Ну конечно, не хватает только того, чтобы голова у него закружилась и он грохнулся вниз, — подумал Бен. — Это на него похоже». И Бен в досаде отошел. Если этот мальчишка с такой слабой головой отваживается на такие штуки, ну что ж, пускай себе падает… О ужас! Что значит этот грохот?
Бен был не в силах пошевельнуться. Он смог только выговорить:
— Якоб!
— Якоб! — послышался чей—то испуганный голос.
Близкий к обмороку, Бен заставил себя повернуть голову. Он увидел напротив, у края стены, толпу мальчиков… но Якоба среди них не было.
— Боже! — крикнул он, бросаясь вперед. — Где мой кузен?
Толпа расступилась. В сущности, это была не толпа: стояло всего четыре мальчика, а между ними сидел Якоб, держась за бока и хохоча от души.
— Я вас всех напугал, да? — сказал он на своем родном языке. — Ну ладно, расскажу вам, как все случилось. На стене лежал большой камень, я протянул ногу — только хотел чуть—чуть подвинуть его, — и вдруг камень покатился вниз, а я шлепнулся вверх тормашками. Не откинься я в ту секунду назад, не миновать бы мне лететь вниз вслед за камнем! Ну, все это пустяки. Помогите мне встать, ребята!
— Ты ушибся, Якоб? — сказал Бен, заметив, что лицо у его двоюродного брата слегка передернулось, когда ребята помогали ему подняться на ноги.
Якоб снова попытался рассмеяться:
— Да нет… немножко больно стоять, но это пустяки.
В тот день нельзя было осматривать памятник Ван дер Верфу в церкви Хоохландеке—керк, зато мальчики очень приятно провели время в Стадхейсе, то есть ратуше. Это — длинное, неправильной формы здание в полуготическом стиле, довольно нелепое в архитектурном отношении, но живописное от старости. Его маленькая колокольня, вся увешанная колоколами, казалось, была снята с какого—то другого здания и наспех приставлена к ратуше, чтобы придать ей законченный вид.
Поднявшись по великолепной лестнице, мальчики очутились в довольно плохо освещенном помещении, где находился шедевр Луки Ван—Лейдена, иначе Хейгенса, известного голландского художника. Уже в десять лет он хорошо писал красками, в пятнадцать сделался знаменитым. Его картина «Страшный суд» — поистине замечательное произведение, хотя написана она была в глубокую старину. Однако мальчики заинтересовались не столько достоинствами картины, сколько тем обстоятельством, что она триптих, то есть написана на трех отдельных досках, причем боковые створки, соединенные шарнирами со средней, могут, если нужно, складываться и закрывать ее.
Мальчикам понравились также исторические картины де Моора и других знаменитых голландских художников, а Бена пришлось чуть не силой оттащить от потускневшего старинного портрета Ван дер Верфа.
Ратуша, так же как и Египетский музей, стоит на Брееде—страат, самой длинной и красивой улице Лейдена. На этой улице нет канала, а дома с островерхими фасадами, выкрашенные в разнообразные цвета, чрезвычайно живописны. Некоторые дома очень высоки и покрыты ступенчатыми крышами; другие словно пригибаются к земле, отступая перед общественными зданиями и церквами.
Чистая, просторная, обсаженная тенистыми деревьями и украшенная множеством красивых особняков, эта улица выдерживает сравнение с самыми лучшими улицами Амстердама. Ее содержат в безукоризненной чистоте. Многие сточные канавы здесь покрыты дощатыми крышами, которые открываются, как люки, и снабжены насосами с блестящими медными украшениями — их постоянно протирают и начищают на общественный счет.
Город пересечен множеством водных дорог, образованных дельтой Рейна, но полтораста каменных мостов связывают разъединенные улицы. Рейн, словно утомленный длинным путем, течет здесь очень медленно. Эта всемирно известная река, утратив свое величие, ничуть не похожа на прекрасный, вольно текущий Рейн в его среднем течении, здесь она заменяет ров вокруг вала, окаймляющего Лейден. У массивных ворот, ведущих в город, через реку перекинуты подъемные мосты.
Красивые, широкие аллеи с прекрасными деревьями тянутся вдоль каналов и придают стоящим поодаль домам еще более уединенный вид, подчеркивая дух затворничества, который наложил свой отпечаток на весь город.
Осматривая здания на Раненбургском канале, Бен был слегка разочарован внешним видом славного Лейденского университета. Но потом он вспомнил историю этого университета: вспомнил, как торжественно он был заложен принцем Оранским в награду за мужество, проявленное горожанами во время осады; перебрал в уме великих людей — деятелей просвещения и науки, некогда учившихся здесь, и подумал о сотнях студентов, пользующихся теперь всеми благами его аудиторий и замечательных научных музеев. И Бен решил: неважно, что здание это не очень красивое. Но все же он чувствовал, что никакие украшения не помешали бы такому «храму науки».
Питер и Якоб смотрели на здание с еще более глубоким, более личным интересом: ведь им всего через несколько месяцев предстояло войти сюда уже студентами.
— В этой части света бедному Дон—Кихоту все время пришлось бы орудовать копьем, — сказал Бен, когда Ламберт обратил его внимание на своеобразие и красоту лейденских окраин. — Тут ветряные мельницы на каждом шагу. Помнишь, какой яростный поединок произошел у него с одной такой мельницей?
— Нет, не помню, — откровенно сознался Ламберт.
— Я тоже… то есть не совсем точно помню. Но что—то в этом роде с ним приключилось, а если нет, то могло приключиться… Посмотри на эти мельницы — как бешено вертят они своими огромными руками. Они и впрямь могли бы подстрекнуть полоумного рыцаря к борьбе не на жизнь, а на смерть. Смотришь на них и поражаешься. Помоги мне их сосчитать, ван Моунен, — те, которые мы сейчас видим. Я хочу записать крупную цифру в свою записную книжку.
И после тщательного подсчета, проверенного всем отрядом, Бен написал карандашом: «184… год …декабря. Вблизи Лейдена видел девяносто восемь ветряных мельниц».
Бен хотел было зайти на старую кирпичную мельницу, где родился художник Рембрандт, но раздумал, узнав, что отряду пришлось бы для этого сделать крюк. Не многие мальчики, будь они так голодны, как Бен, стали бы долго колебаться, выбирая между домом Рембрандта, до которого была целая миля, и гостиницей по соседству, где можно было перекусить. Бен избрал гостиницу.
После завтрака мальчики немного отдохнули, потом… спросили еще завтрак, который ради приличия назвали обедом. После обеда ребята сидели в гостинице и грелись — все, кроме Питера, у которого это время ушло на новые бесплодные поиски доктора Букмана.
Когда он вернулся, отряд уже был готов снова надеть коньки и тронуться в путь. Теперь мальчики были в тринадцати милях от Гааги и чувствовали себя такими же бодрыми, как вчера утром, когда выходили из Брука. Настроение у них было хорошее, а лед превосходный.
Глава XXVI. Дворец и лес
По пути мальчики видели множество красивых деревенских усадеб, построенных и украшенных в чистейшем голландском вкусе. Большое впечатление производили огромные, величественные дома, изысканно распланированные сады, прямоугольные живые изгороди и широкие канавы, через которые были кое—где перекинуты мосты с калиткой посредине, тщательно запирающейся на ночь. Эти канавы, пересекавшие местность во всех направлениях, давно уже утратили пленку, которая покрывала их воды летом, и теперь сверкали под солнцем, как длинные стеклянные ленты.
Мальчики бодро скользили и в то же время с удивительным проворством то и дело вытаскивали из карманов пряники, тотчас же исчезавшие у них во рту.
Пробежали двенадцать миль. Еще немного — и они очутились бы в Гааге, но ван Моунен предложил изменить курс и войти в город через Босх.
— Согласны! — крикнули все ребята в один голос, и коньки мгновенно слетели у них с ног.
Босх — это великолепный парк, или лес, почти в две мили длиной. В нем находится знаменитый «Дом в лесу» — «Хейс ин’т босх», некогда бывший королевской резиденцией.
Снаружи это здание кажется слишком простым для дворца, но оно роскошно обставлено и украшено прекрасными фресками, иначе говоря — росписью: на стенах и потолках красками изображены группы людей и различные орнаменты, написанные по еще сырой штукатурке. Некоторые комнаты обиты китайским шелком с красиво вышитыми узорами.
В одной из комнат собрано множество семейных портретов. Среди них висит портрет королевских детей, которые некогда лишились отца, погибшего под топором. Этих детей не раз писал голландский художник Ван—Дейк, придворный живописец их отца, английского короля Карла I. Это были очень красивые дети… Скольких бед избежал бы английский народ, будь они так же хороши душой и сердцем, как были хороши собой!
Парк вокруг дворца полон прелести, особенно летом, когда цветы и птицы превращают его в сказочную страну. Длинные ряды великолепных дубов поднимают свои гордые головы, зная, что ничья святотатственная рука не посмеет их срубить. Действительно, вот уже много веков, как этот лес почитается чуть ли не священным. В нем никогда не стучал топор дровосека, и даже детям не позволяют сломать здесь ни сучка. И войны и восстания благоговейно обошли его стороной, ненадолго приостановив свое разрушительное шествие.
Испанский король Филипп, казнивший голландцев сотнями, издал указ, запрещавший тронуть хоть ветку в этом прекрасном лесу. Однажды, во время величайшей нужды, государство уже решило было принести его в жертву, чтобы пополнить почти истощенную казну. Однако народ устремился спасать свой Босх и самоотверженно собрал нужную сумму денег, не допустив, чтобы лес был уничтожен.
Надо ли удивляться, что у здешних дубов такой величественный, бесстрашный вид! Птицы, слетаясь со всей Голландии, рассказывают им, как в других местах обрубают и подстригают деревья, придавая им различные формы, а они, эти дубы, остаются нетронутыми. Год за годом они разрастаются без помехи, становясь все пышнее и красивее. Их широко раскинувшаяся листва звенит песнями, отбрасывая прохладную тень на поляны и тропинки, и кивает своему отражению в залитых солнцем прудах.
Между тем природа, как бы вознаграждая людей за то, что ей хоть тут позволяют жить по—своему, отказывается от неизменного однообразия и с изяществом носит наряд, благоговейно ей подаренный: к прудам сбегают бархатисто—зеленые лужайки; причудливо извиваются тропинки; пылают заросли благоухающих цветов, а пруды и небо переглядываются, любуясь друг другом.
Босх был прекрасен даже в этот зимний день. Его деревья утратили свою листву, но под ними все так же сияли пруды, рябь которых сгладилась и вода стала ровной, как стекло. Небо ярко синело и, глядя вниз сквозь чащу ветвей, видело другое синее небо — правда, менее яркое, смотревшее вверх из—за чащи растений подо льдом.
Никогда еще закат не казался Питеру таким красивым, как в тот вечер, когда солнце обменивалось прощальными взглядами с окнами и блестящими крышами домов в раскинувшемся впереди городе. Никогда еще сама Гаага не казалась ему такой привлекательной. Ему чудилось, будто он уже не Питер ван Хольп, приближающийся к огромному городу, не юноша, склонный к туризму… нет, он рыцарь, искатель приключений, покрытый дорожной грязью, усталый; он — выросший мальчик—с–пальчик, он Фортунат, спешащий в заколдованный замок, где его ожидают роскошь и покой, — ведь дом его родной сестры теперь всего в полумиле.
— Наконец—то, ребята! — крикнул он в восторге. — Нас ожидает королевский отдых — мягкие постели, теплые комнаты и неплохая еда! Раньше я не понимал, какая все это прелесть. Ночевка в «Красном льве» научила каждого из нас ценить свой родной дом.
Глава XXVII. Принц—купец и сестра—принцесса
Питер был прав, представляя себе дом сестры похожим на заколдованный замок. Просторный, роскошный, он казался окутанным чарами безмолвия. Даже лев, пригнувшийся у ворот, как будто окаменел по волшебству.
Внутри дом сторожили «духи» в образе краснощеких служанок, бесшумно выбегавших на зов колокольчика или дверного молотка. Здесь жила и кошка, на вид такая же мудрая, как Кот в сапогах, а в вестибюле стоял медный гном, чьи обязанности заключались в том, чтобы, протянув руки вперед, принимать трости и зонтики посетителей.
Хорошо защищенный стенами, здесь цвел «сад наслаждений», и цветы в нем верили, что теперь лето, а сверкающий фонтан весело смеялся про себя, зная, что деду—морозу его не найти.
Была здесь и Спящая красавица — была в ту минуту, когда пришли мальчики, — но, едва Питер, как настоящий принц, легко взбежал наверх и поцеловал ее веки, чары рассеялись. Принцесса превратилась в его родную сестру, а волшебный замок — просто в один из самых красивых и удобных домов Гааги.
Как и следовало ожидать, мальчики встретили очень сердечный прием. После того как они поболтали с радушной хозяйкой, один из «духов» пригласил их к обильному столу, накрытому в комнате с красными драпировками, где пол и потолок блестели, как полированная слоновая кость, а все зеркала, куда ни кинешь взгляд, внезапно зацвели румяными мальчишескими лицами.
Вот теперь мальчикам подали икру, а кроме того, мясной винегрет, колбасу, сыр, потом салат, фрукты, бисквит и торт. Как могли мальчики уплетать такую смесь, это было тайной для Бена: ведь салат был кислый, а торт был сладкий; фрукты благоухали, а винегрет был обильно приправлен луком и рыбой… Но хоть и удивляясь, Бен сам наелся до отвала и вскоре погрузился в раздумье: что предпочесть — кофе или анисовый напиток? И как это было приятно — брать кушанья с блюд матового серебра и пить из ликерных рюмочек, достойных губок феи Титании! Впоследствии мальчик написал матери, что, как ни хороши и добротны вещи у них дома, он не знал, что такое хрусталь, фарфор и столовое серебро, пока не побывал в Гааге.
Сестра Питера, разумеется, скоро узнала обо всех приключениях нашего отряда. Мальчики рассказали ей о том, как они пробежали на коньках больше сорока миль и любовались по дороге всякими замечательными видами: о том, как они потеряли кошелек и снова нашли его, о том, как один из отряда упал, и благодаря этому они чудесно прокатились на буере; и в довершение всего — о том, как они поймали грабителя и таким образом вторично спасли свой вечно ускользающий кошелек.
— А теперь, Питер, — промолвила его сестра, когда рассказ пришел к концу, — ты сейчас же должен написать в Брук, что ваши приключения в самом разгаре и тебя вместе с твоими спутниками забрали в плен.
Мальчики удивленно взглянули на нее.
— Нет, этого я не сделаю, — рассмеялся Питер. — Нам надо уходить завтра в полдень.
Но сестра его решила иначе, а голландку не так легко заставить изменить ее решение. Словом, она прельстила ребят такими неодолимыми соблазнами, была так весела и оживлена, привела — по—английски и по—голландски — столько ласковых и неопровержимых доводов, что все ребята пришли в восторг и согласились пробыть в Гааге не менее двух дней.
Потом заговорили о конькобежных состязаниях, и мевроу ван Генд охотно обещала присутствовать на них.
— Я увижу твое торжество, Питер, — сказала она: — ведь из всех, кого я знаю, ты самый быстроногий конькобежец.
Питер покраснел и тихонько кашлянул, а Карл ответил за него:
— Да, мевроу, он быстро бегает, но в Бруке все ребята — прекрасные конькобежцы… даже оборванцы. — И он недоброжелательно подумал о бедном Хансе.
Хозяйка рассмеялась.
— Тем увлекательнее будут состязания, — сказала она. — Но мне хочется, чтобы каждый из вас вышел победителем.
Тут в комнату вошел ее муж, мейнхеер ван Генд, и мальчики, уже очарованные всем окружающим, пришли в полный восторг.
Невидимые феи этого дома сейчас же собрались вокруг них и зашептали, что у Яспера ван Генда сердце так же молодо и свежо, как у них, мальчиков, и уж если он любит что—нибудь больше, чем промышленность, так это солнечный свет и веселье. Они шепнули также, что сердце у него любящее, а голова умная, и, наконец, дали понять мальчикам, что, когда мейнхеер ван Генд что—нибудь говорит, он говорит искренне.
Поэтому ребята почувствовали себя совсем свободно и развеселились, как белки, когда хозяин, пожимая им руки, приветливо говорил:
— Ну как это приятно, что вы у нас!
В гостиной были хорошие картины, превосходные статуи, папки с редкостными голландскими гравюрами, а также много красивых и любопытных вещей, вывезенных из Китая и Японии. Мальчикам казалось, что на осмотр всех сокровищ этой комнаты ушло бы не меньше месяца.
Бену было приятно видеть на столе английские книги. Он увидел также над резным пианино портреты в натуральную величину Вильгельма Оранского и его жены, английской королевы, и это на время сблизило в его сердце Англию с Голландией.
В то время как Бен смотрел на портреты, мейнхеер ван Генд рассказывал мальчикам о своей недавней поездке в Антверпен. В этом городе родился кузнец Квентин Матсейс, который из любви к дочери одного художника учился живописи, пока сам не сделался великим живописцем. Мальчики спросили хозяина, видел ли он картины Матсейса.
— Еще бы! — ответил он. — Прекрасные картины! Особенно хорош его знаменитый триптих в часовне Антверпенского собора. На средней его доске изображено снятие Иисуса с креста. Но, должен сознаться, мне было интереснее посмотреть колодец его работы.
— Какой колодец, мейнхеер? — спросил Людвиг.
— Он в самом центре города, близ того же собора, высокая колокольня которого так ажурна, что французскому императору она напоминала малинские кружева. Над колодцем устроен навес в готическом стиле, увенчанный фигурой рыцаря в полном вооружении. Все это выковано из металла и доказывает, что Матсейс, работал ли он у горна или у мольберта, был и в том и другом случае великим мастером своего дела. Больше того — его громкая слава объясняется главным образом тем, что он необычайно искусно умел ковать железо.
Затем хозяин показал мальчикам великолепное чугунное ожерелье, сделанное в Берлине и купленное им в Антверпене. Эту «чугунную драгоценность» составляли красивые медальоны очень изящной работы с рисунками, окаймленными превосходной резьбой и ажурным орнаментом. Как сказал мейнхеер ван Генд, это украшение было достойно того, чтобы его носила самая прекрасная женщина в Нидерландах. После чего он с поклоном и улыбкой преподнес ожерелье зардевшейся мевроу ван Генд.
Что—то промелькнуло на ее красивом молодом лице, когда она наклонилась к подарку. Ее муж заметил это и сказал серьезным тоном:
— Я читаю твои мысли, милочка.
Она подняла глаза с шутливо—вызывающим видом,
— А! Теперь я уверен, что прочел их правильно. Ты думала о тех самоотверженных женщинах, без которых Пруссия, быть может, погибла бы. Я догадался об этом по гордому блеску твоих глаз.
— Ну, значит, гордый блеск моих глаз обманчив, — ответила она. — Я не помышляла о столь великих событиях. Откровенно говоря, я просто думала о том, как подойдет это ожерелье к моему голубому парчовому платью.
— Так, так! — воскликнул ее супруг, немного смутившись.
— Но я могу вспомнить и о них, Яспер, и тогда твой подарок покажется мне еще более ценным… Ты не забыл этих событий, Питер? Помнишь, как французы вторглись в Пруссию и страна не могла защищаться от врагов, так как у нее не хватало на это средств? Тогда женщины перетянули чашу весов — они пожертвовали государству свое столовое серебро и драгоценности.
«Ага! — подумал мейнхеер ван Генд, поймав загоревшийся взгляд своей вроу. — Теперь гордый огонь горит по—настоящему».
Питер лукаво заметил, что, однако, и после этого женщины остались такими же тщеславными, как и были, — ведь они все—таки не перестали носить украшения. Правда, они расстались со своим золотом и серебром, отдав его государству, но заменили их чугуном, так как не могли обойтись без своих побрякушек,
— Ну и что ж из этого? — сказала хозяйка, снова загораясь. — Не грешно любить красивые вещи, если умеешь приспосабливаться к обстоятельствам. Эти женщины спасли свою родину и косвенным путем создали очень важную отрасль промышленности. Вот все, что я могу сказать. Не так ли, Яспер?
— Конечно, милочка, — подтвердил ее муж. — Но мне незачем убеждать Питера, что во всем мире женщины всегда были на высоте, когда приходил час испытаний для их родины, тем более, — тут он сделал поклон в сторону жены, — что его соотечественницы занимают видное место в летописях женского патриотизма и самоотвержения.
Затем, повернувшись к Бену, хозяин заговорил с ним по—английски об Антверпене, этом прекрасном древнем бельгийском городе. Между прочим, он рассказал и о происхождении его названия. Бена учили, что слово «Антверпен» происходит от слов «аан’т верф» — на верфи; но мейнхеер ван Генд гораздо интереснее объяснил, почему так назвали город.
Сохранилось предание, что около трех тысяч лет назад огромный великан Антигон жил у реки Схельд (Шельды), на том месте, где теперь стоит город Антверпен. Великан отбирал у всех моряков, проплывавших мимо его замка, половину их товаров. Некоторые, конечно, пытались сопротивляться. В таких случаях Антигон хватал купцов и, чтобы научить их впредь вести себя прилично, отрубал им правую руку и бросал в реку эти руки. Слова «ханд верпен» (бросание рук), превратившись в Антверпен, дали название этому месту. На гербе города изображены две руки. Какое еще нужно доказательство того, что это предание — быль? Особенно… если хочется верить!
— В конце концов, — закончил мейнхеер, — великан был побежден и брошен в реку Схельд героем, по имени Брабо, который, в свою очередь, дал название одному округу — а именно Брабанту. С тех пор голландские купцы спокойно плавают по реке. Что касается меня, я очень благодарен этому Антигону за то, что по его милости городу приписывают столь романтическое происхождение.
После того как мейнхеер ван Генд рассказал на двух языках предание об Антверпене, ему захотелось рассказать и другие легенды — одни по—английски, другие по—голландски. И так минуты, влекомые на плечах проворных гномов и великанов, быстро бежали вплоть до часа отхода ко сну.
Трудно было прервать такую приятную беседу, но жизнь в доме ван Гендов протекала с точностью часового механизма. После того как все сердечно пожелали друг другу спокойной ночи, задерживаться на пороге не разрешалось. А когда наши мальчики поднимались по лестнице, невидимые домашние феи опять витали вокруг них, шепча, что порядок и точность были главной основой благосостояния хозяина.
В этом особняке не было «прекрасных комнат с тремя кроватями». В некоторых спальнях, правда, стояло по две кровати, но каждому гостю предоставлялось отдельное ложе. К утру можно было сказать, что на этот раз не только Якоб, а все мальчики стали походить на куколки бабочек; но по крайней мере все они спали порознь. И уж кто—кто, а Питер отнюдь не был этим огорчен.
Бен заметил в углу затейливый шнурок от звонка, потом, как он ни устал, принялся разглядывать свою постель. Все его удивляло: и чудесная тонкая наволочка, отороченная дорогими кружевами, с вышитыми на ней великолепным гербом и монограммой, и «декбед» — огромное шелковое одеяло во всю ширину кровати в виде перины на лебяжьем пуху, и стеганые покрывала из розового атласа, вышитые цветочными гирляндами. Он долго не мог заснуть, думая о том, какая у него необыкновенная кроватка — такая удобная и красивая, несмотря на все ее своеобразие.
Утром Бен тщательно осмотрел и верхнее покрывало, так как хотел описать его в своем следующем письме домой. Это было японское покрывало, превосходное как по качеству ткани, так и по своей пестрой, яркой расцветке.
Хорошо натертый паркетный пол был почти весь покрыт богатым ковром, отороченным густой черной бахромой. В другой комнате вокруг ковра виднелась полоса пола из атласного дерева. Стены, обитые малиновым шелком, были увешаны гобеленами, а золоченый карниз над ними отбрасывал отблески света на блестящий пол.
Над дверью комнаты, где спали Якоб и Бен, был укреплен бронзовый аист с вытянутой шеей, державший в клюве лампу, которая освещала путь гостям. Между двумя узкими кроватями из резного тюльпанового и черного дерева стояло родовое сокровище ван Гендов — массивное дубовое кресло, на котором некогда сидел Вильгельм Оранский во время одного заседания совета. Напротив стоял комод с тонкой резьбой, хорошо отполированный, набитый кипами дорогого белья. Рядом с ним стоял стол, на нем лежала большая библия, и ее огромные золотые застежки казались ничтожными по сравнению с прочным ребристым переплетом, способным пережить шесть поколений.
На каминной полке стояла модель корабля, а над нею висел старинный портрет Петра I, который, как вам известно, когда—то предоставил голландским портовым кошкам удобный случай посмотреть на государя, а это — одна из кошачьих привилегий. Петр, хоть он и был русским царем, не стыдился работать простым корабельным мастером на саардамских и амстердамских доках, чтобы потом в своем отечестве применить усовершенствованные голландские методы кораблестроения. Это стремление досконально изучать и отлично выполнять всякое, даже самое маленькое, дело и заслужило ему прозвище Великого.
Петр, или Питер, маленький (относительно) в то утро встал первым. Зная любовь своего зятя к порядку, oн прежде всего позаботился о том, чтобы никто из мальчиков не проспал. Трудненько оказалось растолкать Якоба Поота. Но Питер стянул его с кровати и, немного потаскав по комнате с помощью Бена, все—таки разбудил.
Пока Якоб одевался охая, потому что войлочные туфли, предоставленные ему как гостю, были слишком тесны для его распухших ног, Питер написал в Брук о благополучном прибытии отряда в Гаагу. Кроме того, он попросил свою мать передать Хансу Бринкеру, что доктор Букман еще не приехал в Лейден, но что письмо с просьбой Ханса оставлено на имя доктора в гостинице, где он всегда останавливается, приезжая в город.
«Скажите ему также, — писал Питер, — что я снова зайду в гостиницу, возвращаясь через Лейден. Бедный малый, видимо, не сомневается, что меестер бросится спасать его отца; но мы—то лучше знаем этого грубого старика, и я уверен, что он к Бринкерам не придет. Хорошо было бы теперь же послать к ним какого—нибудь амстердамского врача, если только юфроу Бринкер согласится принять кого—нибудь, кроме великого короля медиков. Впрочем, доктор Букман и правда лучший из наших врачей… Знаете, мама, — добавил Питер, — я всегда считал дом сестры ван Генд довольно тихим и скучным. Но теперь он совсем не такой. Сестра говорит, что мы согрели его на целую зиму. Брат ван Генд очень любезен со всеми нами. Он говорит, что, глядя на нас, ему захотелось иметь полон дом своих мальчиков. Он обещал позволить нам ездить верхом на его породистых вороных лошадях, уверяя, что они смирные, как котята, если только не распускать поводья. Бен, по словам Якоба, отличный наездник, да и ваш сын Питер кое—что смыслит в верховой езде. Итак, сегодня утром мы оба вместе поедем верхом, как рыцари в старину. Брат ван Генд сказал, что, когда мы вернемся, он даст Якобу своего английского пони, достанет еще трех лошадей, и весь наш отряд продефилирует по городу великолепной кавалькадой во главе с хозяином. Сам он поедет на том вороном коне, которого отец прислал ему из Фрисландии. Лошадь сестры, красавица чалая с длинным белым хвостом, захромала, и сестра не хочет ездить на другой, а то и она поехала бы с нами. Мне едва удалось заснуть, после того как сестра вчера вечером сказала мне об этом проекте. Только мысль о бедном Хансе Бринкере и его больном отце тревожила меня; не будь этого, я запел бы от радости. Людвиг уже придумал нам прозвище: «Брукская кавалерия». Мы хвастаемся, что зрелище будет внушительное, особенно когда мы вытянемся гуськом…»
«Брукской кавалерии» не пришлось разочароваться. Мейнхеер ван Генд быстро достал хороших лошадей, так что все мальчики смогли покататься, хотя ни один из них не ездил верхом так умело, как Питер и Бен.
На Гаагу они насмотрелись досыта. Посмотрела на них и Гаага, выразив свое одобрение или громко — криками мальчишек и лаем упряжных собак, — или безмолвно — взором ясных глазок. Впрочем, эти глазки не заглядывали слишком глубоко, а потому загорались при виде красивого Карла, но искрились смехом, когда некий тучный юнец с трясущимися щеками проезжал мимо, тяжело подскакивая в седле.
Вернувшись, мальчики собрались у огромной кафельной печки в гостиной, единогласно признав ее весьма полезным предметом домашней обстановки, так как вокруг нее можно было столпиться и согреться, не обжигая себе носа и не застуживая спины. Печка была так велика, что, хотя стенки ее и не накалялись, она, казалось, обогревала весь дом. Вся белая, чистая, с полированными медными кольцами, она была очень красива. Тем не менее неблагодарный Бен, хотя он совсем согрелся у этой печки и чувствовал себя прекрасно, решил поиздеваться над ней в своем следующем письме и сочинил такую фразу:
«В Голландии печи — как огромные снежные башни. А как же иначе? Ведь эта страна — сплошное противоречие».
Если описать все, что мальчики видели и делали в тот день и на следующий, эта маленькая книжка превратилась бы в огромнейший том. Они осмотрели медеплавильный завод, где производили пушки; видели, как огненная жидкость льется в формы, и смотрели на полуобнаженных литейщиков, которые стояли в тени, как демоны, играющие с пламенем.
Они восхищались величественными общественными зданиями и массивными частными домами, красивыми улицами и прекрасным Босхом — гордостью всех голландцев, любящих красоту природы. Дворец и его блестящие мозаичные полы, покрытые росписью потолки и великолепные орнаменты привели в восторг Бена, однако мальчика удивляло, что внутренняя отделка некоторых церквей слишком проста: в этих голых выбеленных стенах было как—то пусто и скучно. Впрочем, снаружи иные церкви казались довольно красивыми.
Если бы не было исторических книг, церкви Голландии могли бы рассказать почти всю ее историю. Я не буду говорить здесь об этом подробно, скажу только, что Бен читал о борьбе и страданиях этой страны и о том страшном отмщении, которое она иногда воздавала своим врагам. А потому он не мог ходить по голландским городам без того, чтобы в ужасе не перескакивать мысленно через кровавые ступени ее истории.
Даже радуясь тому процветанию, которое началось в Нидерландах вслед за освобождением, он не мог забыть ни Филиппа Испанского, ни герцога Альбу. Всюду в глазах самых кротких голландцев Бен искал то пламя, что некогда освещало измученные лица тех отчаявшихся людей, которых их угнетатели поставили вне закона и прозвали «гезами» (нищими). Но эти люди с гордостью носили свое прозвище и стали грозой морей и суши.
В Хаарлеме ему казалось, что в воздухе еще должны бы звучать крики трех тысяч жертв герцога Альбы. В Лейдене сердце его переполнялось состраданием, когда он думал о длинном шествии охваченных ужасом, изголодавшихся горожан, которые после снятия осады, шатаясь, плелись к огромной церкви во главе с Адрианом Baн дер Верфом, чтобы пропеть победные песнопения во славу освобожденного Лейдена. И ведь они пошли туда раньше, чем отведали хлеба, привезенного голландскими кораблями: люди хотели сначала возблагодарить небо, а потом уже утолить голод. Тысячи дрожащих голосов радостно пели благодарственную песню, звуча все громче и громче. Но вдруг песня оборвалась, перейдя в рыдание, — ни один человек из всей огромной толпы не в силах был продолжать.
Здесь, в Гааге, Вену приходили в голову и другие мысли: о том, как впоследствии Голландия против воли подставила шею под французское ярмо и как, невыносимо оскорбляемая и угнетаемая, она решительно сбросила его с себя. За это она нравилась Бену. «Какая самолюбивая нация, — думал он, — согласится тяжело работать, вносить все свое богатство в казну чужой страны и отдавать цвет своей молодежи в чужие войска! Еще не так давно было слышно, как английские пушки грохочут у берегов Северного моря. Наконец—то борьба кончилась. Голландия стала независимым государством!»
Придя к такому великодушному выводу, он приготовился извлечь как можно больше удовольствия из чудес голландской столицы и привел в восторг мейнхеера ван Генда своим горячим и умным интересом ко всему окружающему. Впрочем, то же самое относилось ко всем мальчикам: ни один туристский поход не знал более веселых, более наблюдательных участников.
Глава XXVIII. По Гааге
Картинная галерея в Мориц—Хейсе (одна из лучших в мире) словно промелькнула мимо мальчиков за те два часа, что они осматривали ее, — так много здесь можно было увидеть и стольким полюбоваться. В том же здании находился королевский кабинет редкостей. И мальчики провели там почти полдня, но им казалось, будто они только заглянули в него, — так он был богат экспонатами. Можно было подумать, что Япония сосредоточила в этом кабинете все свои сокровища. Долгое время Голландия была единственной страной, торговавшей с Японией, и, посетив музей в Гааге, можно основательно познакомиться с японской материальной культурой.
Комната за комнатой заняты коллекциями, вывезенными из Японии. Здесь собраны костюмы, которые носили представители различных классов японского общества и люди разных профессий, предметы роскоши, домашняя утварь, оружие, доспехи, медицинские инструменты.
Здесь также хранится искусно сделанная модель японского острова Дешимы, где находится голландская фактория. При взгляде на эту модель кажется, будто это настоящий остров, на который смотришь в перевернутый бинокль, чувствуя себя каким—то Гулливером, неожиданно очутившимся среди лилипутов. На этом игрушечном острове видишь сотни людей в национальных костюмах; они стоят, сидят на корточках, нагибаются и все заняты работой или делают вид, что заняты, а их жилища, даже мебель воспроизведены во всех подробностях.
В другой комнате стоит черепаховый игрушечный домик огромных размеров, обставленный в голландском вкусе и населенный чопорными голландскими куклами. Достаточно бросить на него взгляд, чтобы узнать, как живут люди в Голландии. Гретель, Хильда, Катринка, даже гордая Рихи Корбес пришли бы в восторг от такого домика, но Питер и его доблестная команда пробежали мимо, не подарив ему ни одного взгляда.
Зато орудия войны удостоились чести задержать мальчиков на целый час. Какие тут были палицы, смертоносные кинжалы, огнестрельное оружие и, самое главное, какие замечательные японские мечи!
В коллекции были также китайские и другие восточные редкости. Были здесь и нидерландские исторические реликвии, на которые наши юные голландцы смотрели, не выражая ни малейшего восхищения, хотя втайне гордились, показывая их Бену. Здесь стояла также модель саардамской хижины, в которой Петр I жил короткое время, пока работал корабельным мастером.
Тут же хранились кожаные сумки и чашки, некогда принадлежавшие гезам—конфедератам, которые объединились под предводительством принца Оранского и освободили Голландию от испанской тирании, хранилась и шпага адмирала ван Спейка, который погиб за десять лет до этого, добровольно взорвав свой корабль, а также — латы ван Тромпа со следами пуль. Якоб оглядывался кругом, надеясь увидеть ту самую швабру, которую смелый адмирал привязал к верхушке мачты, но ее здесь не оказалось.
Жилет, который носил английский король Вильгельм III в последние дни своей жизни, возбудил горячий интерес Бена, и все осматривали со смешанным чувством благоговения и ужаса одежду, бывшую на Вильгельме Молчаливом, когда Балтазар Герардс убил его в Дельфте. Красно—бурая кожаная куртка и простой плащ из серого сукна, мягкая войлочная шляпа и высокий воротник с брыжами, с которого свешивалась одна из медалей гезов — все эти вещи сами по себе вовсе не были роскошными, но темные пятна и дырки от пуль придавали куртке трагическую значительность. Глядя на эту одежду, Бен охотно верил, что Молчаливый принц, как и подобало такому благородному человеку, одевался очень просто. Но аристократические предрассудки юного англичанина были оскорблены, когда Ламберт рассказал ему о том, каким образом невеста Вильгельма впервые прибыла в Гаагу.
— Прекрасная Луиза де Колиньи, отец и первый муж которой погибли в Варфоломеевскую ночь, должна была приехать, чтобы стать четвертой женой принца, — сказал Ламберт, — и, конечно, мы, нидерландцы, были слишком галантны, чтобы позволить даме прибыть в город пешком. Нет, сэр, мы послали — вернее, мои предки послали — за нею чистую открытую почтовую повозку с доской для сиденья.
— Да, действительно галантно! — воскликнул Бен, улыбаясь вежливо, но почти язвительно. — А ведь она была дочерью французского адмирала.
— Разве? Признаюсь, я чуть не позабыл об этом. Но видишь ли, в доброе старое время голландцы вели очень простой образ жизни. Да мы и до сих пор очень простые люди, с умеренными потребностями. Дом ван Гендов, заметь себе, — очень редкое исключение.
— И, по—моему, очень приятное исключение, — сказал Бен.
— Конечно, конечно. Но мейнхеер ван Генд сам нажил свое состояние, и хоть он и живет в роскоши, а потребности у него умеренные.
— Совершенно верно, — сказал Бен с чувством и погладил верхнюю губу и подбородок, на которых, как ему казалось, с недавних пор появились приятные и несомненные признаки того, что он скоро станет совсем взрослым.
Бродя пешком по городу, Бен нередко вспоминал о хороших английских тротуарах. Здесь, как и в других городах, не было ни тумб, ни поднятых над уровнем улицы тротуаров для пешеходов, но мостовые были чистые и ровные, и все экипажи строго придерживались отведенного им пространства. Странным образом сани здесь встречались почти так же часто, как и колесные экипажи, хотя нигде не было ни снежинки. Сани громко скребли по кирпичам или булыжникам, и к некоторым из них спереди был прикреплен аппарат, поливавший улицу водой, чтобы ослабить трение; «музыка» других заглушалась маслом, капающим с масляной тряпки, которой кучер время от времени смазывал полозья.
Бена удивляло, что голландские рабочие занимались своим делом совершенно бесшумно. Даже у товарных складов и доков не было суеты, не слышалось крикливых переговоров. Движение трубки, поворот головы или, самое большее, взмах руки, и люди уже понимали друг друга. Тяжелые грузы сыра или сельдей перегружались с повозок или судов на склады без единого слова; зато любой прохожий рисковал быть сбитым с ног: занятый работой голландец редко оглядывается по сторонам.
У бедного Якоба Поота, с которым во время этого похода то и дело случалось что—нибудь неприятное, прямо дыхание сперло, когда в него попала огромная головка сыра, которую один толстый голландец перебрасывал своему соседу—рабочему. Но мальчик оправился и пошел дальше, не проявив ни малейшего возмущения.
Бен выразил ему свое горячее сочувствие, но Якоб сказал, что это пустяки.
— Так почему же ты скорчил такую гримасу, когда в тебя попал сыр?
— Почему я скорчил гримасу? — степенно повторил Якоб. — Потому что это… это…
— Что — это? — лукаво добивался ответа Бен.
— Это… ну, как это называется по—вашему… то, что чувствуешь носом?
Бен рассмеялся:
— Ты хочешь сказать — запах?
— Да, вот именно! — подхватил Якоб. — Так в нос ударило, что я поморщился.
— Ха—ха—ха! — громко расхохотался Бен. — Вот это мне нравится! Голландцу не по нутру запах сыра! Ну, уж этому я никогда не поверю!
— Ну что ж, — отозвался Якоб, добродушно плетясь рядом с Беном. — Подожди, пока и в тебя попадет головка сыра… вот и все.
В эту минуту Ламберт окликнул Бена:
— Стой, Бен! Вот и рыбный базар. В это время года здесь ничего особенно интересного не увидишь. Но, если хочешь, пойдем посмотреть на аистов.
Бен знал, что здесь особенно почитают аистов и что эта птица даже изображена на гербе столицы Голландии. Мальчик заметил на крышах деревенских домов тележные колеса — их кладут туда, чтобы соблазнить аистов гнездиться на домах. Не раз видел он на всем пути от Брука до Гааги огромные гнезда на тростниковых островерхих крышах. Но теперь была зима. Гнезда опустели. В них уже не было жадных птенцов, разевающих рот при виде огромной белокрылой птицы с вытянутыми ногами и шеей и трепещущим завтраком в клюве. «Длинноклювые теперь далеко, — думал Бен, — они клюют пищу на берегах Африки». А когда они возвратятся весной, его уже не будет в стране плотин.
Поэтому, идя вслед за ван Моуненом по рыбному базару, Бен проталкивался вперед, стремясь узнать, похожи ли голландские аисты на тех унылых птиц, которых он видел в лондонских зоологических садах.
Старая история! Что ни говори, а ручная птица — невеселая птица. Здесь аисты жили в каких—то конурах, прикованные цепями за ноги, как преступники. Считалось, однако, что они в почете, раз их содержат на общественный счет. Летом им позволяли разгуливать по базару, и рыбные ларьки служили им бесплатными ресторанами. Нетронутые деликатесы в виде сырой рыбы и отбросов из мясных лавок и сейчас валялись у их конур, но птицы равнодушно стояли на одной ноге, изогнув назад длинную шею, и задумчиво щурились, склонив голову набок. С какой радостью обменяли бы они свое положение любимцев на хлопотливую жизнь какой—нибудь по горло занятой аистихи—матери или аиста—отца, которые воспитывают беспокойную семью на крыше покосившегося, ветхого строения и, вылетая порезвиться, всякий раз смертельно пугаются ветряных мельниц, хлопающих крыльями!
Бен решил вскоре — и он был прав, — что Гаага с ее красивыми улицами и общественными парками, засаженными вязами, — великолепный город. Жители здесь в большинстве одевались, как в Лондоне или Париже, а музыка английских слов не раз услаждала его британский слух. Магазины во многом отличались от лондонских, но их нередко украшало печатное объявление, гласившее: «Здесь говорят по—английски». Другие лавки вывешивали объявление о продаже лондонского портера, а один ресторан даже обещал угостить своих посетителей «английским ростбифом».
Над всеми лавками висела неизменная вывеска: «Табак те кооп», то есть: «Продается табак».
У входа в каждую аптеку вместо высоких банок с пиявками или: цветных стеклянных шаров в окнах стояла деревянная голова турка с разинутым ртом; а если аптека была побогаче — то и деревянная фигура китайца, зевающего во весь рот. Некоторые из этих диковинных голов чрезвычайно забавляли Бена — казалось, они только что проглотили дозу лекарств, — но ван Моунен заявил, что не видит в них ничего смешного. Аптекарь поступает очень разумно, сказал он, помещая у входа «гапера» (зеваку): так сразу видно, что его лавка — аптека.
Бена заинтересовало и кое—что другое — именно тележки с молоком. Это были запряженные собаками маленькие тележки, нагруженные блестящими медными котелками или глиняными кувшинами. Молочный торговец степенно шагал рядом с тележкой, правя собакой, и раздавал молоко покупателям. У некоторых рыбных торговцев тоже были тележки в собачьей упряжке, и, когда собака селедочника встречалась с собакой молочника, она неизменно принимала задорный вид и рычала, проходя мимо. Временами пес молочного торговца, завидев на той стороне улицы другого пса, тоже тащившего тележку с молоком, узнавал в нем своего приятеля, и как тогда тарахтели котелки, особенно если они были пусты! Оба пса бросались вперед и, не обращая внимания на свист хозяев, рвались друг к другу, чтобы встретиться на полпути. Иногда они довольствовались любознательным обнюхиванием; но обычно тот пес, что был меньше ростом, ласково хватал за ухо другого или же затевал с ним дружескую потасовку, чтобы немного поразмяться. И тогда — горе котелкам!.. И горе собакам!.. Получив взбучку от хозяев, оба пса по мере сил выражали свои чувства, а затем не спеша снова принимались за работу.
Если некоторые из животных вели себя взбалмошно, то другие отличались исключительно хорошим поведением. В городе была собачья школа, устроенная специально для их обучения, и Бен, вероятно, видел собак, кончивших в ней курс. Не раз он встречал парную упряжку барбосов, которые трусили по улицам, гордые, как лошади, и повиновались малейшему знаку хозяина, быстро шагавшего рядом с ними. Порой, когда весь товар был распродан, торговец сам вскакивал в тележку и с удобством катил домой за город. А иногда, как ни грустно это отметить, рядом с тележкой плелась его терпеливая жена, держа корзину с рыбой на голове и ребенка на руках, в то время как ее повелитель ехал, обремененный одной лишь коротенькой глиняной трубкой, дым которой, поднимаясь, любовно окутывал лицо женщины.
Глава XXIX. День отдыха
Осмотр достопримечательностей пришел—таки к концу, так же как и пребывание мальчиков в Гааге. Они прекрасно провели трое суток у ван Гендов и, как ни странно, ни разу за все это время не надевали коньков. Третий день оказался для них настоящим днем отдыха. Шум и суета города утихли; сладостные звуки воскресных колоколов порождали кроткие, спокойные мысли.
На звук этих колоколов наш отряд шествовал в тот день вместе с мевроу ван Генд и ее мужем по тихим, хотя и людным улицам и наконец подошел к красивой старинной церкви в южной части города.
Церковь была просторная и, несмотря на огромные окна с цветными стеклами, казалась тускло освещенной, хотя стены ее были выбелены, а солнечные блики, красные и пурпурные, ярко горели на колоннах и скамьях.
Бен увидел, что в проходах бесшумно снуют старушки с высокими стопками ножных грелок и раздают их молящимся, ловко вытаскивая из стопки нижнюю грелку, пока не останется ни одной. Его удивило, что мейнхеер ван Генд расположился вместе с мальчиками на удобной боковой скамье, усадив свою вроу в середине церкви, заставленной стульями, на которых сидели только женщины. Но Бен еще не знал, что так принято во всей стране.
Скамьи дворянства и должностных лиц города были круглые, каждая из них окаймляла колонну. Покрытые изысканной резьбой, они служили массивной базой для огромных колонн, ярко выделявшихся на фоне голой белой стены.
Эти колонны, высокие, с хорошими пропорциями, были некогда обезображены и выщерблены, но все же не утратили своей красоты. Их капители, похожие на распустившиеся цветы, терялись высоко вверху, в глубоких сводах.
Бен опустил глаза на мраморный пол, вымощенный надгробными камнями. Почти все большие плиты, из которых он был составлен, отмечали место упокоения умерших. На каждом камне был вырезан герб, а надпись и дата указывали, чье тело покоится под этим камнем; кое—где лежало по трое родственников, один над другим в одном и том же склепе.
Бен представлял себе торжественную похоронную процессию, когда она шествует, извиваясь при свете факелов, по величественным боковым приделам и несет свою безмолвную ношу к месту, с которого снята плита и где темная яма готова принять покойника. Утешительно было думать, что его сестра Мебел, умершая в младенчестве, лежит на залитом солнцем кладбище, где, сверкая, журчит ручеек, а деревья, покачиваясь, перешептываются всю ночь; где ранние пташки нежно поют в вышине, а цветы растут у самого намогильного камня, озаренного спокойным сиянием луны и звезд.
Потом он оторвал глаза от пола и остановил их на резной дубовой кафедре, прекрасной по своим очертаниям и отделке. Священника не было видно, хотя незадолго перед этим Бен заметил, как он медленно поднимался на кафедру по винтовой лестнице. Это был человек с мягким лицом, с брыжами вокруг шеи и в коротком плаще до колен.
Между тем огромная церковь бесшумно наполнялась людьми. Темнели скамьи, занятые мужчинами, а середина церкви цвела свежими воскресными нарядами женщин. Внезапно по всей церкви пронесся легкий шорох, все взоры обратились в сторону священника, теперь появившегося на кафедре.
Проповедь он произносил медленно, но Бен все—таки понял лишь немногое; зато, когда запели молитву, мальчик от всего сердца присоединился к поющим.
Один раз, во время перерыва в церковной службе, Бен вздрогнул, увидев перед собой небольшой трясущийся мешочек. Сбоку к нему был прикреплен звонкий колокольчик, а сам мешочек висел на длинной палке, которую нес церковный служитель. Не полагаясь на немое воззвание кружек для сбора милостыни, прибитых к колоннам у входа, церковники прибегали к этому более прямолинейному способу пробудить щедрость благотворителей.
К счастью, Бен взял с собой несколько стейверов; не будь этого, музыкальный мешочек тщетно звенел бы перед ним.
Глава XXX. Домой
В понедельник ранним ясным утром наши мальчики простились со своими любезными хозяевами и тронулись в обратный путь, домой.
Питер задержался у двери, охраняемой львом, ибо ему надо было многое сказать сестре на прощание.
Видя, как они прощаются, Бен невольно подумал, что сестринские поцелуи, так же как и часы, удивительно схожи между собой во всем мире. Когда он уезжал из дому, его сестра Дженни поцеловала его на прощание и этим пожелала ему того же, чего желала брату вроу ван Генд, целуя Питера. Людвиг принял свою долю прощальных поцелуев с самым равнодушным видом, и, хотя он крепко любил сестру, однако чуть—чуть поморщился, недовольный, что она «обращается с ним, как с ребенком», когда она лишний раз поцеловала его в лоб со словами: «А это для мамы».
Вскоре Людвиг уже стоял на канале вместе с Карлом и Якобом. Быть может, и они думали о сестринских поцелуях? Ничуть. Они были так счастливы снова надеть коньки, так нетерпеливо жаждали поскорее ворваться в самое сердце Брука, что вертелись и кружились по льду как сумасшедшие и, отводя душу, ругали капитана, бормоча сквозь зубы: «Питер эн дондер», — слова, не заслуживающие перевода.
Даже Ламберт и Бен, поджидавшие Питера на углу улицы, начали выражать нетерпение.
Но вот капитан пришел, и весь отряд наконец собрался на канале.
— Скорее, Питер, — ворчал Людвиг, — мы совсем замерзли… Так я и знал: ты последним наденешь коньки!
— Вот как? — отозвался старший брат, глядя на него снизу вверх с притворно глубоким интересом. — Догадливый мальчуган!
Людвиг рассмеялся, но сделал сердитое лицо и сказал:
— Я говорю серьезно. Надо же нам попасть домой до конца года!
— Ну, ребята, — крикнул Питер, застегнув последнюю пряжку и быстро выпрямляясь, — путь свободен! Давайте вообразим, что сейчас начинаются наши большие состязания. Готовы? Раз… два… три… пошли!
Можете не сомневаться: за первые полчаса почти никто не произнес ни слова. По льду мчались шестеро Меркуриев. Выражаясь проще, ребята летели с быстротой молнии… Нет, и это неточное сравнение! Но в том—то и дело, что прямо не знаешь, как выразиться, когда полдюжины ребят проносятся мимо тебя с такой головокружительной скоростью. Я только могу вас уверить, что они напрягали все свои силы и, нагнувшись, с горящими глазами, так летели по каналу между мирными конькобежцами, что даже блюститель порядка крикнул: «Стойте!» Но это только подбавило им прыти, и они понеслись вперед, каждый стараясь за двоих и приводя в изумление всех встречных.
Но законы трения сильнее даже блюстителей порядка на канале.
Немного погодя стал отставать Якоб… потом Людвиг… потом Ламберт… потом Карл.
Вскоре они остановились, чтобы хорошенько передохнуть, и стояли кучкой, глядя вслед Питеру и Бену, которые все еще мчались вдаль, словно спасаясь от смертельной опасности.
— Очевидно, — сказал Ламберт, снова пускаясь в путь вместе с тремя товарищами, — ни один из них не уступит, пока хватит силы.
— Как это глупо — переутомляться в самом начале пути! — проворчал Карл. — А ведь они всерьез бегут наперегонки… это ясно. Глядите! Питер отстает!
— Ну нет, — вскричал Людвиг, — его не обгонишь!
— Ха—ха! — усмехнулся Карл. — Говорю тебе, малец, Бенджамин впереди.
Надо сказать, что Людвиг не выносил, когда его называли «мальцом» — очевидно, потому, что он никем иным и не был. Он сейчас же возмутился:
— Хм! А ты кто такой, интересно знать?.. Ага, брат! Посмотри и скажи, кто впереди: Питер или нет?
— Кажется, да, — вмешался Ламберт, — но на таком расстоянии трудно сказать наверняка.
— А мне кажется, что нет! — возразил Карл.
Якоб встревожился — он терпеть не мог ссор — и сказал примирительным тоном:
— Не ссорьтесь… не ссорьтесь!
— «Не ссорьтесь»! — передразнил его Карл, оглядываясь на Якоба. — А кто же ссорится? Ты глуп, Поот!
— Ничего не поделаешь, — ответил Якоб кротко. — Смотрите, они уже у поворота.
— Теперь увидим! — крикнул Людвиг, очень волнуясь. — Питер добежит первым, я знаю.
— Не удастся… Бен впереди! — стоял на своем Карл. — Ах, черт! На него сейчас буер налетит… Нет, мимо! Все равно оба они дураки… Ура! Вот они у поворота! Кто впереди?
— Питер! — радостно крикнул Людвпг.
— Слава капитану! — закричали Ламберт и Якоб.
А Карл снисходительно пробормотал:
— Да, все—таки Питер. А мне казалось, что впереди Бен.
Поворот на канале, видимо, служил бегунам финишем: пройдя его, они внезапно остановились.
Карл буркнул что—то вроде: «Хорошо, что у них хватило ума остановиться и отдохнуть», — и все четверо молча покатили догонять товарищей.
Между тем Карл втайне жалел, что не побежал вместе с Питером и Беном: он был уверен, что легко обогнал бы их. На коньках он бегал очень быстро, но не изящно.
Бен смотрел на Питера со смешанным чувством досады, восхищения и удивления, и это заметили остальные, когда мальчики подкатили к ним.
Они слышали, как Бен сказал по—английски:
— Ты на льду, как птица, Питер ван Хольп. Ты первый, кто обогнал меня в честном соревновании, можешь мне поверить!
Питер понимал по—английски лучше, чем говорил на этом языке, и потому ответил на похвалу Бена только шутливым поклоном, но не сказал ничего. Быть может, он еще не отдышался…
— Ах, Бенджамин, что ты с собой делаешь? Раскалился, как кирпич в печке… Это нехорошо, — жалобно проговорил Якоб.
— Пустяки! — отозвался Бен. — На таком морозе я скоро остыну. Я не устал.
— Однако тебя побили, дружище, — сказал Ламберт по—английски, — и жестоко побили! Интересно, что—то будет в день больших состязаний?
Бен вспыхнул и бросил на. него гордый, вызывающий взгляд, как бы желая сказать: «Сейчас мы только забавлялись. Будь что будет, а я твердо решил победить…»
Глава XXXI. Мальчики и девочки
Когда мальчики добрались до деревни Воорхоут, расположенной неподалеку от Большого канала, примерно на полпути между Гаагой и Хаарлемом, им пришлось держать совет. Ветер, вначале не сильный, все крепчал и наконец задул так, что бежать против него стало трудно. Казалось, все флюгеры в стране устроили заговор.
— Не стоит бороться с таким ураганом, — сказал Людвиг. — Он врезается тебе в глотку, как нож.
— Ну, так не разевай рта. — проворчал «ласковый» Карл, грудь у которого была крепкая, как у бычка. — Я стою за то, чтобы двигаться дальше.
— В таком случае, — вмешался Питер, — надо спрашивать самого слабого в отряде, а не самого сильного.
Принципы у капитана были правильные, но его слова задели самолюбие Людвига, младшего в отряде. Пожав плечами, он возразил:
— А кто у нас слабый? Уж не я, конечно… Но ветер сильнее любого из нас. Надеюсь, вы снисходительно признаете это!
— Ха—ха—ха! — расхохотался ван Моунен, едва держась на ногах. — Это верно.
Тут флюгеры, судорожно дернувшись, что—то протелеграфировали друг другу… и внезапно налетел вихрь. Он чуть не сшиб крепкогрудого Карла, едва не задушил Якоба, а Людвига сбил с ног.
— Решено! — закричал Питер. — Снимайте коньки! Пойдем в Воорхоут.
В Воорхоуте они отыскали маленькую гостиницу с просторным двором. Двор был хорошо вымощен кирпичом, и, что еще лучше, в нем имелся полный набор кеглей, так что мальчики быстро превратили свое невольное заключение в веселую забаву. Ветер был неприятен даже в этом защищенном месте, но теперь они твердо стояли на ногах и не обращали на него внимания.
Сначала — сытный обед, потом — игра. Обладая кеглями длиной в руку, шарами величиной с голову, силой в избытке и свободным пространством в шестьдесят ярдов длиной для катанья этих шаров, неудивительно, что мальчики были довольны.
В эту ночь капитан Питер и его спутники спали крепко. Никакой грабитель не прокрался к ним, чтобы потревожить их сон, и, так как их разместили по разным комнатам, наутро им даже не удалось устроить бой постельными валиками.
Сколько они съели за завтраком! Хозяин прямо—таки испугался. Спросив у них, «откуда они родом», он решил, что жители Брука морят голодом своих детей. Какой позор! Да еще таких приятных молодых людей!
К счастью, ветер наконец выбился из сил и сам улегся спать в огромной морской колыбели за дюнами. Похоже было, что пойдет снег, но, в общем, погода стояла прекрасная.
Для хорошо отдохнувших ребят бег до Лейдена был детской игрой. Здесь они немного задержались, так как Питеру надо было зайти в «Золотой орел». Из города он ушел успокоенный: доктор Букман побывал в гостинице, прочел записку, излагавшую просьбу Ханса, и отправился в Брук.
— Однако я не могу сказать, потому ли он уехал так скоро, что прочел вашу записку, — объяснил хозяин гостиницы. — В Бруке внезапно занемогла какая—то дама, и за ним спешно прислали.
Питер побледнел.
— Как ее фамилия? — спросил он.
— Да, видите ли, в одно ухо вошло, в другое вышло… Как ни старался — запамятовал. Чума их возьми, тех людей, что прямо не в силах видеть проезжего в удобной гостинице: не успеешь оглянуться, как его уже тащат прочь!
— Вы сказали, эта дама живет в Бруке?
— Да! — грубо буркнул в ответ хозяин. — Вам еще что—нибудь нужно, молодой господин?
— Нет, хозяин… Только мне с товарищами хотелось бы перекусить у вас чего—нибудь и выпить горячего кофе.
— Перекусить вы можете — теперь уже очень любезным тоном ответил хозяин, — да и кофе выпить самого лучшего во всем Лейдене. Идите к печке, господа… Теперь вспоминаю… это была вдова… кажется, из Роттердама… Она гостит у какого—то ван Ступеля, если не ошибаюсь.
— Так, так, — промолвил Питер, у которого гора с плеч свалилась. — Они живут в белом доме у Схлоссенской мельницы… Ну, мейнхеер, теперь будьте добры подать нам кофе.
«Какой я дурак! — думал он, когда отряд вышел из «Золотого орла». — Ведь я был уверен, что это моя мать… Впрочем, может быть, она тоже чья—нибудь мать, эта бедная женщина. Интересно, кто бы это мог быть?»
В тот день на канале между Лейденом и Хаарлемом было мало народу. Но, когда мальчики приблизились к Амстердаму, они снова попали в самую гущу движущейся толпы. В первый раз за зиму на канале начал работать большой эйсбреекер, но места оставалось еще достаточно для конькобежцев.
— Троекратное «ура» в честь родного дома! — крикнул ван Моунен, когда вдали показался огромный Западный док (Вестлейк—док).
— Ура! Ура! — закричали все в один голос. — Ура! Ура!
Обычай кричать «ура» был заграничным нововведением. Его вывез из Англии Ламберт ван Моунен. Ребята всегда кричали «ура» на английский лад; им это так нравилось, что они поднимали громкий крик при всяком удобном случае — к великому смятению своих соотечественников, любителей тишины и спокойствия.
Вот почему их приход в Амстердам вызвал целую сенсацию, особенно среди маленьких мальчуганов на верфи.
Мальчики пересекли Ай и очутились на Брукском канале.
Прежде всего подошли к дому Ламберта.
— До свиданья, ребята! — крикнул он, расставаясь с товарищами. — Мы повеселились, как никто и никогда не веселился в Голландии!
— Что правда, то правда, ван Моунен! — ответили мальчики.
— До свиданья!
Питер окликнул Ламберта:
— Слушай—ка, ван Моунен, занятия в школе начинаются завтра!
— Знаю. Каникулы наши кончились. Еще раз до свиданья!
— До свиданья!
Впереди показался Брук. Какие тут произошли встречи! Катринка была на канале. Карл пришел в восторг. Хильда тоже была здесь. К Питеру сейчас же вернулись силы. И Рихи была тут. Людвиг и Якоб чуть не сшибли друг друга, спеша пожать ей руку.
Девочки—голландки скромны и обычно ведут себя спокойно, но глаза у них очень веселые. Некоторое время трудно было решить, кто сейчас самая счастливая: Хильда, Рихи или Катринка.
Анни Боуман тоже была на канале и в своем красивом крестьянском костюме казалась еще более хорошенькой, чем остальные девочки. Но она не смешивалась с компанией Рихи, и лицо у нее было не особенно счастливое.
Среди возвратившихся мальчиков не было того, кого ей хотелось бы видеть. Да его и вообще не было на канале. Надо сказать, что Анни не появлялась в Бруке с кануна праздника святого Николааса. Все это время она гостила у своей больной бабушки в Амстердаме. Но сейчас ей предоставили краткий «час отдыха», как выразилась бабушка, за то, что она день и ночь была такой преданной маленькой сиделкой.
Анни употребила этот «час отдыха» на то, чтобы во весь опор примчаться в Брук в надежде встретить на канале свою мать, или кого—нибудь из родных, или хотя бы Гретель Бринкер… Но никого из них она не встретила, а теперь ей надо было спешить назад, даже не заглянув домой: ведь она знала, что в эту минуту бедная, беспомощная бабушка стонет и просит, чтобы кто—нибудь перевернул ее на другой бок.
«Где сейчас может быть Гретель? — раздумывала Анни, летя по льду. — В этот час ей почти всегда удавалось на несколько минут оторваться от работы… Бедная Гретель… Как это, должно быть, ужасно иметь помешанного отца… Сама я, наверное, до смерти боялась бы его. Такой сильный, но такой странный!»
Анни ничего не слыхала о внезапной болезни отца Гретель. Местные жители ничуть не интересовались тетушкой Бринкер и ее детьми.
Не будь Гретель гусятницей, у нее, наверное, нашлось бы немало друзей среди окрестной крестьянской молодежи. Но, с тех пор как она стала пасти гусей, только одна Анни Боуман не стыдилась открыто, словом и делом, признавать себя подругой Гретель и Ханса.
Часто дети соседей высмеивали ее за то, что она водится с такими бедняками. И, когда подшучивали над Хансом, она только вспыхивала или смеялась небрежно и презрительно, но, слыша, как издевались над маленькой Гретель, приходила в ярость.
— Гусятница!.. Ну и что же! — говорила она. — Не беспокойтесь, эта работа куда больше подходит любой из вас, чем Гретель. Мой отец не раз говорил прошлым летом, что ему грустно видеть, как эта ясноглазая терпеливая малютка пасет гусей. Она, во всяком случае, не обижает своих гусей, как обижал бы ты, Янзоон Кольп; и она не наступает им на лапы, как непременно делала бы ты, Кэт Воутерс.
Тут все поднимали на смех неуклюжую, вздорную Кэт. Анни же гордо отходила прочь от кучки юных сплетниц. И сейчас, когда она быстро катила в Амстердам, ей, быть может, как раз вспомнились обидчики Гретель. Глаза ее сверкали, не предвещая ничего доброго, и она не раз вызывающе вздергивала хорошенькой головкой. Но, когда эти мысли исчезали, личико ее становилось таким красивым, румяным и ласковым, что не один усталый рабочий оглядывался на нее, желая себе в дочери такую же веселую, довольную девочку.
В эту ночь в Бруке было пять радостных семей. Мальчики вернулись здравыми и невредимыми и нашли, что дома у них все благополучно. Даже больная дама, гостившая у соседа ван Ступеля, была вне опасности.
Но наутро! Ах, как противно звонят школьные колокола — дин—дон! дин—дон! — когда чувствуешь себя таким усталым!
Людвиг был уверен, что в жизни не слышал ничего более отвратительного. Даже Питер — и тот рассердился. Карл заявил, что позор заставлять человека выходить из дому, когда кости у него готовы треснуть, а Якоб, степенно сказав Бену «до свиданья», неторопливо побрел в школу, таща свою сумку с таким видом, словно она весила фунтов сто.
Глава XXXII. Кризис
Пока мальчики нянчатся со своей усталостью, мы заглянем в домик Бринкеров.
Может ли быть, что Гретель и ее мать так и не пошевелились с тех пор, как мы видели их в последний раз, и что больной ни разу не перевернулся на другой бок? Прошло четыре дня, а вид у скорбных обитателей этого дома точь—в–точь такой же, как в ту ночь. Нет, не совсем: теперь лицо у Раффа Бринкера еще бледнее; лихорадка прошла, но он по—прежнему без сознания. Тогда они были одни в этой убогой чистой комнате; теперь же вон в том углу стоят посторонние.
Доктор Букман разговаривает вполголоса с упитанным молодым человеком, а тот слушает его очень внимательно. Упитанный молодой человек — его ученик и ассистент. Ханс тоже здесь. Он стоит у окна, почтительно ожидая, чтобы с ним заговорили.
— Видите ли, Волленховен, — сказал доктор Букман, — это ярко выраженный случай… — И он заговорил на такой диковинной смеси латинского с голландским, которую я затрудняюсь перевести.
Только увидев, что Волленховен уже смотрит на него непонимающим взглядом, ученый снизошел до более простых выражений.
— Вероятно, этот случай сходен с болезнью Рипа Дондерданка, — забормотал он вполголоса. — Тот упал с крыши ветряной мельницы Воппельплоота. После этого несчастья малый потерял умственные способности и в конце концов сделался идиотом. Он уже не вставал с постели, беспомощный, как и этот наш больной. Он так же стонал и постоянно тянулся рукой к голове. Мой ученый коллега ван Хоппем сделал операцию Дондерданку и нашел у него под черепом маленький темный мешочек — опухоль, давившую на мозг. Она—то и вызывала болезнь. Мой друг ван Хоппем удалил опухоль… Замечательная операция! Видите ли, по мнению Цельзия… — И доктор снова перешел на латынь.
— А больной остался в живых? — почтительно спросил ассистент.
Доктор Букман нахмурился:
— Не в этом дело. Кажется, умер… Но почему вы не останавливаете своего внимания на замечательных особенностях этого случая? Подумайте минутку, как… — И он глубже, чем когда—либо, погрузился в дебри латыни.
— Но, мейнхеер… — мягко настаивал ученик, знавший, что, если доктора сразу же не вытащить из его любимых глубин, он долго не поднимется на поверхность, — но, мейнхеер, сегодня вы обещали побывать в других местах: три ноги в Амстердаме — помните? — и глаз в Бруке, да еще опухоль на канале.
— Опухоль может подождать, — задумчиво проговорил доктор. — Тоже интереснейший случай… интереснейший случай! Женщина два месяца не может поднять голову… Великолепная опухоль, сударь мой!
Теперь доктор снова говорил громко. Он совсем забыл, где находится.
Волленховен сделал еще попытку:
— А этого беднягу, что лежит здесь, мейнхеер, — вы думаете, его можно спасти, да?
— Ну еще бы… конечно, — смутился доктор, внезапно заметив, что все это время говорил о посторонних предметах. — Конечно… то есть… надеюсь, что да…
— Если хоть один человек в Голландии может спасти его, мейнхеер, — негромко проговорил ассистенте неподдельной искренностью, — так это именно вы!
Лицо доктора выразило недовольство… Ласково, хоть и ворчливо, он попросил студента поменьше болтать, потом сделал знак Хансу подойти ближе.
Этот странный человек терпеть не мог говорить с женщинами, особенно на хирургические темы. «Никогда нельзя знать, — твердил он, — в какую минуту этим особам взбредет в голову взвизгнуть или упасть в обморок». Поэтому он описал болезнь Раффа Бринкера Хансу и сказал, что именно, по его мнению, надо сделать для спасения больного.
Ханс слушал внимательно, то краснея, то бледнея и бросая быстрые тревожные взгляды на кровать.
— Операция может убить отца… так вы сказали, мейнхеер? — воскликнул он наконец дрожащим голосом.
— Может, любезный. Но я твердо верю, что не убьет, а вылечит. Я объяснил бы тебе почему, но ты все равно не поймешь. Ведь все мальчишки — такие тупицы.
Ханс оторопел от этого комплимента.
— Ничего не поймешь! — повторил доктор Букман с возмущением. — Людям предлагают сделать замечательную операцию… а им все равно, сделают ее топором или еще чем—нибудь. Задают только один вопрос: «Убьет она или нет?»
— Для нас в этом вопросе все, мейнхеер, — сказал Ханс с достоинством, и глаза его наполнились слезами.
Доктор Букман взглянул на него, внезапно смутившись:
— Да, верно! Ты прав, мальчуган, а я дурак. Ты хороший малый. Никому не хочется, чтобы родного отца убили… конечно, нет. Я просто дурак.
— А если болезнь продлится, он умрет, мейнхеер?
— Хм! Никакой новой болезни у него нет. Все то же самое, только положение ухудшается с каждой минутой… Давление на мозг… в ближайшем будущем доконает… — сказал доктор и щелкнул пальцами.
— Но операция может спасти его? — продолжал Ханс. — Как скоро, мейнхеер, мы узнаем об этом?
Доктор Букман начал терять терпение:
— Через день… может быть, через час. Поговори с матерью, мальчуган, и пусть она решит. Мне время дорого.
Ханс подошел к матери. Она взглянула на него, а он не смог произнести ни звука. Наконец Ханс отвел глаза и сказал твердым голосом:
— Я должен поговорить с мамой наедине.
Сметливая маленькая Гретель, на этот раз не вполне понимавшая, что происходит, бросила негодующий взгляд на брата и отошла.
— Вернись, Гретель и сядь, — печально проговорил Ханс.
Она послушалась.
Тетушка Бринкер и Ханс стояли у окна, а доктор с ассистентом склонились над больным и разговаривали вполголоса. Встревожить его они не боялись: он был все равно что слепой и глухой. Только по его слабым жалобным стонам можно было заключить, что он еще жив. Ханс говорил с матерью серьезным тоном, вполголоса, так как не хотел, чтобы сестра слышала его слова.
Полуоткрыв сухие губы, тетушка Бринкер тянулась к сыну, испытующе глядя ему в лицо и словно ища какое—то скрытое значение в его словах. Один раз она коротко, испуганно всхлипнула (тут Гретель вскочила), потом слушала спокойно.
Когда Ханс умолк, мать обернулась, бросила долгий скорбный взгляд на мужа, который лежал бледный, без сознания, и бросилась на колени перед кроватью.
Бедная маленькая Гретель! «Что все это значит?» — недоумевала она. Она вопросительно взглянула на Ханса, но он стоял, опустив голову, как на молитве; взглянула на доктора, но он осторожно ощупывал голову ее отца с таким видом, словно исследовал какие—то редкостные камни; взглянула на ассистента, но тот кашлянул и отвернулся; взглянула на мать… Ах! Маленькая Гретель, ты сделала самое лучшее, что могла сделать: стала рядом с матерью на колени, обвила своими теплыми детскими ручонками ее шею и заплакала.
Когда мать встала, доктор Букман, глядя на нее с беспокойством, отрывисто спросил:
— Ну, юфроу, будем оперировать?
— А ему будет больно, мейнхеер? — спросила она дрожащим голосом.
— Не знаю. Вероятно, нет. Так будем?
— Вы говорите, это может вылечить его, и… мейнхеер, вы сказали моему сыну, что… быть может… быть может… — Она была не в силах кончить фразу.
— Да, юфроу, я сказал, что пациент может умереть от операции… но будем надеяться, что этого не случится. — Он взглянул на часы; ассистент нетерпеливо отошел к окну. — Ну, юфроу, время не терпит. Да или нет?
Ханс обнял мать. Это было не в его привычках. Он даже склонил голову на ее плечо.
— Меестер ждет ответа, — прошептал он.
Тетушка Бринкер долго была главой семьи во всех отношениях. Не раз она бывала очень строга с Хансом, направляла его твердой рукой и радовалась своей материнской власти. Теперь же она так ослабела, сделалась такой беспомощной… Хорошо было чувствовать себя в крепких объятиях сына. Казалось, сила исходит даже от прикосновения его белокурых волос.
Она умоляюще посмотрела на юношу:
— О Ханс! Что мне сказать?
— Ответь так, как сердце тебе подскажет, мама, — отозвался Ханс, склонив голову.
И материнское сердце подсказало ответ. Женщина повернулась к доктору Букману:
— Хорошо, мейнхеер. Я согласна.
— Хм! — фыркнул доктор, видимо думая: «Долго же ты тянула!»
Он наскоро посовещался со своим ассистентом. Тот слушал его с очень почтительным видом, но в душе предвкушал удовольствие рассказать своим товарищам студентам пресмешную историю: в глазах «старика Букмана» он подметил слезу.
Между тем Гретель молча смотрела на них, вся дрожа. Но, увидев, как доктор открывает кожаный футляр и один за другим вынимает острые блестящие инструменты, она бросилась вперед.
— О мама… бедный папа не хотел сделать ничего дурного! Неужели они его убьют?
— Не знаю, дочка! — вскричала тетушка Бринкер, в отчаянии глядя на Гретель. — Я ничего не знаю…
— Этак не годится, юфроу, — строго проговорил доктор Букман, бросив быстрый пронзительный взгляд на Ханса. — Вы с девочкой должны уйти. Парень может остаться.
Тетушка Бринкер сейчас же сдержалась. Глаза ее загорелись. Весь ее вид изменился. Можно было подумать, что за все это время она ни разу не всплакнула, ни на минуту не поддалась слабости. Она говорила очень тихо, но в голосе ее звучала решимость:
— Я останусь с мужем, мейнхеер.
Доктор Букман удивился: не часто приходилось ему сталкиваться с таким неповиновением. На мгновение глаза его встретились с глазами женщины.
— Можете остаться, юфроу, — сказал он изменившимся голосом.
Гретель уже исчезла.
В углу был маленький чулан, где, прикрепленное к стене, стояло жесткое ложе Гретель. Девочка юркнула в чулан, решив, что никто не вспомнит о дрожащей малютке, скорчившейся там во мраке.
Доктор Букман снял с себя тяжелое пальто, налил воды в глиняный таз и поставил его у кровати. Потом, повернувшись к Хансу, спросил:
— Я могу на тебя положиться, парень?
— Можете, мейнхеер.
— Верю. Стань здесь, у изголовья… а мать пусть сядет справа от тебя… вот так… — И он поставил стул рядом с кроватью. — Запомните, юфроу: никаких криков, никаких обмороков!
Тетушка Бринкер ответила ему только взглядом. Этого ему было довольно.
— Ну, Волленховен…
О. этот футляр со страшными инструментами! Ассистент взял их в руки. Гретель, глазами, полными слез, смотревшая из своего чулана в дверную щель, больше не могла сидеть тихо.
Она как бешеная ворвалась в комнату, схватила свой капор и выбежала из дому.
Глава XXXIII. Гретель и Хильда
Началась большая перемена. При первом же ударе школьного колокола канал, казалось, издал громовый крик и сразу ожил, усеянный мальчиками и девочками. Этот хитрец, так мирно сверкавший под полуденным солнцем, как будто только и ждал сигнала от школьного колокола, чтобы тотчас же встрепенуться и заиграть сменой блистательных превращений.
Десятки пестро одетых детей сновали на коньках по каналу. Их жизнерадостность, подавляемая в течение всего утра, изливалась теперь в песнях, криках и смехе. Ничто не мешало потоку веселья. Ни одной мысли об учебниках не вылетело вместе с детьми на вольный воздух. Латынь, арифметика, грамматика — все на целый час заперты в сумрачном классе. Пускай учитель, если хочет, сам станет именем существительным, хотя бы собственным, — они, дети, будут веселиться! Когда кататься так хорошо, как сейчас, не все ли равно, где находится Голландия: на Северном полюсе или на экваторе? Что касается физики — к чему утруждать себя инерцией, силой тяготения и тому подобным, когда только о том и думаешь, как бы тебя не опрокинули в толкотне!
В самом разгаре веселья кто—то из ребят крикнул:
— Это что такое?
— Что? Где? — зазвучали десятки голосов.
— Как, вы не видите? Вон там, у «дома идиота», что—то темное…
— Я ничего не вижу, — сказал один из мальчиков.
— А я вижу! — закричал другой. — Это собака!
— Где собака? — послышался пискливый голосок, уже знакомый нам. — Никакой собаки там нет… просто куча тряпья.
— Эх ты, Воост, — резко возразил другой мальчик, — опять попал пальцем в небо! Да это гусятница Гретель ищет крыс.
— Ну и что же? — пискнул Воост. — А разве она не куча тряпья, хотел бы я знать?
— Ха—ха—ха! Молодец, Воост! Получишь медаль за остроумие, если будешь продолжать в том же духе.
— Но, будь здесь ее брат Ханс, ты получил бы кое—что другое. Держу пари, что получил бы! — сказал один закутанный малыш, страдающий насморком.
Однако Ханса здесь не было, поэтому Воост мог позволить себе опровергнуть обидное предположение.
— А кто на него обращает внимание, сопляк—чихала? Да я в любую минуту вздую дюжину таких, как он, и тебя в придачу!
— Ты вздуешь? Ты? Ну, это мы еще посмотрим! — И в доказательство своих слов «сопляк» во весь опор покатил прочь.
Тут поступило предложение погнаться за тремя самыми старшими учениками, и все, друзья и враги, хохоча до упаду, быстро объединились для общей цели.
Из всей этой радостной толпы только одна девочка вспомнила о темной маленькой фигурке, что лежала у «дома идиота».
Бедная, перепуганная Гретель! Она не думала о школьниках, хотя их веселый смех доносился до нее, как. сквозь сон… «Как громки стоны за этим завешенным окном!» — думала она. Неужели чужие люди действительно убивают ее отца?
При этой мысли она вскочила на ноги с криком ужаса.
«Ах, нет! — всхлипнула она и снова опустилась на бугорок мерзлой земли, на котором сидела все время. — Мама и Ханс там. Они позаботятся о нем. Но какие они были бледные! Даже Ханс—и тот плакал!.. Почему старый сердитый меестер оставил его, а меня услал? — недоумевала она. — Я прижалась бы к маме и поцеловала бы ее. После этого она всегда гладит меня по головке и ласково говорит со мной, даже если перед тем сердилась… Как сейчас стало тихо! Ах, если умрут и отец, и Ханс, и мама, что я тогда буду делать?» И Гретель, дрожа от холода, закрыла лицо руками и зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось.
За последние четыре дня бедной девочке пришлось нести непосильное бремя. Все это время она была для матери послушной маленькой служанкой. Днем утешала и подбодряла бедную женщину, помогая ей во всем, а долгими ночами дежурила вместе с нею. Она знала, что сейчас происходит что—то ужасное и таинственное, такое ужасное и таинственное, что даже ласковый, добрый Ханс не решился объяснить ей, в чем дело.
Потом явились и другие мысли. Почему Ханс ничего не сказал ей? Как не стыдно! Она не ребенок. Это она отняла у отца острый нож. Она даже отвлекла его от матери в ту ужасную ночь, когда Ханс, хотя он такой большой, не смог ей помочь. Так почему же с ней обращаются так, словно она ничего не умеет? О, как тихо… и какой холод, какой жестокий холод! Если бы Анни Боуман не ушла в Амстердам, а осталась дома, Гретель не чувствовала бы себя такой одинокой. Как мерзнут ноги… Не от этих ли стонов ей кажется, будто она плывет по воздуху?..
Нет, так не годится… Матери с минуты на минуту может понадобиться ее помощь!
С трудом приподнявшись, Гретель села прямо, вытерла глаза и удивилась — удивилась, почему небо такое яркое и синее, удивилась тишине в домике и больше всего смеху, который то громче, то тише раздавался вдали.
Вскоре она снова упала на землю, и мысли все больше мешались и путались в ее помутившейся голове.
Какие странные губы у меестера! Как шуршит гнездо аиста на крыше, словно нашептывая ей что—то! Как блестели ножи в кожаном футляре — пожалуй, еще ярче, чем серебряные коньки. Если б она надела новую кофту, она бы так не дрожала. Эта новая кофта очень красивая… Единственная красивая вещь, которую Гретель носила в жизни. До сих пор господь хранил ее отца. Он и теперь сохранит, только бы ушли те двое.
Ах, сейчас меестеры очутились на крыше! Они карабкаются на самый верх… Нет… это мама и Ханс… или аисты… Темно, ничего не разберешь. А бугорок трясется и качается так странно… Как нежно поют птички! Это, наверное, зимние птички — ведь воздух прямо кишит ледяными снежинками… Да тут не одна птичка… их целых двадцать… «Послушай их, мама!.. Разбуди меня, мама, перед состязаниями… я так устала все плакать и плакать…»
Чья—то рука твердо легла на ее плечо.
— Вставай, девочка! — крикнул ласковый голос. — Нельзя так лежать, ты замерзнешь.
Гретель медленно подняла голову. Хильда ван Глек наклонилась, глядя ей в лицо добрыми прекрасными глазами. Но Гретель это не показалось странным — ведь она и раньше не раз видела это во сне. А сейчас ей так хотелось спать!
Но ей и не снилось, что Хильда будет так грубо трясти ее, поднимать насильно, — не снилось, что она услышит, как Хильда твердит:
— Гретель! Гретель Бринкер! Проснись же, проснись! Все это было наяву. Гретель подняла глаза. Прелестная, хорошенькая девочка все так же трясла, терла, чуть не колотила ее. Наверное, все это сон. Да нет, вот и домик… гнездо аиста… и карета меестера у канала. Теперь Гретель все видела ясно. В руках у нее покалывало, ноги дрожали… Хильда заставила ее сделать несколько шагов. Наконец Гретель начала приходить в себя.
— Я заснула. — пролепетала она, запинаясь, и, очень смущенная, обеими руками протерла глаза.
— Да, вот именно, и слишком крепко заснула, — улыбнулась Хильда побелевшими губамп. — Но сейчас тебе лучше… Обопрись на меня. Гретель… вот так… а теперь двигайся. Скоро ты настолько согреешься, что тебе можно будет сесть у огня… Давай я отведу тебя домой.
— О нет, нет, нет! Только не туда! Там меестер. Он услал меня прочь!
Хильда удивилась, но решила пока не просить объяснений.
— Хорошо, Гретель… Старайся идти побыстрее. Я уже давно заметила тебя здесь на бугорке, но думала, что ты играешь… Вот так… двигайся…
Все это время добрая девочка заставляла Гретель ходить взад и вперед, поддерживая ее одной рукой, а другой стараясь изо всех сил стащить с себя теплое пальто.
Но Гретель внезапно догадалась, зачем она это делает.
— О, юфроу! — крикнула она умоляюще. — Пожалуйста, и не думайте об этом!.. Пожалуйста, не снимайте его с себя! Я вся горю… я, право же, горю… Нет, не то чтобы горю, но меня всю как будто колет иголками и булавками… Пожалуйста, не надо!
Отчаяние бедной девочки было так искренне что Хильда поспешила успокоить ее:
— Хорошо, Гретель, не буду. А ты побольше двигай руками… вот так. Щеки у тебя уже красные, как розы. Теперь меестер, наверное, впустит тебя. Непременно впустит… А что, твой отец очень болен?
— Ах, юфроу, — воскликнула Гретель, снова заливаясь слезами, — он, должно быть, умирает! Сейчас у него там два меестера, а мама сегодня все молчит… Слышите, как он стонет? — добавила она, снова охваченная ужасом. — В воздухе что—то гудит, и я плохо слышу. Может быть, он умер! Ох, если бы мне услышать его голос!
Хильда прислушалась. Домик был совсем близко, но из него не доносилось ни звука.
Что—то говорило ей, что Гретель права. Она подбежала к окну.
— Оттуда не видно, — страстно рыдала Гретель, — мама залепила окно изнутри промасленной бумагой! Но в другом окне, на южной стене, бумага прорвалась… Пожалуйста, загляните в дырку.
Хильда, встревоженная, пустилась бегом и уже обогнула угол, над которым свешивалась низкая тростниковая крыша, обтрепавшаяся по краям. Но вдруг она остановилась.
«Нехорошо заглядывать в чужой дом», — подумала она. Потом тихонько позвала Гретель и сказала ей шепотом:
— Загляни сама… Может быть, он просто заснул.
Гретель бросилась было к окну, но руки и ноги у нее дрожали. Хильда поспешила поддержать ее.
— Да уж не захворала ли и ты? — ласково спросила она.
— Нет, я не больна… только сердце у меня сейчас поет, хотя глаза сухие, как у вас… Но что это? И у вас глаза уже не сухие? Неужели вы плачете из—за нас? О юфроу… — И девочка вновь и вновь целовала руку Хильды, стараясь в то же время дотянуться до крошечного оконца и заглянуть в него.
Рама была сломана и починена во многих местах; поперек нее свешивался оборванный лист бумаги. Гретель прижалась лицом к раме.
— Что—нибудь видишь? — прошептала наконец Хпльда.
— Да… Отец лежит совсем тихо, голова у него перевязана, и все впились в него глазами. Ох! — чуть не вскрикнула Гретель, откинувшись назад, и быстрым, ловким движением сбросила с себя тяжелые деревянные башмаки. — Я непременно должна пойти туда, к маме! Вы пойдете со мной?
— Не сейчас. Слышишь — зазвонил школьный колокол. Но я скоро вернусь. До свиданья!
Гретель вряд ли слышала эти слова. Но она долго помнила ясную, сострадательную улыбку, мелькнувшую на лице Хильды.
Глава XXXIV. Пробуждение
Ангел и тот не мог бы войти в домик так бесшумно. Гретель, не смея ни на кого взглянуть, тихонько прокралась к матери.
В комнате было очень тихо. Девочка слышала дыхание старого доктора. Ей чудилось, будто она слышит даже, как падают искры на золу в камине. Рука у матери совсем похолодела, но на щеках горели красные пятна, а глаза были как у оленя: такие блестящие, такие скорбные и тревожные.
Но вот на кровати что—то шевельнулось — едва—едва, и, однако, все вздрогнули. Доктор Букман в тревоге наклонился вперед.
Снова движение. Крупная рука, слишком белая и мягкая для руки бедняка, дернулась… и медленно поднялась к голове.
Она ощупала повязку, но не судорожно, не машинально, а движением, столь явно сознательным, что даже доктор Букман затаил дыхание. Потом глаза больного медленно открылись.
— Осторожно! Осторожно! — послышался голос, показавшийся Гретель очень странным. — Подвиньте этот мат повыше, ребята! А теперь бросайте на него глину. Вода поднимается быстро… Время не терпит…
Тетушка Бринкер кинулась вперед, как молодая пантера.
Она схватила мужа за руки и, склонившись над ним, зарыдала.
— Рафф! Рафф, милый, скажи что—нибудь!
— Это ты, Мейтье? — спросил он слабым голосом. — А я спал… кажется, я ранен… Где же маленький Ханс?
— Я здесь, отец! — крикнул Ханс, чуть не обезумев от радости.
Но доктор остановил его.
— Он узнает нас! — кричала тетушка Бринкер. — Великий боже, он узнает нас! Гретель, Гретель, поди сюда, взгляни на отца!
Тщетно доктор твердил: «Замолчите!» — и не пускал их к кровати: он не мог удержать никого.
Ханс и тетушка Бринкер, смеясь и плача, не отрывались от того, кто наконец пробудился. Гретель не издавала ни звука, но смотрела на всех радостными, удивленными глазами. Отец снова заговорил слабым голосом:
— А что, малышка спит, Мейтье?
— Малышка! — повторила тетушка Бринкер. — О Гретель! Это он о тебе говорит! И он называет Ханса «маленьким Хансом»! Десять лет проспать! О мейнхеер, вы спасли всех нас! Он десять лет ничего не сознавал! Дети, что же вы не благодарите меестера?
Добрая женщина была вне себя от радости.
Доктор Букман молчал; но, встретившись с нею глазами, поднял руку вверх. Тетушка Бринкер поняла его; поняли и Ханс и Гретель.
Все трое стали на колени у кровати. Тетушка Бринкер молча держала мужа за руку. Доктор Букман склонил голову; его ассистент стоял к ним спиной у камина.
— Почему вы молитесь? — пробормотал отец, взглянув на жену и детей, когда они встали с колен. — Разве сегодня праздник?
Нет, день был будничный. Но жена его наклонила голову — говорить она не могла.
— Тогда надо прочесть главу… — медленно, с трудом выговорил Рафф Бринкер. — Не знаю, что со мной… Я очень слаб. Пускай пастор прочитает.
Гретель сняла большую голландскую библию с резной полки.
Доктор Букман, несколько смущенный тем, что его приняли за пастора, кашлянул и передал книгу своему ассистенту.
— Читайте уж! — буркнул он. — Надо их всех утихомирить, а не то больной умрет.
Когда главу из библии дочитали, тетушка Бринкер сделала какой—то таинственный знак окружающим, давая им понять, что муж ее впал в забытье.
— Ну, юфроу, — сказал доктор вполголоса, надевая свои толстые шерстяные перчатки, — необходимо соблюдать полнейшую тишину. Понимаете? Случай поистине исключительный. Завтра я опять заеду. Сегодня не давайте больному есть. — И, торопливо поклонившись, он вышел вместе с ассистентом.
Его роскошная карета стояла неподалеку. Кучер медленно проезжал лошадей взад и вперед по каналу почти все то время, что доктор пробыл в доме.
Ханс вышел тоже.
— Благослови вас бог, мейнхеер! — сказал он, краснея и дрожа всем телом. — Я никогда не смогу отплатить вам, но если…
— Нет, сможешь! — резко перебил его доктор. — Сможешь, если будешь вести себя разумно, когда больной опять проснется. Ведь таким гвалтом и хныканьем даже здорового человека легко уморить; а кто на краю могилы, о том и говорить нечего. Хочешь, чтобы отец твой выздоровел, — усмири баб.
И, не добавив ни слова, доктор Букман зашагал прочь навстречу своей карете, а Ханс стоял как вкопанный, широко раскрыв глаза.
В тот день Хильда получила строгий выговор за то, что опоздала в школу после большой перемены и плохо отвечала на уроке.
Она стояла у домика, пока не услышала, как тетушка Бринкер засмеялась, а Ханс крикнул: «Я здесь, отец!» — и только тогда пошла в школу. Не мудрено, что она пропустила урок! И как могла она выучить на память длинный ряд латинских глаголов, если сердцу ее не было до них никакого дела и оно непрестанно повторяло: «О, как хорошо! Как хорошо!»
Глава XXXV. Кости и языки
Странная штука — кости. Казалось бы, они ничего не могут знать о школьных делах, — но нет: оказывается, знают. Даже кости Якоба Поота, хотя они таились где—то очень глубоко в его тучном теле, чутко отзывались, когда речь шла о занятиях в школе.
Наутро после возвращения Якоба они жестоко ныли и при каждом ударе школьного колокола впивались в него, словно желая сказать: «Схвати этот колокол за язык! Не то плохо будет!» Напротив, после уроков кости притихли и даже как будто заснули среди своих жировых подушек.
Кости остальных мальчиков вели себя так же; но этому удивляться нечего: ведь они были не так глубоко запрятаны, как кости Якоба, и, естественно, должны были лучше разбираться во всем, что происходит в мире. Это особенно относилось к костям Людвига: они находились чуть ли не под самой колеей и были самыми чуткими костями на свете. Стоило тихонько положить перед Людвигом грамматику с отмеченным в ней длинным уроком, и тотчас же хитрая кость у него над глазами начинала болеть, да как! Стоило послать его на чердак за ножной грелкой — кости сейчас же напоминали ему, что он «так устал!» Зато стоило попросить его сходить в кондитерскую (за целую милю от дома) — да поживее! — и ни одна его косточка не намекала на усталость.
Узнав все это, вы не удивитесь, если я скажу вам, что в этот день наши пятеро мальчиков больше других радовались окончанию уроков, когда толпа ребят хлынула из школы.
Питер был очень доволен. Он узнал от Хильды о том, как смеялась тетушка Бринкер и как радовался Ханс, и ему не нужно было других доказательств того, что Рафф Бринкер поправится. Впрочем, эта новость распространилась во все стороны на много миль вокруг. Люди, которые до сих пор ничуть не интересовались Бринкерами, — а если и говорили о них, то лишь презрительно усмехаясь или с притворной жалостью пожимая плечами, — теперь обнаруживали удивительное знакомство с историей этого семейства во всех ее подробностях. Множество нелепых россказней передавалось из уст в уста.
В тот день взволнованная Хильда остановилась перемолвиться с докторским кучером, который, стоя около лошадей, хлопал себя по груди и бил ладонью о ладонь. Доброе сердце Хильды было переполнено. Она не могла не остановиться и не сказать этому озябшему человеку с усталым лицом, что доктор, вероятно, скоро выйдет. Она даже намекнула ему о своих предположениях — только предположениях, — что совершилось чудесное исцеление: к помешанному вернулся разум. Больше того, она твердо уверена, что вернулся: ведь она слышала смех его вдовы… нет, не вдовы… конечно, — жены… а сам больной живехонек и, пожалуй, даже сидит теперь на кровати и разговаривает не хуже адвоката.
В общем, Хильда вела себя несдержанно и сознавала это, но не раскаивалась.
Ведь так приятно передавать радостные или поразительные новости!
Она легко побежала по каналу, твердо решив еще и еще впадать в этот грех и рассказывать новость чуть ли не всем мальчикам и девочкам в школе.
Между тем с каретой поравнялся бежавший на коньках Янзоон Кольп. Конечно, он уже спустя две секунды начал кривляться и крикнул что—то дерзкое кучеру, взиравшему на него с вялым презрением.
Для Янзоона это было равносильно приглашению подойти поближе. Кучер уже сидел на козлах и, подбирая вожжи, ворчал на лошадей.
Янзоон окликнул его:
— Слушай! Что творится в доме идиота? Твой хозяин там?
Кучер таинственно кивнул.
— Фью—ю! — свистнул Янзоон, подкатывая поближе. — Старик Бринкер окачурился?
Кучер весь надулся от важности и погрузился в еще более глубокое молчание.
— Эй ты, старая подушка для булавок, знай я, что ты в силах разинуть рот, я сбегал бы домой — вон туда! — и приволок бы тебе ломоть имбирной коврижки.
«Старой подушке для булавок» не было чуждо ничто человеческое… За долгие часы ожидания бедняга жестоко проголодался. После слов Янзоона на его лице появились признаки оживления.
— Правильно, старина, — продолжал искуситель. — Ну, скорей… Что нового? Старик Бринкер помер?
— Нет… выздоровел! Пришел… в себя, — произнес кучер.
Он выпаливал слова одно за другим, словно выпускал пули из ружья. И, как пули (выражаясь образно), они поразили Янзоона Кольпа.
Мальчишка подпрыгнул как подстреленный:
— Черт побери! Не может быть!
Кучер поджал губы и бросил выразительный взгляд на ветхое жилище молодого господина Кольпа.
В эту минуту Янзоон завидел вдали кучку мальчиков. Громогласно окликнув их, на манер всех мальчишек его склада, живут ли они в Африке или Японии, в Амстердаме или Париже, он удрал к ним, позабыв о кучере, о коврижке, обо всем, кроме удивительной новости.
Поэтому уже к закату солнца по всей округе было доподлинно известно, что доктор Букман, случайно зайдя в домик, дал идиоту Бринкеру громадную дозу лекарства, темного, как имбирная коврижка. Понадобилось шесть человек, чтобы держать больного, пока ему вливали в рот эту микстуру. Идиот мгновенно вскочил на ноги в полном сознании и то ли сшиб доктора с ног, то ли отхлестал его (какое именно из этих наказаний он применил, оставалось не совсем ясным), а потом сел и заговорил с ним: ну ни дать ни взять — адвокат! После этого он обернулся и произнес очень красивую речь, обращенную к жене и детям. Тетушка Бринкер так хохотала, что с нею сделалась истерика. Ханс сказал: «Я здесь, отец! Я твой родной, милый сын!» А Гретель сказала: «Я здесь, отец! Я твоя родная, милая Гретель!» Доктора после того видели в карете: он сидел, откинувшись назад, бледный как мертвец.
Глава XXXVI. Новая тревога
Когда на другой день доктор Букман зашел в домик Бринкеров, он сразу заметил, как там стало весело и уютно. Счастьем повеяло на него, как только он открыл дверь. Тетушка Бринкер, довольная, сидела у кровати я вязала, ее муж спокойно спал, а Гретель бесшумно месила ржаное тесто на столе в углу.
Доктор пробыл у Бринкеров недолго. Он задал несколько простых вопросов — видимо, остался доволен ответами — и, пощупав больному пульс, сказал:
— Да, он еще очень слаб, юфроу, очень слаб, надо признать. Ему необходимо как можно лучше питаться. Вам нужно начать кормить больного. Хм! Не давайте ему много пищи, но все, что вы ему даете, должно быть питательным и самого лучшего качества.
— У нас есть черный хлеб и овсянка, — бодро ответила тетушка Бринкер, — это ему всегда шло на пользу.
— Что вы! Что вы! — сказал доктор, хмуря брови. — И не думайте! Ему нужно давать свежий мясной бульон, белый хлеб, подсушенный и поджаренный, хорошее вино—малагу, и… хм!.. Ему, должно быть, холодно—надо покрыть его еще чем—нибудь теплым, но легким… А где ваш сын?
— Ханс пошел в Брук, мейнхеер, искать работы. Он скоро вернется. Присядьте, пожалуйста, меестер.
Но то ли твердый навощенный табурет, предложенный тетушкой Брпнкер, показался доктору не особенно привлекательным, то ли сама хозяйка испугала его (отчасти потому, что была женщиной, отчасти потому, что лицо ее внезапно приняло встревоженное, растерянное выражение), не знаю. Верно одно: наш чудаковатый доктор торопливо оглянулся вокруг, пробормотал что—то насчет «исключительного случая», поклонился и исчез, прежде чем тетушка Бринкер успела произнести еще хоть слово.
Странно, казалось бы, что посещение благодетеля семьи может оставить в ней тяжелый след, но вышло именно так. Гретель нахмурилась, встревоженно, по—детски, и яростно принялась месить тесто, не поднимая глаз. Тетушка Бринкер быстро подошла к мужу, склонилась над ним и беззвучно, но страстно зарыдала. Немного погодя вошел Ханс.
— Что с тобой, мама? — шепнул он в тревоге. — Что тебя огорчает? Отцу хуже?
Она взглянула на него, вся дрожа и не пытаясь скрыть свое горе:
— Да. Он умирает с голоду… погибает. Так сказал меестер.
Ханс побледнел:
— Как же так, мама? Надо сейчас же покормить его… Ну—ка, Гретель, подай мне овсянку.
— Нет! — в отчаянии проговорила мать, не повышая голоса и заливаясь слезами. — От этого он может умереть. Наша убогая пища слишком тяжела для него. О Ханс, он умрет… отец умрет, если мы будем кормить его так. Ему нужно мясо, и сладкое вино, и пуховое одеяло. Ох, что мне делать, что мне делать? — И она зарыдала, ломая руки. — В доме нет ни стейвера…
Гретель скривила губки. В эту минуту она только так могла выразить свое сочувствие матери, и слезы одна за другой закапали у нее из глаз прямо в тесто.
— Разве меестер сказал, что отцу все это необходимо, мама? — спросил Ханс.
— Да, сказал.
— Ну, мама, не плачь, все это он получит: я к вечеру принесу и мяса и вина. Сними одеяло с моей кровати, я могу спать и в соломе.
— Да, Ханс, но одеяло у тебя хоть и тонкое, а тяжелое. Меестер сказал, что отца надо покрыть чем—нибудь легким и теплым, а то он погибнет. Торф у нас почти весь вышел, Ханс. Отец зря потратил много торфа — бросал его в огонь, если я не успевала доглядеть.
— Ничего, мама, — зашептал Ханс ободряющим тоном. — Можно срубить иву, если понадобится, и сжечь ее. Но ведь я принесу чего—нибудь сегодня вечером. Должна же быть работа в Амстердаме, если ее нет в Бруке! Не бойся, мама: самая худшая беда прошла. Теперь, когда отец снова пришел в себя, нам ничто не страшно.
— Да. — всхлипнула тетушка Бринкер, торопливо вытирая глаза, — что правда, то правда.
— Конечно, правда. Посмотри на него, мама. Как спокойно он спит! Ты думаешь, мы позволим ему умереть от голода сразу же после того, как он вернулся к нам? Нет, мама, я уверен, что достану все необходимое для отца, так уверен, как если бы карман у меня трещал от золота. Ну—ну, не беспокойся!
И Ханс, торопливо поцеловав мать, схватил свои коньки и выбежал из дому.
Бедный Ханс! Как ни был он обескуражен своими утренними странствованиями, как ни расстроен этим новым огорчением, он бодрился и даже начал посвистывать, решительно шагая вперед с твердым намерением все устроить.
Никогда еще нужда не угнетала так тяжко семью Бринкеров. Запас торфа почти иссяк, и вся мука, остававшаяся в доме, пошла на тесто, которое месила Гретель. В последние дни и мать и дети почти ничего не ели, почти не сознавали своего положения. Тетушка Бринкер была уверена, что вместе с детьми сумеет заработать денег раньше, чем нужда дойдет до крайности, и потому вся отдалась радости, которую принесло ей выздоровление мужа. Она даже не сказала Хансу, что несколько серебряных монет, хранившихся в старой варежке, уже истрачены все до одной.
Теперь Ханс упрекал себя за то, что не окликнул доктора, увидев, как тот садится в карету и быстро уезжает в сторону Амстердама.
«Может быть, это ошибка, — думал он. — Меестер должен ведь знать, что нам не так—то легко достать мяса и сладкого вина. Но отец, как видно, очень слаб… действительно очень слаб. Я во что бы то ни стало должен найти работу. Если бы только мейнхеер вап Хольп вернулся из Роттердама, он бы дал мне работу… Да, но ведь Питер—то здесь, а он сам просил меня обратиться к нему в случае нужды. Сейчас же пойду к нему. Эх! Будь теперь лето…»
Ханс торопливо шел к каналу. Вскоре он надел коньки и быстро заскользил к дому мейнхеера ван Хольпа.
— Отцу надо сейчас же дать мяса и вина, — бормотал он. — Но как я успею заработать деньги, чтобы купить все это сегодня же? Делать нечего: надо идти к Питеру, как я и обещал. Что ему стоит дать нам немного мяса и вина? А как только отец будет сыт, я побегу в Амстердам и заработаю денег на завтра.
Но тут в голову ему пришли другие мысли… мысли, от которых сердце у него застучало и щеки зарделись от стыда. «Ведь это, мягко говоря, все равно что просить милостыню. Ни один из Бринкеров никогда не был нищим. Неужели я буду первым? Неужели мой бедный отец, едва вернувшись к жизни, узнает, что его семья просила подаяние?.. Ведь сам он всегда был таким расчетливым и бережливым».
— Нет, — громко крикнул Ханс, — в тысячу раз лучше расстаться с часами!
«В крайнем случае, я могу заложить их в Амстердаме, — думал он, поворачивая назад. — Это не позор. Я постараюсь поскорее найти работу и выкуплю их. А может быть, даже мне удастся поговорить о них с отцом!»
Когда у него мелькнула эта мысль, он чуть не заплясал от радости. В самом деле, почему бы не поговорить с отцом?! Теперь он разумный человек.
«Может быть, он проснется совершенно здоровым и бодрым… — думал Ханс, — может быть, скажет нам, что часы ни на что не нужны и их, конечно, надо продать! Ура!» И Ханс, как на крыльях, понесся по льду.
Немного погодя коньки уже висели у него на руке. Он бежал к домику.
Мать встретила его на пороге.
— О Ханс! — воскликнула она, и лицо ее засияло от радости. — К нам зашла Хильда ван Глек со своей служанкой. Чего только она не принесла: и мяса, и желе, и вина, и хлеба… полную корзинку! Потом меестер прислал человека из города, тоже с вином и с хорошей постелью и одеялами для отца. Ну, теперь он выздоровеет! Дай им бог здоровья!
— Дай им бог здоровья! — повторил Ханс, и в первый раз за этот день глаза его наполнились слезами.
Глава XXXVII. Возвращение отца
К вечеру Рафф Бринкер почувствовал себя гораздо лучше и настоял на том, чтобы немного посидеть у огня в жестком кресле с высокой спинкой. В домике поднялся целый переполох. Важнейшая роль выпала на долю Ханса, так как отец его был грузен и ему нужно было опереться на что—нибудь устойчивое. Сама тетушка Бринкер отнюдь не была хрупким созданием, но она очень тревожилась и волновалась, решившись на столь смелый шаг, как поднять больного без разрешения доктора, и даже чуть не повалила мужа, хотя считала себя его главной опорой и поддержкой.
— Осторожней, вроу, осторожней, — проговорил Рафф, дыша с трудом. — Что это? Или я постарел и ослаб, или это лихорадка так изнурила меня?
— Вы только послушайте его! — рассмеялась тетушка Бриякер. — Разговаривает не хуже нас, грешных. Конечно, ты ослабел от лихорадки, Рафф. Вот тебе кресло, в нем тепло и уютно. Садись… Ну—ну—ну, вот так!
Говоря это, она вместе с Хансом медленно и осторожно опустила больного в кресло.
Между тем Гретель металась по комнате и подавала матери все, что только можно было засунуть отцу за спину и чем прикрыть ему колени. Потом она подвинула ему под ноги резную скамеечку, а Ханс помешал огонь, чтобы он горел ярче.
Наконец—то отец «сидел». Не удивительно, что он оглядывался вокруг, как человек, сбитый с толку. «Маленький Ханс» только что, можно сказать, перенес его на себе. А «малышка» была теперь четырех с лишком футов росту и с застенчивым видом подметала у камина веником из ивовых прутьев. Мейтье, его вроу, веселая и красивая, как никогда, прибавила в весе фунтов на пятьдесят, и, как ему казалось, всего за несколько часов! Кроме того, на лице у нее появилось несколько новых морщинок, и это удивило ее мужа. Во всей комнате ему были знакомы только сосновый стол, который он сам сделал перед женитьбой, библия на полке да посудный шкаф в углу.
Ах, Рафф Бринкер! Не мудрено, что глаза твои наполнились горячими слезами, хотя ты увидел радостные лица своих близких! Десять лет, выпавшие из жизни человека. — немалая потеря: десять лет зрелости, семейного счастья и любви; десять лет честного труда, сознательного наслаждения солнечным светом и красотой природы; десять лет хорошей жизни!.. Еще вчера ты думал об этих грядущих годах, а назавтра узнал, что они прошли и вместо них была пустота. Не мудрено, что горячие слезы одна за другой покатились по твоим щекам.
Нежная маленькая Гретель! Она заметила эти слезы, и вдруг исполнилось то, чего она желала всю жизнь: с этой минуты она полюбила отца. Ханс молча переглянулся с матерью, когда девочка бросилась к отцу и обвила руками его шею.
— Папа, милый папа, — шептала она, крепко прижимаясь щекой к его щеке, — но плачь! Мы все здесь…
— Благослови тебя бог, — всхлипывал Рафф, целуя ее вновь и вновь. — Я и забыл об этом!
Вскоре он снова поднял глаза и бодро заговорил:
— Как же мне не узнать ее, вроу… — сказал он, сжимая руками милое юное личико и глядя на дочь с таким выражением, словно воочию видел, как она растет, — как же мне не узнать ее! Те же голубые глаза и те же губки! И… ах! я помню даже ту песенку, что она пела, когда едва стояла на ножках. Но это было давно, — со вздохом добавил он, мечтательно глядя на девочку, — давным—давно, и все это прошло.
— Вовсе нет! — с жаром воскликнула тетушка Бринкер. — Неужто ты думаешь, я позволила бы ей позабыть эту песенку?.. Гретель, дочка, спой—ка ту старинную песню — ту, что ты поешь с раннего детства!
Рафф Бринкер устало опустил руки и закрыл глаза. Но так отрадно было видеть улыбку, блуждавшую на его губах, пока голос Гретель обволакивал его, как благовонное курение…
Гретель только напевала — она не знала слов.
Любовь побудила ее непроизвольно смягчать каждый звук, и Рафф готов был поверить, что его двухлетняя крошка снова рядом с ним.
Как только Гретель допела песенку, Ханс взобрался на деревянный табурет и начал рыться в посудном шкафу.
— Осторожней, Ханс! — сказала тетушка Бринкер, которая, при всей своей бедности, всегда была аккуратной хозяйкой. — Осторожней! Направо стоит вино, а сзади белый хлеб.
— Не бойся, мама, — ответил Ханс, шаря в глубине на верхней полке, — я ничего не уроню.
Соскочив на пол, он подошел к отцу и подал ему продолговатый сосновый брусок. С одного конца брусок был закруглен, и на нем виднелись глубокие надрезы.
— Знаешь, что это такое, отец? — спросил Ханс.
Лицо у Раффа Бринкера посветлело:
— Конечно, знаю, сынок: это лодка, которую я начал мастерить для тебя вче… нет, не вчера, к сожалению, а много лет назад.
— Я с тех пор хранил ее, отец. Ты ее закончишь, когда руки у тебя снова окрепнут.
— Да, но уже не для тебя, мальчик мой. Придется мне подождать внуков. Ведь ты уже почти взрослый… А ты помогал матери все эти годы, сынок?
— Еще бы, и как помогал—то! — вставила тетушка Бринкер.
— Дайте подумать… — пробормотал отец, недоумевающе глядя на родных. — Сколько же времени прошло с той ночи, когда грозило наводнение? Это последнее, что я помню.
— Мы сказали тебе правду, Рафф. В прошлом году, на троицу, исполнилось десять лет.
— Десять лет!.. И ты говоришь — я тогда упал. Неужели меня с тех пор все время трепала лихорадка?
Тетушка Бринкер не знала, что ответить. Сказать ли ему все? Сказать, что он был слабоумным, почти сумасшедшим? Доктор велел ей ни в коем случае не огорчать и не волновать больного.
Ханс и Гретель удивились ее ответу.
— Похоже на то, Рафф, — промолвила она, кивнув и подняв брови. — Когда такой грузный человек, как ты, падает вниз головой, мало ли что с ним может произойти… Но теперь ты здоров, Рафф, благодарение господу!
Он склонил голову. Ведь он лишь совсем недавно пробудился к жизни.
— Да, почти здоров, вроу, — сказал он, немного помолчав, — но иногда голова у меня кружится, словно колесо на прялке. И ей не поправиться, пока я снова не пойду на плотины. Как ты думаешь, когда я опять примусь за работу?
— Послушайте вы его! — воскликнула тетушка Бринкер, радуясь, но, надо признать, и пугаясь. — Лучше нам снова уложить его в постель, Ханс. Работа!.. О чем он только говорит!
Она попыталась было поднять мужа с кресла, но он еще не хотел вставать.
— Подите вы прочь! — сказал он, и на лице его промелькнуло что—то напоминающее его прежнюю улыбку (Гретель никогда ее не видела). — Разве мужчине приятно, чтобы его поднимали, как бревно? Говорю вам, не пройдет и трех дней, как я снова буду на плотинах. Да! Там меня встретят славные ребята. Ян Кампхейсен и молодой Хоогсвлейт. Бьюсь об заклад, что тебе они были хорошими друзьями, Ханс!
Ханс взглянул на мать. Молодой Хоогсвлейт умер пять лет назад, Ян Кампхейсен сидел в тюрьме в Амстердаме.
— Да, они, разумеется, помогли бы нам по мере сил, — сказала тетушка Бринкер, уклоняясь от прямого ответа, — если бы мы попросили их. Но Ханс был так занят работой и учением — некогда ему было искать твоих товарищей!
— Работой и учением… — задумчиво протянул Рафф. — Неужто они умеют читать и считать, Мейтье?
— Ты только послушай их! — ответила она с гордостью. — Они успевают просмотреть целую книгу, пока я подметаю пол. Ханс, когда он глядит на страницу с длинными словами, радуется не хуже кролика на капустной грядке… А что до счета…
— Ну—ка, сынок, помоги мне немножко, — перебил ее Рафф Бринкер. — Лучше мне опять прилечь.
Глава XXXVIII. Тысяча гульденов
Глядя сегодня вечером на скромный ужин в домике Бринкеров, никто и не заподозрил бы, какое изысканное угощение спрятано неподалеку. Ханс и Гретель, уплетая по ломтю черного хлеба и запивая его чашкой воды, мечтательно поглядывали на посудный шкаф, но им и в голову не приходило отнять хоть крошку у отца.
— Он поужинал с удовольствием, — сказала тетушка Бринкер, кивнув в сторону кровати, — и сейчас же заснул. Ах, бедняга, не скоро он окрепнет! Ему до смерти хотелось опять посидеть, но, когда я притворилась, будто соглашаюсь и готова поднять его, он раздумал… Помни, дочка, когда у тебя самой будет муж — хотя до этого, может быть, еще далеко, — помни, что тебе не удастся им верховодить, если ты станешь ему перечить. «Смирная жена — мужу госпожа»… Постой! Постой! Не глотай большими кусками, Гретель! С меня хватило бы двух таких кусков на целый обед… Что с тобой, Ханс? Можно подумать, что на стене у нас завелась паутина.
— Да нет, мама, просто я думал…
— О чем думал?.. Ах, и спрашивать нечего, — добавила она изменившимся голосом. — Я сама только что думала об этом самом. Да—да… нечего стыдиться, что нам хочется узнать, куда девалась наша тысяча гульденов; но… ни слова отцу об этих деньгах. Ведь все и так ясно: он ничего о них не знает.
Ханс в тревоге поднял глаза, опасаясь, как бы мать, по обыкновению, не разволновалась, говоря о пропавших деньгах. Но она молча ела хлеб, откусывая маленькими кусочками, и с грустью смотрела в окно.
— Тысяча гульденов, — послышался с кровати слабый голос. — Да, они, наверное, очень пригодились тебе, вроу, в эти долгие годы, пока твой муж сидел сложа руки.
Бедная женщина вздрогнула. Эти слова окончательно погасили надежду, засиявшую в ней с недавних пор.
— Ты не спишь, Рафф? — спросила она срывающимся голосом.
— Нет, Мейтье, и я чувствую себя гораздо лучше. Я говорю, что не напрасно мы копили деньги, вроу. Хватило их на все эти десять лет?
— Я… я… у меня их не было, Рафф, я…
И она уже готова была рассказать ему всю правду, но Ханс предостерегающе поднял палец и прошептал:
— Не забывай, что говорил нам меестер: отца нельзя волновать.
— Поговори с ним, сынок, — откликнулась тетушка Бринкер, вся дрожа.
Ханс подбежал к кровати.
— Я рад, что ты чувствуешь себя лучше, — сказал он, наклоняясь к отцу. — Еще день—два, и ты совсем окрепнешь.
— Да, пожалуй… А надолго ли хватило денег, Ханс? Я не слышал, что ответила мать. Что она сказала?
— Я сказала, Рафф, — запинаясь, проговорила тетушка Бринкер в отчаянии, — что их уже нет.
— Ничего, жена, не расстраивайся! Тысяча гульденов на десять лет — не так уж много, да еще когда надо воспитывать детей; зато вы на эти деньги жили безбедно… Часто ли вы болели?
— Н—нет, — всхлипнула тетушка Бринкер, вытирая глаза передником.
— Ну, будет… будет, женушка, чего ты плачешь? — ласково промолвил Рафф. — Как только я встану на ноги, мы живо набьем деньгами другой кошелек. Хорошо, что я все рассказал тебе про них, перед тем как свалился.
— Что ты мне рассказал, хозяин?
— Да что я эти деньги зарыл. А мне сейчас приснилось, будто я не говорил тебе об этом.
Тетушка Бринкер вздрогнула и подалась вперед. Ханс схватил ее за руку.
— Молчи, мама! — шепнул он, торопливо отводя ее в сторону. — Нам надо вести себя очень осторожно.
Она стояла, стиснув руки, едва дыша от волнения, а Ханс снова подошел к кровати. Дрожа от нетерпения, он проговорил:
— Это, наверное, был неприятный сон. А ты помнишь, когда ты зарыл деньги, отец?
— Да, сынок. Это было перед рассветом, в тот самый день, когда я расшибся. Накануне вечером Ян Кампхейсен что—то сказал, и я заподозрил, что он не очень—то честный человек. Он один, кроме твоей матери, знал, что мы скопили тысячу гульденов… И вот в ту ночь я встал и зарыл деньги… Дурак я был, что усомнился в старом друге!
— Бьюсь об заклад, отец, — сказал Ханс, посмеиваясь и знаком прося мать и Гретель не вмешиваться, — что ты сам позабыл, где ты их закопал.
— Ха—ха—ха! Ну нет, не забыл… Спокойной ночи, сын мой, что—то меня опять ко сну клонят.
Ханс хотел было отойти, но не посмел ослушаться знаков, которые ему делала мать, и сказал мягко:
— Спокойной ночи, отец!.. Значит, как ты сказал? Где ты зарыл деньги? Ведь я был тогда совсем маленьким.
— Под молодой ивой за домом. — проговорил Рафф Бринкер сонным голосом.
— Ах, да… К северу от дерева — ведь так, отец?
— Нет, к югу. Да ты и сам небось хорошо знаешь это место, постреленок… ты, уж конечно, там вертелся, когда мать отрывала деньги. Ну, сынок… тихонько… подвинь эту подушку… так. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, отец! — сказал Ханс, готовый заплясать от радости.
В эту ночь луна, полная и яркая, взошла очень поздно и пролила свой свет в маленькое окошко. Но ее лучи не потревожили Раффа Бринкера. Он спал крепко, так же как и Гретель. Только Хансу и его матери было не до сна.
Сияя радостной надеждой, они поспешно снарядились и выскользнули из дому. В руках они несли сломанный заступ и заржавленные инструменты, много послужившие Раффу, когда он был здоров и работал на плотинах.
На дворе было так светло, что мать и сын видели иву совершенно отчетливо. Промерзшая земля была тверда, как камень, но Ханса и тетушку Бринкер это не смущало. Они боялись одного: как бы не разбудить спящих в доме.
— Этот лом — как раз то, что нам нужно, мама, — сказал Ханс, с силой ударив ломом по земле. — Но почва так затвердела, что ее нелегко пробить.
— Ничего, Ханс, — ответила мать, нетерпеливо следя за ним. — Ну—ка, дай и я попробую.
Вскоре им удалось вонзить лом в землю; потом выкопали ямку, и дальше пошло легче.
Они работали по очереди, оживленно перешептываясь. Время от времени тетушка Бринкер бесшумно подходила к порогу и прислушивалась, желая убедиться, что муж ее спит.
— Вот так новость будет для него! — приговаривала она смеясь. — Все ему расскажем, когда он окрепнет. Как мне хотелось бы нынче же ночью взять и кошель и чулок с деньгами в том виде, в каком мы их найдем, да и положить на кровать, чтобы милый отец их увидел, когда проснется!
— Сначала нужно достать их, мама, — задыхаясь, проговорил Ханс, продолжая усердно работать.
— Ну, в этом сомневаться нечего. Теперь—то уж они от нас не ускользнут! — ответила она, дрожа от холода и возбуждения, и присела на корточки рядом с ямой. — Может статься, мы найдем их запрятанными в тот старый глиняный горшок, который у нас давным—давно пропал.
К тому времени и Ханс начал дрожать, но не от холода. К югу от ивы он разрыл большое пространство на фут в глубину. Сокровище могло теперь показаться с минуты на минуту…
Между тем звезды мерцали и подмигивали друг другу, как бы желая сказать: «Ну и диковинная страна эта Голландия! Чего только здесь не увидишь!»
— Странно, что милый отец спрятал их на такой глубине, — проговорила тетушка Бринкер, слегка раздосадованная. — Да, бьюсь об заклад, что земля тогда была мягкая… А какой он догадливый, что заподозрил Яна Кампхейсена! Ведь Яну тогда верили все. Не думала я, что этот красивый малый, такой веселый, когда—нибудь попадет в тюрьму!.. Ну, Ханс, дай и мне поработать… Чем глубже мы копаем, тем легче, правда? Мне так жалко губить иву, Ханс… Мы не повредим ей, как думаешь?
— Не знаю, — рассеянно ответил Ханс.
Час за часом работали мать и сын. Яма становилась все шире и глубже. Стали собираться тучи, и, проплывая по небу, они отбрасывали на землю таинственные тени. И, только когда побледнели звезды и луна и появились первые проблески дневного света, Мейтье Бринкер и Ханс безнадежно посмотрели друг на друга. Они искали тщательно, с отчаянным упорством, взрыли всю землю вокруг дерева: и к югу от него, и к северу, и к востоку, и к западу… Денег не было!
Глава XXXIX. Проблески
Анни Боуман положительно недолюбливала Янзоопа Кольпа. Янзоон Кольп грубовато, на свой лад, обожал Анни. Анни заявляла, что даже «ради спасения своей жизни» не скажет доброго слова этому противному мальчишке. Янзоон считал ее самым прелестным, самым веселым существом на свете. Анни в обществе подруг издевалась над тем, как смешно хлопает на ветру обтрепанная, полинявшая куртка Янзоона; а он в одиночество вздыхал, вспоминая, как красиво развевается ее нарядная голубая юбка. Она благодарила небо за то, что ее братья не похожи на Кольпов; а он ворчал на свою сестру за то, что она не похожа на девочек Боуман. Стоило им встретиться — и они как будто менялись характерами. В его присутствии она становилась жесткой и бесчувственной; а он при виде ее делался кротким, как ягненок. Они, как и следовало ожидать, сталкивались очень часто.
Часто встречаясь, мы каким—то таинственным образом убеждаемся в своих ошибках, избавляясь от предубеждений. Но в данном случае этот общий закон был нарушен. Анни с каждой встречей все больше ненавидела Янзоона, а Янзоон с каждым днем все горячее любил ее.
«Он убил аиста, злой мальчишка!» — говорила она себе.
«Она знает, что я сильный и бесстрашный», — думал Янзоон.
«Какой он рыжий, веснушчатый, безобразный!» — втайне отмечала Анни, глядя на него.
«Как она уставилась на меня—глаз не сводит! — думал Янзоон. — Ну что ж, я, как—никак, ладный, крепкий малый».
«Янзоон Кольп, дерзкий мальчишка, отойди прочь от меня сейчас же! — частенько сердилась Анни. — Не желаю я с тобой водиться!»
«Ха—ха—ха! — смеялся про себя Янзоон. — Девчонки никогда не говорят того, что думают. Буду с ней кататься на коньках всякий раз, как представится случай».
Вот почему в то утро, катясь из Амстердама домой, эта прелестная молодая девица решила не поднимать глаз, как только заметила, что навстречу ей по каналу скользит какой—то рослый, крупный юноша.
«Ну, если я только взгляну на него, — думала Анни, — я…»
— Доброе утро, Анни Боуман, — послышался приятный голос.
(Как украшает улыбка девичье личико!)
— Доброе утро, Ханс, очень рада видеть тебя.
(Как украшает улыбка лицо юноши!)
— Еще раз доброе утро, Анни. У нас в доме многое изменилось с тех пор, как ты уехала.
— Вот как? — воскликнула она, широко раскрыв глаза.
Ханс до встречи с Анни очень торопился и был настроен довольно мрачно, но теперь вдруг сделался разговорчивым и перестал спешить. Повернув назад и медленно скользя вместе с нею к Бруку, он сообщил ей радостную весть о выздоровлении своего отца. Анни была ему таким близким другом, что он рассказал ей даже о тяжелом положении своей семьи, о том, как нужны деньги, как все зависит от того, достанет ли он работу, Но по соседству для него не находится дела, добавил он, Ханс говорил не жалуясь, а просто потому, что Анни смотрела на него и ей действительно хотелось знать все, что его касалось. Он не мог рассказать ей лишь о горьком разочаровании, испытанном прошлой ночью, так как это была не только его тайна.
— До свиданья, Анни! — сказал он наконец. — Утро проходит быстро, а мне надо спешить в Амстердам и продать там свои коньки. Маме нужны деньги, и их надо добыть как можно скорее. До вечера я, конечно, где—нибудь найду работу.
— Ты хочешь продать свои новые коньки, Ханс?! — воскликнула Анни. — Ты, лучший конькобежец во всей округе! Но ведь через пять дней состязания!
— Знаю, — ответил он решительным тоном. — До свиданья! Домой я покачу на своих старых, деревянных полозьях.
Какой ясный взгляд! Совсем не то, что безобразная усмешка Янзоона… И Ханс стрелой умчался прочь.
— Ханс! Вернись! — крикнула Анни.
Голос ее превратил стрелу в волчок. Ханс повернулся и одним длинным скользящим шагом подкатил к ней.
— Значит, ты действительно продашь свои новые коньки, если найдешь покупателя?
— Конечно, — ответил он, глядя на нее с улыбкой.
— Ну, Ханс, если ты непременно хочешь продать свои коньки… — сказала Анни, слегка смутившись. — Я хочу сказать, если ты… так вот, я знаю кого—то, кто не прочь купить их… вот и все.
— Это не Янзоон Кольп? — спросил Ханс и вспыхнул.
— Вовсе нет, — ответила она обидчиво, — он не из моих друзей.
— Но ты знаешь его, — настаивал Ханс.
Анни рассмеялась:
— Да, я его знаю, и тем хуже для него. И, пожалуйста, Ханс, никогда больше не говори со мной о Янзооне! Я его ненавижу!
— Ненавидишь его? Как можешь ты кого—нибудь ненавидеть, Анни?
Она задорно вздернула головку:
— Да, я возненавижу и тебя тоже, если ты будешь твердить, что он мне друг. Вам, ребятам, этот безобразный верзила, может, и нравится, потому что он поймал натертого салом гуся прошлым летом на ярмарке, а потом его завязали в мешок, и он в мешке вскарабкался на верхушку шеста. Но я от этого не в восторге. Я невзлюбила его с тех пор, как он при мне пытался спихнуть свою сестренку с карусели в Амстердаме. И ни для кого не секрет, кто убил аиста, который жил у вас на крыше. Но нам не к чему говорить о таком скверном, злом мальчишке… Право же, Ханс, я знаю человека, который охотно купит твои коньки. В Амстердаме ты не продашь их и за полцены. Пожалуйста, отдай их мне! Деньги я принесу тебе сегодня же, после обеда.
Если Анни была очаровательна, когда произносила слово «ненавижу», устоять перед нею, когда она говорила «пожалуйста», не мог никто; по крайней мере, Ханс не мог.
— Анни, — сказал он, снимая коньки и тщательно протирая их мотком бечевки, перед тем как отдать девочке, — прости, что я такой дотошный: но, если твой друг не захочет их взять, ты принесешь их сегодня? Ведь завтра утром мне придется купить торфа и муки для мамы.
— Будь спокоен, мой друг захочет их взять, — рассмеялась Анни, весело кивнув и уносясь прочь со всей быстротой, на какую была способна.
Вынимая деревянные «полозья» из своих объемистых карманов и старательно привязывая их к ногам, Ханс не слышал, как Анни пробормотала:
— Жаль, что я была такой резкой! Бедный, славный Ханс! Что за чудесный малый!
И Анни, вся погруженная в приятные мысли, не слыхала, как Ханс проговорил:
— Я ворчал, как медведь… Но дай ей бог здоровья! Бывают же такие девочки! Сущие ангелы!
Может, это и лучше, что каждый из них не слышал слов другого. Нельзя же знать все, что творится на белом свете!
Глава XL. В поисках работы
Привыкнув к роскоши, мы с трудом переносим лишения, которые раньше терпели легко. Деревянные коньки скрипели громче прежнего. Ханс еле—еле передвигал ноги на этих старых, неуклюжих обрубках, но не жалел, что расстался со своими превосходными коньками… Напротив, он решительно гнал от себя мальчишескую досаду на то, что не смог сохранить их чуть—чуть дольше, хотя бы до состязаний.
«Мама, конечно, не рассердится на меня, — думал он, — за то, что я продал их без ее позволения. У нее и так хватает забот. Об этом мы еще успеем поговорить, когда я принесу домой деньги».
Целый день Ханс бродил по улицам Амстердама в поисках работы. Он добыл несколько стейверов, взявшись помогать какому—то человеку, который вел в город навьюченных мулов, но постоянной работы ему не удалось найти нигде.
Он был бы рад наняться в носильщики или рассыльные. Ему не раз попадались нагруженные свертками парни, которые неторопливо брели куда—то, волоча ноги, но для него самого места не оказалось. Один лавочник только что нанял подручного. Другому нужен был «парень поладнее, попроворнее» (выражаясь точнее — «получше одетый», только лавочник не хотел говорить этого). Третий просил Ханса зайти месяца через два, когда каналы, надо полагать, вскроются, а многие просто качали головой, не говоря ни слова.
На фабриках ему также не повезло. В этих огромных зданиях, где производили столько шерстяных, бумажных и льняных тканей, всемирно известных красок, кирпича, стекла и фарфора, на этих мельницах, где мололи зерно, в этих мастерских, где шлифовали драгоценные алмазы, сильный юноша, способный и жаждущий работать, казалось бы, мог найти себе дело. Но нет, всюду Ханс слышал один и тот же ответ: новые рабочие сейчас не нужны. Если б он зашел до праздника святого Николааса, ему, быть может, и дали бы работу, так как в то время всюду была спешка, но сейчас мальчиков больше, чем нужно.
Хансу хотелось, чтобы эти люди хоть на миг увидели его мать и Гретель. Он не знал, что тревога той и другой глядит из его глаз, не знал, что, резко отказав ему, многие чувствовали себя неловко и думали: «Не надо бы прогонять малого». Иные отцы, вернувшись в тот вечер домой, разговаривали со своими детьми ласковее обычного, вспоминая, как омрачилось после их слов честное юное лицо просившего работы парня; и еще не наступило утро, как один хозяин решил, что, если парень из Брука зайдет снова, надо будет приказать старшему мастеру поставить его на какую—нибудь работу.
Но Ханс ничего этого не знал. На закате он отправился назад в Брук, не понимая, отчего у него так странно сжимается горло — от чувства ли безнадежности или от решимости преодолеть все препятствия. Был у него, правда, еще один шанс. Теперь мейнхеер ван Хольп, быть может, уже вернулся, думал он. Правда, Питер, по слухам, еще вчера вечером отправился в Хаарлем устраивать какие—то дела, связанные с большими конькобежными состязаниями. Но все—таки Ханс пойдет к ван Хольпам и попытается получить работу.
К счастью, Питер вернулся рано утром. Он был уже дома, когда пришел Ханс, и как раз собирался идти к Бринкерам.
— А, Ханс! — воскликнул он, когда Ханс, усталый, подошел к дверям. — Вас—то мне и было нужно. Войдите и погрейтесь!
Сорвав с себя истрепанную шапку, которая, словно нарочно, прилипала к голове всякий раз, как ее хозяин чувствовал себя неловко, Ханс стал на одно колено не затем, чтобы поздороваться на восточный манер, и не затем, чтобы воздать поклонение царящей здесь богине чистоплотности, а просто потому, что его тяжелые башмаки способны были внушить ужас любой домохозяйке в Бруке. Сняв башмаки, их хозяин осторожно вошел в дом, оставив их снаружи, как часовых, дожидаться его возвращения.
Из дома ван Хольпов Ханс ушел с легким сердцем. В Хаарлеме отец велел Питеру передать Хансу Бринкеру, чтобы он теперь же начал делать двери для летнего домика. В усадьбе была удобная мастерская, и Хансу позволили работать в ней, пока он не кончит резьбу.
Питер не сказал Хансу, что пробежался на коньках до самого Хаарлема только затем, чтобы устроить все это, поговорив с мейнхеером ван Хольпом. Ему было довольно видеть, каким радостным и оживленным стало лицо молодого Бринкера.
— Мне кажется, я с этой работой справлюсь, — сказал Ханс, — хоть я и не учился ремеслу резчика.
— А я так совершенно уверен, что справитесь, — сердечно ответил Питер. — Вы найдете все нужные вам инструменты в мастерской. Она вон там — едва видна за деревьями, хоть они и осыпались. Летом, когда живая изгородь покрыта листьями, мастерской отсюда совсем не видно… Как чувствует себя ваш отец сегодня?
— Лучше, мейнхеер… силы прибывают к нему с каждым часом.
— В жизни я не слыхал о таком удивительном случае! Этот суровый старик Букман поистине замечательный врач!
— Ах, мейнхеер, — с жаром проговорил Ханс, — этого мало! Он не только замечательный врач — он добрый человек! Если бы не доброе сердце меестера и не его великое мастерство, мой бедный отец и до сих пор жил бы во тьме. Я считаю, — добавил он, и глаза у него загорелись, — что медицина — самая благородная наука!
Питер пожал плечами:
— Может, она и очень благородная, но мне она не совсем по вкусу. Доктор Букман, конечно, мастер своего дела. Ну, а что касается его сердца… избавьте меня от таких сердец.
— Почему вы так говорите? — спросил Ханс.
В эту минуту из соседней комнаты неторопливо вышла дама. Это была мевроу ван Хольп, в роскошнейшем чепце и длиннейшем атласном переднике, обшитом кружевами. Она чинно кивнула Хансу, когда тот отошел от камина и отвесил ей самый вежливый поклон, на какой только был способен.
Питер сейчас же подвинул к камину дубовое кресло с высокой спинкой, и его мать уселась. По бокам камина стояло два больших обрубка пробкового дерева. Питер подставил один из них под ноги матери.
Ханс повернулся, собираясь уходить.
— Подождите, пожалуйста, молодой человек, — сказала она. — Я случайно услышала, как вы с моим сыном говорили о моем друге, докторе Букмане. Вы правы, молодой человек: у доктора Букмана очень доброе сердце… Видишь ли, Питер, мы можем жестоко ошибиться, если будем судить о человеке лишь по его манерам; хотя вообще вежливое обращение можно только приветствовать.
— Я не хотел выказать неуважения к доктору, матушка, — сказал Питер, — но ведь никто не имеет права так ворчать и рычать на людей, как он. А про него это все говорят.
— «Все говорят»! Ах, Питер, «все» — это еще ничего не значит. Доктор Букман испытал большое горе. Много лет назад он при очень тяжелых обстоятельствах потерял своего единственного сына. Это был прекрасный юноша, только немножко опрометчивый и горячий. До этого несчастья Герард Букман был одним из самых приятных людей, каких я когда—либо знала.
Тут мевроу ван Хольп бросила ласковый взгляд на юношей, встала и вышла из комнаты так же чинно, как и вошла в нее.
Питер, не вполне убежденный словами матери, пробормотал: «Грешно допускать, чтобы горе превращало весь твой мед в желчь», — и проводил гостя до узкой боковой двери.
Прежде чем они расстались, он посоветовал Хансу хорошенько потренироваться на коньках.
— Ведь теперь, — добавил он, — когда ваш отец поправился, вы придете на состязания с веселой душой. Никогда еще в нашей стране не устраивался такой великолепный конькобежный праздник! Все только о нем и говорят. Не забудьте: вы должны постараться получить приз.
— Я не буду участвовать в состязаниях, — ответил Ханс, опустив глаза.
— Не будете участвовать в состязаниях? Но почему же? — И тотчас же Питер мысленно заподозрил Карла Схуммеля в каких—то интригах.
— Не могу, — ответил Ханс и нагнулся, чтобы сунуть ноги в свои огромные башмаки.
Что—то в его лице подсказало Питеру, что продолжать расспросы не надо. Он попрощался с Хансом и, когда тот уходил, задумчиво посмотрел ему вслед.
Спустя минуту Питер крикнул:
— Ханс Бринкер!
— Да, мейнхеер?
— Я беру обратно все, что говорил о докторе Букмане.
— Хорошо, мейнхеер.
Оба рассмеялись. Но у Питера улыбка сменилась удивленным выражением лица, когда он увидел, как Ханс, дойдя до канала, стал на одно колено и принялся надевать деревянные коньки.
— Очень странно, — пробормотал Питер, покачав головой, и повернулся, чтобы войти в дом. — Почему же он не бегает на своих новых коньках?
Глава XLI. Добрая фея
Солнце почти закатилось, когда наш герой, счастливый, но все же досадливо усмехаясь, сорвал с себя деревянные «полозья» и, полный надежд, зашагал к крошечной лачужке, давно уже прозванной «домом идиота».
У входа маячили чьи—то две тоненькие фигурки. Но не только глаза Ханса, а и менее зоркие могли бы сразу узнать их.
Серая, тщательно заплатанная кофта, выцветшая синяя юбка, полузакрытая еще более выцветшим голубым передником, полинявший, туго прилегающий чепчик, быстрые ножки в огромных башмаках—кораблях — все это, конечно, принадлежало Гретель. Ханс узнал бы их где угодно.
Яркая кокетливая красная кофточка и красивая юбка с черной каймой, хорошенький чепчик с лопастями, золотые серьги, нарядный передник, изящные кожаные башмачки… Да что говорить! Если бы сам папа римский прислал их Хансу с нарочным, Ханс поклялся бы, что они принадлежат Анни,
Девочки медленно прохаживались взад и вперед перед домиком. Разумеется, они шли под руку и так выразительно кивали и качали головками, словно обсуждали государственные дела.
Ханс бросился к ним с радостным криком:
— Ура, девочки, я получил работу!
На его крик из дома вышла мать.
И у нее нашлись приятные вести. Отцу все лучше и лучше. Он почти весь день сидел, а теперь спит «смирно, что твой ягненок», как выразилась тетушка Бринкер.
— Теперь мой черед, Ханс, — сказала Анни, отводя юношу в сторону, после того как он рассказал матери, что получил работу у мейнхеера ван Хольпа. — Твои коньки проданы. Возьми деньги.
— Семь гульденов! — воскликнул Ханс, удивленно пересчитывая деньги. — Да это втрое больше, чем я сам за них заплатил.
— Я тут ни при чем, — сказала Анни. — Если покупатель ничего не понимает в коньках, мы не виноваты.
Ханс быстро взглянул на нее:
— О Анни!
— О Ханс! — передразнила она его, поджимая губы и стараясь принять отчаянно хитрый и продувной вид.
— Слушай, Анни, я знаю, ты это говоришь несерьезно! Ты должна вернуть часть денег.
— Да ни за что на свете! — упиралась Анни. — Коньки проданы, и все тут. — Но, увидев, что он искренне огорчился, она сбавила тон. — Ты поверишь мне, Ханс, если я скажу, что никакой ошибки не произошло… и тот, кто купил твои коньки, сам настаивал на том, чтобы заплатить за них семь гульденов?
— Поверю, — ответил он, и свет, засиявший в его ясных голубых глазах, казалось, отразился в глазах Анни и заискрился под ее ресницами.
Тетушка Бринкер обрадовалась, увидев столько серебра, но, когда узнала, что Ханс получил его, расставшись со своим сокровищем, со вздохом воскликнула:
— Благослови тебя бог, сынок! Это для тебя большая потеря!
— Подожди, мама, — сказал юноша, шаря на дне кармана. — Вот и еще! Если так будет продолжаться, мы скоро разбогатеем!
— Что и говорить, — ответила она, поспешно протягивая руку. Потом добавила вполголоса: — Мы и впрямь разбогатели бы, не будь этого Яна Кампхейсена. Уж он таки побывал под нашей ивой, Ханс… будь уверен!
— И правда, похоже на то. — вздохнул Ханс. — Но, знаешь, мама, давай—ка позабудем об этих деньгах. Конечно, они пропали; отец рассказал нам все, что знал. Не будем больше думать о них!
— Легко сказать, Ханс! Попробую, но трудно будет, особенно когда моему бедному мужу нужно так много всяких удобств… Ах ты, господи! Что за непоседы эти девчонки! Ведь они только что были здесь. Куда ж это они удрали?
— Они забежали за дом, — сказал Ханс, — наверное, хотят от нас спрятаться. Тише! Сейчас я их поймаю и приведу к тебе. Они бегают быстрей и неслышней, чем вон тот кролик. Но я их сначала хорошенько напугаю.
— А ведь там действительно кролик. Слушай, Ханс, он, бедняжка, должно быть, совсем изголодался, если рушился выйти из норки в такой холод. Сейчас принесу ему крошек.
И добрая женщина поспешила в дом. Вскоре она снова вышла, но Ханс не стал ее дожидаться. А кролик, спокойно осмотревшись, ускакал в неизвестном направлении. Обогнув угол, тетушка Бринкер натолкнулась на детей. Ханс и Гретель стояли перед Анни, а та с небрежным видом сидела на пне.
— Прямо загляденье… как на картинке! — воскликнула тетушка Бринкер, останавливаясь в восхищении перед детьми. — Много я видела картин в том роскошном доме, где я жила в Гейдельберге, но они были ни капельки не лучше. Мои—то оба увальни, а ты, Анни, настоящая фея!
— Разве? — засмеялась Анни, просияв. — Так вот, Ханс и Гретель, вообразите, что я ваша крестная мать—фея и пришла к вам в гости. Задумайте каждый по одному желанию, и я исполню их. Чего вы хотите, господин Ханс?
Анни взглянула на юношу, и лицо ее на мгновение стало серьезным — быть может, потому, что она от всего сердца желала хоть раз обладать волшебной силой. А Хансу чудилось, будто она сейчас и впрямь фея.
— Я хочу, — проговорил он торжественно, — найти то, что искал прошлой ночью!
Гретель весело рассмеялась. Тетушка Бринкер простонала:
— Стыдись, Ханс! — и устало пошла в дом.
«Крестная мать—фея» вскочила и трижды топнула ножкой.
— Пусть говорят, что хотят, — промолвила она. — Твое желание исполнится. — Потом с шутливой торжественностью сунула руку в карман передника и вынула оттуда большую стеклянную бусинку. — Зарой ее там, где я топнула ногой, — сказала она, подавая бусинку Хансу, — и, прежде чем взойдет луна, твое желание исполнится.
Гретель рассмеялась еще веселее.
«Фея—крестная» притворилась очень недовольной.
— Скверная девчонка! — сказала она, скорчив страшную гримасу. — В наказание за то, что ты смеялась над феей, твое желание не исполнится!
— Ха! — в восторге крикнула Гретель. — Подожди, пока тебя о чем—то попросят, крестная. Да ведь я никакого желания и не задумала!
Анни хорошо играла свою роль. Не заражаясь веселым смехом друзей, она гордо пошла прочь, изображая воплощение оскорбленного достоинства.
— Спокойной ночи, фея! — кричали ей вслед Ханс и Гретель.
— Спокойной ночи, смертные! — крикнула она наконец, перепрыгнув через замерзшую канаву, и быстро побежала домой.
— Ну, не правда ли, она похожа на… на цветок… такая милая и прелестная! — воскликнула Гретель, с величайшим восхищением глядя вслед Анни. — Подумай, сколько дней она просидела в темной комнате с больной бабушкой… Но слушай, братец Ханс, что с тобой? Что ты собираешься делать?
— Подожди — увидишь! — ответил Ханс и, бросившись в дом, мгновенно вернулся с заступом и ломом в руках. — Я хочу зарыть свою волшебную бусинку!
***
Рафф Бринкер все еще крепко спал. Его жена взяла небольшой кусок торфа из своего почти иссякшего запаса и положила его на тлеющие угли. Потом открыла дверь и негромко позвала:
— Идите домой, дети!
— Мама, мама! Смотри! — во все горло крикнул Ханс.
— Святой угодник Бавон! — восклпкнула тетушка Бринкер, выскочив за порог. — Что это с парнем?
— Иди сюда скорей, мама! — кричал Ханс в сильнейшем возбуждении, работая изо всех сил и после каждого слова вонзая лом в землю. — Видишь? Вот это самое место… вот здесь, на юг от пня. И как это мы вчера вечером не догадались? Ведь этот пень — от той старой ивы, которую ты срубила прошлой весной, потому что от нее падала тень на картофель. А молодого деревца здесь и в помине не было, когда отец… Ура! Ура!
Тетушка Брпнкер не могла вымолвить ни слова. Она упала на колени рядом с Хансом как раз в ту минуту, когда он вытащил… старый глиняный горшок!
Ханс сунул руку в горшок и вынул оттуда… обломок кирпича… потом другой… потом третий… потом чулок и кошель, черные, заплесневелые, но набитые давно утраченным сокровищем!
Что тут творилось! Сколько было смеха! Сколько слез! Какие начались подсчеты, после того как все вернулись в дом! Чудо, что Рафф не проснулся. Впрочем, сны он, должно быть, видел приятные: он улыбался во сне.
Могу вас уверить, что тетушка Бринкер и ее дети поужинали на славу. Теперь незачем было беречь вкусные яства.
— Отцу мы купим хорошую, свежую еду завтра, — сказала тетушка Бринкер, вынимая холодное мясо, вино, хлеб, желе и ставя их на чистый сосновый стол. — Садитесь к столу, детки, садитесь!
***
В ту ночь Анни, засыпая, думала, что вчера Ханс, должно быть, искал свой потерянный нож, и как будет забавно, если он действительно найдет его.
А Ханс, как только сомкнул глаза, увидел, что пробирается сквозь какую—то чащу; повсюду вокруг него лежат горшки с золотом, а с каждой ветки свешиваются часы, коньки и сверкающие бусы.
Как ни странно, но каждое дерево, к которому он приближался, превращалось в пень, а на пне сидела невообразимо прелестная фея в ярко—красной кофточке и голубой юбке.
Глава ХLII. Загадочные часы
В день посещения феи—крестной кое—что выяснилось еще раньше, чем нашлись пропавшие гульдены. А именно: выяснилось, как попали в дом часы, которые верная вроу Раффа так ревниво хранила целых десять лет. Не раз в минуты тяжкого искушения она боялась даже взглянуть на них, чтобы не поддаться соблазну и не ослушаться мужа. Тяжело ей было видеть своих ребят голодными и в то же время думать: «Продай часы — и детские щечки снова зацветут, как розы». — «Так нет же, — восклицала она тогда, — будь что будет, а Мейтье Бринкер не такова, чтобы забыть последнюю просьбу своего мужа!»
«Храни их бережно, вроу», — сказал он, отдавая ей часы. Вот и все. Никакого объяснения не последовало: ведь едва он произнес эти слова, как один из его товарищей рабочих ворвался в дом с криком: «Иди, друг! Вода поднимается! Тебя зовут на плотины!»
Рафф сейчас же ушел, и, как тетушка Бринкер уже говорила, она тогда в последний раз видела его в здравом уме.
В тот день, когда Ханс искал работу в Амстердаме, а Гретель, управившись с домашними делами, бродила в поисках щепок, сучков — вообще всего, что годится на топливо, тетушка Бринкер, сдерживая волнение, подала мужу часы.
«Глупо было бы ждать дольше, — говорила она впоследствии Хансу, — если одно слово отца могло объяснить все. Какую женщину ни возьми, всякой захотелось бы узнать, как попала к нему эта вещь».
Рафф Бринкер долго вертел и перевертывал часы; осмотрел их блестящие полированные крышки, потом привязанную к ним, аккуратно выглаженную черную ленточку. Но он как будто не узнавал их. Наконец он проговорил:
— А, помню! Ты так усердно натирала их, вроу, что они блестят, как новый гульден.
— Да, — сказала тетушка Брпнкер, самодовольно кивнув.
Рафф снова посмотрел на часы.
— Бедный малый! — пробормотал он и задумался.
Тетушка Бринкер не вытерпела.
— Бедный малый! — повторила она слегка раздраженным тоном. — А как ты думаешь. Рафф Бринкер, зачем я здесь стою, хотя мне нужно прясть, если не затем, чтобы побольше узнать от тебя про эти часы!
— Да ведь я давным—давно рассказал тебе все, — спокойно ответил Рафф, удивленно глядя на нее.
— Вовсе нет, ничего ты мне не рассказывал! — возразила ему жена.
— Ну что ж, если нет… Впрочем, все это нас не касается… так и не будем говорить об этом, — сказал он и грустно покачал головой. — Пока я так долго был мертвецом на земле, бедный малый, чего доброго, в самом деле умер. Да и не мудрено: плохой был вид у несчастного!
— Рафф Бринкер! Если ты так обращаешься со мной, хотя я с тобой нянчилась и столько от тебя вытерпела, с тех пор как мне стукнуло двадцать два года, то это прямо стыд и позор! — закричала тетушка Бринкер, густо краснея и задыхаясь.
— То есть как это я обращаюсь с тобой, Мейтье? — промолвил Рафф все еще слабым голосом.
— «Как это»? — проговорила тетушка Бринкер, передразнивая его голос и манеру говорить. — «Как это»? Да так, как обращаются со всякой женщиной, после того как она поддерживала мужчину в беде, после того…
— Мейтье!
Рафф наклонился вперед, протянув руку. Глаза его были полны слез.
Тетушка Бринкер бросилась к ногам мужа и стиснула его руки:
— О, что я наделала! Мужа своего до слез довела! А ведь и четырех дней не прошло, как он вернулся ко мне! Посмотри на меня, Рафф! Рафф, мой родной, мне так жаль, что я тебя огорчила! Но ведь я прождала десять лет! Тяжело мне так ничего и не узнать про эти часы. Я больше не буду спрашивать, Рафф. Вот что: мы их запрячем подальше, раз они вызвали нашу первую ссору после того, как господь только что вернул тебя мне.
— Я был дурак, что разревелся, Мейтье, — сказал Рафф, целуя ее, — а ты имеешь право узнать все. Но мне казалось, что говорить об этом — все равно что выдавать тайны умерших.
— А тот человек… тот парень… о котором ты говорил, — он умер, ты так думаешь? — спросила она, взяв часы, но все—таки присаживаясь у его ног на конец длинной скамейки и готовясь слушать.
— Трудно сказать, — ответил он.
— Он был очень болен, Рафф?
— Нет, болен он не был, насколько я знаю, но расстроен, вроу, очень расстроен!
— Может, он сделал что—нибудь дурное, а? — спросила она, понижая голос.
Рафф кивнул.
— Убил кого—нибудь? — прошептала жена, не смея поднять глаза.
— Да, что—то в этом роде, но его словам.
— Ох, Рафф… ты меня пугаешь!.. Расскажи подробнее… ты говоришь так странно… и весь дрожишь. Я должна знать все.
— Если я дрожу, вроу, это, наверное, от озноба. На моей душе, слава богу, нет греха!
— Выпей глоток вина, Рафф… Вот так, теперь тебе лучше. Ты говоришь, он совершил какое—то преступление?
— Да, Мейтье, кажется, убийство; так он сказал мне сам. Но я этому никогда не поверю. Такой хороший малый — лицо молодое, честное… ну вот как наш сын, только не такой смелый и прямой.
— Да, понимаю, — сказала тетушка Бринкер негромко, опасаясь, как бы муж не перестал рассказывать.
— Он наткнулся на меня совершенно случайно, — продолжал Рафф. — До этого я никогда его не встречал, а лицо у него было такое бледное, испуганное, каких я в жизни не видывал. Он схватил меня за локоть и говорит: «Мне кажется, вы честный человек»…
— Да, я тут он не ошибся! — с жаром перебила его тетушка Бринкер.
Рафф посмотрел на нее растерянно:
— На чем это я остановился, вроу?
— Парень взял тебя за руку, Рафф, — сказала она, с тревогой глядя на него.
— Да, вот именно. Я с трудом подбираю слова и все вспоминаю, как в полусне, знаешь ли…
— Ишь ты! Да и не мудрено, бедняга, — вздохнула тетушка Бринкер, поглаживая его по руке. — Не будь у тебя от природы столько ума, что и на дюжину бы хватило, никогда бы к тебе не вернулся рассудок… Значит, взял тебя парень за локоть и сказал, что ты на вид честный человек — как же иначе! А что потом? Это днем было?
— Нет, перед рассветом… задолго до утреннего звона.
— Это было в тот самый день, когда ты расшибся, — сказала тетушка Бринкер. — Помню, ты пошел на работу примерно около полуночи… Ты остановился на том, что он взял тебя за локоть, Рафф.
— Да, — продолжал муж. — Вот даже сейчас его лицо так и стоит у меня перед глазами… такое бледное и растерянное. «Подвезите меня немного вниз по реке», — говорит он. А я тогда, помнишь, работал далеко на линии, что в стороне Амстердама. Я сказал ему, что я не лодочник. «Дело идет о жизни и смерти, — говорит он. — Подвезите меня только несколько миль… Вот он, ялик, не на замке; но я ведь не знаю — может, его хозяин бедный человек, а мне не хотелось бы грабить бедняка!» Может быть, он выразился и не совсем так, вроу, — ведь все это я помню смутно, как сон. Ну, вот я и повез его. Проплыли мы миль шесть или восемь, и тут он сказал, что дальше побежит по берегу; а я спешил пригнать лодку обратно. Перед тем как выскочить на берег, он говорит, а сам чуть не всхлипывает: «Я могу довериться вам… я сделал… бог свидетель, что неумышленно… но человек умер. Я должен бежать из Голландии».
— А как все это случилось, он рассказал, Рафф? Может, он дрался на дуэли с товарищем, как студенты Геттингенского университета?
— Не помню. Может, он и рассказал мне, но все это — как сон. Я сказал, что не годится мне, доброму голландцу, нарушать законы моей родины, помогая ему таким манером. А он все твердил: «Бог свидетель, что я невиновен!» — и смотрел на меня при свете звезд такими светлыми, ясными глазами — ну совсем как наш маленький Ханс… Я только погнал лодку быстрее.
— Наверное, это была лодка Яна Кампхейсена, — сухо заметила тетушка Бринкер: — никто другой не бросает своих весел куда попало.
— Да… это действительно была его лодка. Ян, наверное, придет навестить меня в воскресенье, если только уже слышал, что я поправляюсь; да и молодой Хоогсвлейт тоже… На чем это я остановился?
(Счастье, что тетушка Бринкер сдержалась: говорить о Яне после жестокого разочарования, испытанного этой ночью, значило породить такие огорчения и подозрения, каких Рафф не вынес бы.)
— На чем ты остановился? Да почти на том же месте: парень еще не успел отдать тебе часы. Ах, вряд ли он добыл их честным путем!
— Ну что ты, вроу! — воскликнул Рафф обиженно. — Часы были его собственные — ясно, как день.
— Как же он дошел до того, что отдал их? — спросила тетушка Бринкер, бросив беспокойный взгляд на огонь, в который пора было подбавить торфу.
— Я тебе про это уже рассказывал, — ответил Рафф, недоумевающе глядя на нее.
— Расскажи еще разок, — сказала тетушка Бринкер, благоразумно стараясь помешать ему снова уклониться в сторону.
— Так вот, перед тем как выскочить из лодки, он отдает мне часы и говорит: «Я бегу, покидаю родину, хотя никогда не думал, что придется… Я доверяюсь вам, потому что уверен в вашей честности. Отнесите эти часы моему отцу… не сегодня, а через неделю, и скажите, что их посылает его несчастный сын. И еще скажите, что, если он когда—нибудь пожелает, чтобы я вернулся к нему, я не побоюсь ничего и приеду. Скажите ему, чтобы он послал письмо на имя… на имя…» Ну вот, все остальное вылетело у меня из головы. Не могу вспомнить, куда надо было послать письмо. Бедный малый! Бедный малый! — горестно проговорил Рафф и взял часы, лежавшие на коленях жены. — Так часы и не попали к его отцу.
— Я отнесу их, Рафф, не беспокойся… Отнесу, как только вернется Гретель. Она скоро придет домой. А как ты сказал, как звали его отца? Где ты должен был разыскать его?
— В том—то и горе! — ответил Рафф, очень медленно выговаривая слова. — Все с меня точно соскользнуло. Я вижу лицо молодого человека и его большие глаза так ясно, словно он стоит передо мной… и я помню, как он открыл часы, выхватил из них что—то и поцеловал… а больше ничего не помню. Все остальное словно вихрем унесло, и, когда я пытаюсь вспомнить, мне чудится шум наводнения…
— Да, оно и видно, Рафф… Но я то же самое чувствовала после лихорадки. Ты устал… надо сейчас же уложить тебя в постель… Да куда ж она запропастилась, эта девчонка, хотела бы я знать?
Тетушка Бринкер открыла дверь и крикнула:
— Гретель! Гретель!
— Отойди—ка в сторонку, вроу, — слабым голосом проговорил Рафф, наклоняясь вперед и стараясь увидеть покрытую снегом равнину. — Что—то мне захотелось хоть немножко постоять за дверью, на воздухе.
— Нет—нет! — рассмеялась его жена. — Вот погоди, я расскажу меестеру, как ты ноешь, и надоедаешь, и пристаешь, чтобы тебя выпустили из дому! Но, если он разрешит, я тебя завтра же укутаю потеплее и поведу гулять… Да ты у меня тут совсем замерзнешь — дверь—то открыта!.. Смотри—ка, ведь это Гретель: передник туго набит… катит по каналу как бешеная… Хозяин, что ты делаешь! — вдруг чуть не вскрикнула она, захлопнув дверь. — Ты сам идешь к кровати, без моей помощи — я до тебя и не дотронулась. Да ты упадешь, мой милый!
Она сказала «мой милый» — слова, которые произносила лишь редко. И это показывало, как велики были и страх и радость, охватившие ее, когда она бросилась поддержать мужа. Вскоре Рафф улегся под новым одеялом и, пока жена со всех сторон подтыкала его, чтобы ему было тепло и уютно, заявил, что это он в последний раз лежит в постели днем.
— Да, я и сама на это надеюсь, — рассмеялась тетушка Бринкер, — раз уж ты начал так резвиться.
Рафф закрыл глаза, а тетушка Бринкер поспешила раздуть огонь, или, точнее, ослабить его, ибо голландский торф похож на самих голландцев: его трудно разжечь, но стоит ему разгореться, и он будет пылать очень ярко. Затем она отодвинула в сторону свою забытую прялку, вынула из какого—то невидимого кармана вязанье и уселась возле кровати.
— Если бы ты вспомнил имя этого человека, Рафф, — осторожно начала она, — я могла бы отнести ему часы, пока ты спишь. Гретель, наверное, скоро вернется.
Рафф снова попытался вспомнить, как зовут отца того юноши, которого он подвез на лодке, но тщетно.
— Уж не Боомпхоффен ли? — подсказала тетушка Брипкер. — Я слышала, в этой семье двое сыновей пошли по плохой дорожке… Герард и Ламберт.
— Возможно, — ответил Рафф. — Погляди, нет ли на часах каких букв — может, они наведут нас на след.
— Молодчина ты у меня! — радостно воскликнула тетушка Брпнкер, быстро взяв часы. — Да ты теперь умней прежнего! Так оно и есть, вот они: «Л. Я. Б.» Это Ламберт Боомпхоффен, будь уверен!.. Вот только к чему тут «Я», не знаю. Впрочем, это были важные господа, напыщенные, как индюки. Такие часто дают своим детям двойные имена, хоть это и не положено по писанию.
— Так ли, вроу! Мне помнится, в библии встречаются длинные, сложные имена, какие и выговорить—то мудрено. Но ты вмиг угадала правильно. Такой ты и была всегда, — сказал Рафф, снова закрыв глаза. — Попробуй отнеси часы Боомпкинсам.
— Не Боомпкинсам, таких я не знаю, — Боомпхоффенам.
— Ну да, отнеси их туда.
— Туда! Легко сказать, хозяин! Да вся их семья четыре года назад переселилась в Америку. Уж лучше спи, Рафф: ты бледный и совсем ослабел. Завтра утром сразу смекнешь, как лучше сделать… А, госпожа Гретель, наконец—то явилась!
В этот вечер «фея—крестная», как мы уже знаем, побывала в домике, прежде чем Рафф проснулся. Гульдены были снова надежно упрятаны в большой сундук, а тетушка Бринкер с детьми роскошно угощалась мясом, белым хлебом и вином.
Тогда—то мать, захлебываясь от радости, и рассказала детям историю часов, с теми подробностями, которые считала возможным сообщить. Справедливо, думала она, чтобы бедняжки узнали про них кое—что, раз они так свято хранили тайну с тех пор, как сами стали хоть что—нибудь понимать.
Глава XLIII. Открытие
Много хлопот выпало Бринкерам на следующий день. Прежде всего надо было сообщить отцу про находку тысячи гульденов. Такая весть, разумеется, не могла ему повредить. Затем, в то время как Гретель усердно исполняла приказание матери «убрать дом чисто—начисто» Ханс и тетушка Бринкер, очень радостные, отправились покупать торф и провизию.
Ханс был беззаботен и доволен; тетушка Брннкер радостно волновалась: очень уж много новых потребностей возникло у семьи за одну ночь, — как грибы выросли, — так что, чего доброго, и десяти тысяч гульденов не хватит. На пути в Амстердам она, весело болтая с Хансом, собиралась тратить деньги, не жалея; однако домой принесла такие маленькие свертки, что Ханс, сбитый с толку, прислонился к камину и, почесывая голову, вспоминал поговорку: «Чем больше кошель, тем он туже завязан».
— О чем ты думаешь, лупоглазый? — щебетала мать (отчасти угадавшая его мысли), носясь по комнате и готовя обед. — О чем думаешь?.. Слушай, Рафф, ты не поверишь: малый был готов притащить домой на голове чуть ли не пол—Амстердама! Вообрази, он хотел накупить столько кофе, что его хватило бы набить доверху горшок для углей! «Нет—нет, сынок, — говорю я, — берегись на судне течи, коли груз богатый». А он как уставится на меня… Ну вот совсем как сейчас… Эй, сынок, пошевелись! Смотри прирастешь к камину, если будешь так пучить глаза да удивляться!.. Ну, Рафф, гляди, я ставлю твое кресло в конце стола, где ему и следует быть; ведь теперь у нас в доме есть мужчина — это я готова сказать в лицо хоть самому королю. Да, вот сюда… обопрись на Ханса; он для тебя все равно что крепкий посох! Растет, как сорная трава, а ведь кажется, будто он еще вчера учился ходить. Садись за стол, муженек, садись!
— А помнишь ты, вроу, — сказал Рафф, осторожно усаживаясь в большое кресло, — тот чудесный органчик, который так развлекал тебя, когда ты работала в знатном доме в Гейдельберге?
— Еще бы не помнить! — ответила тетушка Бринкер. — Стоило три раза повернуть медный ключик — и колдовская штука так, бывало, заиграет, что дрожь по спине… Хорошо помню. Но, Рафф, — и тетушка Бринкер сразу же сделалась серьезной, — ведь ты не станешь бросать наши гульдены на такие пустяки?
— Нет—нет, только не я, вроу… Один органчик я уже получил от бога и — бесплатно.
Мать и дети быстро переглянулись в испуге, потом посмотрели на Раффа… Неужели он опять помешался?
— Да, и этот органчик я не продам за пятьдесят кошельков, набитых деньгами, — продолжал Рафф. — А заводят его ручкой от метлы, и он скачет и носится по комнате—всюду поспевает вмиг. А уж как заливается!.. Можно поклясться, что это певчие птички вернулись из теплых стран.
— Святой угодник Бавон! — выкрикнула тетушка Бринкер. — Да что это на него нашло?
— Утешение и радость, вроу, вот что на него нашло! Спроси Гретель, спроси мой «маленький органчик» Гретель: разве нынче я не радовался, глядя на нее, и не утешился вполне?
— Ну, мама, — рассмеялась Гретель, — он сам был для меня органчиком! Пока вас не было, мы чуть не все время вместе распевали песни.
— Ах, вот как! — проговорила тетушка Бринкер, у которой словно гора с плеч свалилась. — Слушай, Ханс, тебе ни за что не справиться с таким куском. Но ничего, цыпленок, ты ведь долго постился… Гретель, возьми—ка еще ломтик колбасы: от нее у тебя кровь разольется по щекам.
— Ой, ой, мама! — расхохоталась Гретель, поспешно протягивая свою тарелку. — У девочек кровь не разливается по щекам… ты хотела сказать, что на моих щеках расцветут розы… Ведь так говорят, Ханс? Розы?
Пока Ханс спешил проглотить громадный кусок, что бы дать подходящий ответ на этот поэтический вопрос, тетушка Бринкер быстро разрешила спор.
— Ну, розы или кровь, — сказала она, — для меня все едино, лишь бы румянец опять украсил твое светлое личико. Довольно того, что мать у тебя бледная, изможденная, но…
— Да что ты, вроу! — торопливо перебил ее Рафф. — Ты сейчас свежей и румяней обоих наших цыплят вместе взятых.
Это замечание, хотя оно и вовсе не подтверждало, что вновь пробудившийся ум Раффа достаточно ясен, тем не менее доставило тетушке Бринкер величайшее удовольствие. Итак, обед прошел чрезвычайно приятно.
После обеда заговорили о часах, и, как следовало ожидать, стали строить догадки насчет таинственных букв. Ханс отодвинул свой табурет и уже собирался уходить к мейнхееру ван Хольпу, а мать его встала, чтобы положить часы на прежнее место, как вдруг послышался стук колес по мерзлой земле.
Кто—то постучал в дверь и тотчас же открыл ее.
— Входите, — нерешительно проговорила тетушка Бринкер, торопливо стараясь спрятать часы к себе за лиф. — А, это вы, мейнхеер! Добрый день! Отец уже почти поправился, как видите. Стыдно принимать вас в такой убогой лачуге, мейнхеер, да и со стола еще не убрано…
Доктор Букман вряд ли слышал извинения хозяйки. Он, видимо, спешил.
— Хм! — воскликнул он. — Я здесь, очевидно, уже не нужен. Пациент быстро поправляется.
— Как ему не поправиться, мейнхеер! — вскричала тетушка Бринкер. — Ведь мы вчера вечером нашли тысячу гульденов, которые у нас пропадали целых десять лет!
Доктор Букман широко раскрыл глаза.
— Да, мейнхеер, — сказал Рафф. — Я прошу вроу рассказать вам об этом, хотя это наша семейная тайна, — ведь я вижу, что вы отлично умеете держать язык за зубами.
Доктор поморщился: он не любил, когда говорили о нем самом.
— А теперь, мейнхеер, — продолжал Рафф, — вы можете получить плату за ваши труды. Бог свидетель, вы заслужили ее, если только это заслуга — вернуть семье и миру такого незначительного человека, как я. Скажите моей вроу, сколько надо заплатить, мейнхеер: она с радостью отдаст вам эти деньги.
— Ну—ну, чего там! — буркнул доктор ласковым голосом. — Не будем говорить о деньгах. Плату я могу получить где угодно, а благодарность встречается редко. Мальчик сказал мне «спасибо», — добавил он, мотнув головой в сторону Ханса, — и этой платы мне довольно.
— У вас самих, должно быть, есть сын, — проговорила тетушка Бринкер в восторге от того, что великий человек сделался таким общительным.
Но тут добродушие доктора Букмана ему изменило. Он проворчал что—то (так, по крайней мере, показалось Гретель), но не ответил ни слова.
— Не посетуйте на мою вроу, мейнхеер, если она говорит лишнее, — сказал Рафф, — но она только что очень жалела одного молодого человека, родные которого уехали неизвестно куда. А я должен был кое—что передать им от него.
— Их фамилия Боомпхоффен! — горячо проговорпла тетушка Бринкер. — Не знаете ли вы чего—нибудь об этой семье, мейнхеер?
Доктор ответил кратко и грубо:
— Да, знаю. Беспокойные люди. Они уже давно переселились в Америку.
— Может быть, Рафф, — робко настаивала тетушка Бринкер, — меестер знает кого—нибудь в этой стране, хотя там, как я слышала, чуть ли не все жители дикари… Вот если б он мог доставить Боомпхоффенам часы и передать слова бедного малого, то—то было бы хорошо!
— Не надо, вроу. Зачем беспокоить доброго меестера, когда его везде ждут умирающие? Почем ты знаешь, что мы правильно угадали фамилию?
— Я в этом уверена, — ответила она. — У них был сын Ламберт, а на крышке стоит буква «Л» — значит, «Ламберт», а потом «Б» — «Боомпхоффен». Правда, остается еще какая—то непонятная буква «Я»… Но пусть лучше меестер сам посмотрит.
И она протянула доктору часы.
— «Л. Я. Б.»! — вскричал доктор Букман, бросившись к ней.
К чему пытаться описывать то, что за этим последовало! Скажу одно: слова сына были наконец переданы отцу, и, когда их передавали, великий хирург рыдал, как ребенок.
— Лоуренс, мой Лоуренс! — восклицал он, любовно держа часы в руке и глядя на них жадными глазами. — Ах, если б я знал все это раньше! Лоуренс — бездомный бродяга… Господи! Быть может, он в эту минуту страдает, умирает! Вспомните, друг мой, куда он собирался уехать? Как сказал мой сын, куда ему надо было послать письмо?
Рафф грустно покачал головой.
— Вспомните! — молил доктор.
Неужто память, пробужденная с его помощью, откажется послужить ему в такую минуту?
— Все испарилось, мейнхеер, — вздохнул Рафф.
А Ханс обнял доктора, позабыв о том, что он старик и большой ученый, позабыв обо всем на свете, кроме того, что его добрый друг расстроен.
— Я найду вашего сына, мейнхеер, если только он жив. Ведь земля не так уж велика! Каждый день своей жизни я посвящу его поискам. Теперь мать может обойтись без меня. Вы богаты, мейнхеер: посылайте меня куда хотите.
Гретель заплакала. Ханс прав, решаясь уехать, думала она, но как же они будут жить без него?
Доктор Букман ничего не ответил, но не оттолкнул Ханса. Глаза его тревожно впились в Раффа. Он взял часы и, дрожа от нетерпения, попытался открыть их. Тугая пружина наконец подалась, крышка открылась, а под нею оказалась бумажка с пучком голубых незабудок. Рафф заметил в лице доктора глубокое разочарование и поспешил сказать:
— Там было еще что—то, мейнхеер, но молодой человек выхватил эту вещь из часов, прежде чем отдал их мне. Я видел, как он поцеловал ее, а потом спрятал.
— Это был портрет его матери! — простонал доктор. — Она умерла, когда ему было десять лет. Значит, мальчик не забыл ее! Оба мертвы?! Нет, не может этого быть! Мой мальчик жив! — воскликнул он. — Послушайте, как все произошло. Лоуренс работал у меня ассистентом. Он по ошибке отпустил не то лекарство для одного из моих пациентов — послал ему смертельный яд, — но больному его не успели дать, так как я вовремя заметил ошибку. Больной умер в тот же день. А я тогда задержался у других тяжелобольных до вечера следующего дня. Когда я вернулся домой, мой сын уже исчез. Бедный Лоуренс! — всхлипывал доктор, совсем убитый горем. — За столько лет он не получил от меня ни одной весточки! Его поручения не выполнили. О, как он, наверное, страдал!
Тетушка Бринкер осмелилась заговорить. Все что угодно, лишь бы не видеть, как плачет меестер!
— Но какое счастье знать, что молодой человек был невиновен! Ах, как он волновался! Ведь он говорил тебе, Рафф, что его преступление все равно что убийство. Он хотел сказать, что послал больному не то лекарство. Какое же это преступление? Да взять хоть нашу Гретель — ведь это и с ней могло случиться! Должно быть, бедный молодой человек услышал, что больной умер… вот потому он и сбежал, мейнхеер… Помнишь, Рафф, он сказал, что не в силах будет вернуться в Голландию, если только… — Она помедлила. — Ах, ваша честь, тяжело десять лет ожидать вестей от…
— Молчи, вроу! — резко остановил ее Рафф.
— Ожидать вестей! — простонал доктор. — А я—то, как дурак, упрямо сидел сложа руки, думая, что он меня покинул! Мне и в голову не приходило, Бринкер, что мальчик узнал о своей ошибке. Я думал, что это юношеское безумство… неблагодарность… любовь к приключениям повлекли его вдаль… Мой бедный, бедный Лоуренс!
— Но теперь вы знаете все, мейнхеер, — прошептал Ханс. — Вы знаете, что он ничего дурного не сделал, что он любил вас и свою покойную мать. Мы найдем его! Вы опять увидите его, дорогой меестер!
— Благослови тебя бог! — сказал доктор Букман, схватив юношу за руку. — Может быть, ты и прав. Я попытаюсь, попытаюсь… А если хоть малейший проблеск воспоминания о моем сыне возникнет у вас, Рафф Бринкер, вы сейчас же дадите мне знать?
— Еще бы, конечно! — воскликнули все, кроме Ханса; но его немого обещания было бы довольно для доктора, даже если бы все остальные молчали.
— Глаза вашего мальчика. — сказал доктор, обращаясь к тетушке Бринкер, — до странности похожи на глаза моего сына. Когда я впервые встретился с ним, мне показалось, будто это Лоуренс смотрит на меня.
— Да, мейнхеер, — ответила мать с гордостью, — я заметила, что наш сын вам по душе пришелся!
На несколько минут меестер как будто погрузился в размышления; потом он встал и заговорил другим тоном:
— Простите меня, Рафф Бринкер, за весь этот переполох. Не огорчайтесь из—за меня. Сегодня, уходя из вашего дома, я счастливее, чем был все эти долгие годы. Можно мне взять часы?
— Конечно, мейнхеер. Ведь этого желал ваш сын!
— Именно, — откликнулся доктор и, глядя на свое сокровище, как—то странно нахмурился — ведь его лицо не могло отказаться от своих дурных привычек за какой—нибудь час. — Именно!.. А теперь мне пора уходить. Моему пациенту лекарства не нужны; только — покой и бодрость духа, а этого здесь много! Храни вас небо, друзья мои! Я вам навеки благодарен.
— Да хранит небо и вас, мейнхеер, и пусть вам удастся поскорей отыскать вашего милого сына! — серьезным тоном проговорила тетушка Бринкер, поспешно вытирая глаза уголком передника.
Рафф от всего сердца промолвил: «Да будет так!» — а Гретель бросила такой грустный и выразительный взгляд на доктора, что тот, уходя из дома, погладил ее по голове.
Ханс вышел тоже.
— Если вам понадобятся мои услуги, мейнхеер, я готов служить вам.
— Очень хорошо, мой мальчик, — сказал доктор Букман с необычной для него кротостью. — Скажи родным, чтобы они никому не говорили о том, что мы узнали. А пока, Ханс, всякий раз, как ты будешь с отцом, следи за ним. Ты толковый малый. Он в любую минуту способен внезапно сказать нам больше, чем говорил до сих пор.
— Положитесь на меня, мейнхеер.
— До свиданья, мальчик мой! — крикнул доктор, вскакивая в свою парадную карету.
«Ага! — подумал Ханс, когда карета отъехала. — Меестер, оказывается, гораздо живее, чем я думал».
Глава XLIV. Состязания
И вот наступило двадцатое декабря и принесло с собой чудеснейшую зимнюю погоду. Теплый солнечный свет заливал всю равнину. Солнце даже пыталось растопить озера, каналы и реки, но лед вызывающе блестел, и не думая таять. Даже флюгера остановились, чтобы хорошенько насладиться красотой солнечного зимнего дня. А значит, и ветряные мельницы получили день отдыха. Чуть не всю прошлую неделю их крылья бойко вертелись; теперь, слегка запыхавшись, они лениво покачивались в чистом, тихом воздухе. Попробуйте увидеть ветряную мельницу за работой, когда флюгерам нечего делать!
В тот день людям не пришлось ни молоть, ни дробить, ни пилить. Это вышло удачно для мельников, живущих в окрестностях Брука. Задолго до полудня они решили убрать свои «паруса» и отправиться на состязания. Там должна была собраться вся округа. Северный берег замерзшего Ая был уже окаймлен нетерпеливыми зрителями. Вести о больших конькобежных состязаниях дошли до самых отдаленных мест.
Мужчины, женщины, дети в праздничных нарядах толпами стекались сюда. Некоторые кутались в меха и зимние плащи или шали, но многие, сообразуясь со своими ощущениями больше, чем с календарем, были одеты, как в октябре.
Для состязаний выбрали безукоризненно гладкую ледяную равнину близ Амстердама, на том огромном рукаве Зейдер—Зее, который носит название Ай. Пришло очень много горожан. Приезжие тоже решили, что им посчастливилось увидеть кое—что интересное. Многие крестьяне из северных округов предусмотрительно наметили двадцатое число для очередной продажи своих товаров в городе. Казалось, на состязания поспешили прийти и стар и млад — вообще все те, кто имел в своем распоряжении колеса, коньки или ноги.
Тут были знатные господа в каретах, разодетые, как парижане, только что покинувшие родные бульвары; были воспитанники амстердамских благотворительных учреждений в форме; девочки из римско—католического сиротского приюта в траурных платьях и белых косынках; мальчики из Бюргерского убежища в узких черных брюках и коротких куртках, клетчатых, как костюм арлекина.
Были тут и старосветские щеголи в треуголках и бархатных штанах до колен; и старосветские дамы в тугих стеганых юбках и корсажах из блестящей парчи. Их сопровождали слуги с плащами и ножными грелками в руках.
Были тут и крестьяне, одетые в самые разнообразные голландские национальные костюмы: застенчивые молодые парни в одежде, украшенной медными пряжками; скромные деревенские девушки, прячущие льняные волосы под золототкаными повязками; женщины в длинных узких перединках, жестких от сплошь покрывающей их вышивки; женщины с короткими завитками штопором, свисающими на лоб; женщины с бритыми головами, в плотно прилегающих чепчиках; женщины в полосатых юбках и шляпах, похожих на ветряные мельницы.
Мужчины в кожаных, домотканых, бархатных и суконных куртках и штанах; горожане в модных европейских костюмах и горожане в коротких куртках, широких шароварах и шляпах, похожих на колокольни.
Были тут и красивые фрисландские девушки в деревянных башмаках и юбках из грубой ткани. На голове они носили тяжелые золотые полумесяцы с золотыми розетками на висках, отороченные столетними кружевами. Некоторые носили ожерелья, подвески и серьги из чистейшего золота, по большинство удовлетворялось вызолоченными или даже медными украшениями, хотя вообще фрисландские женщины нередко носят на голове все свои семейные сокровища. В тот день не одна деревенская красавица щеголяла в головном уборе, стоившем две тысячи гульденов.
Рассеянные в толпе, встречались крестьяне с острова Маркен, в деревянных башмаках, черных чулках и широчайших шароварах, а также маркенские женщины в коротких синих юбках и черных кофточках, ярко расшитых на груди. Они носили красные нарукавники, белые передники, а на золотистых волосах — чепцы, похожие на епископскую митру.
У детей нередко был не менее своеобразный и диковинный вид, чем у взрослых. Короче говоря, треть всей этой толпы, казалось, сошла с полотен целой коллекции картин голландской школы.
Повсюду виднелись рослые женщины и коренастые мужчины, девушки с подвижными личиками и юноши, чье выражение лица ие менялось от восхода до заката.
Казалось, здесь собрались представители всех голландских городов — хотя бы по одному от каждого города. Пришли утрехтские водоносы, сыровары из Гауды, дельфтские гончары, винокуры из Схидама, амстердамские гранильщики алмазов, роттердамские купцы, сухощавые упаковщики сельдей и даже два заспанных пастуха из Текселя. У каждого мужчины было по трубке и кисету. Некоторые носили с собой набор курительных принадлежностей: трубку, табак, шило, которым прочищают чубук, серебряную сетку, покрывающую головку трубки, и коробок превосходных серных спичек.
Чистокровный голландец, где бы он ни был, редко показывается без трубки. Он скорее забудет на миг о том, что нужно дышать; но уж если он позабыл о своей трубке, значит, он действительно умирает. Впрочем, здесь не произошло ни одного несчастного случая такого рода. Клубы дыма поднимались решительно отовсюду. И чем причудливей вился дым, тем более бесстрастный и торжественный вид был у курильщика.
Полюбуйтесь вон темп мальчиками и девочками на ходулях! Им пришла в голову блестящая мысль. Они могут рассмотреть все, что хотят, поверх голов самых высоких зрителей. Странно видеть высоко в воздухе их маленькие детские тела на невидимых ногах. Личики у них еще по—детски круглые, но вид очень решительный. Не мудрено, что нервные пожилые господа с мозолями на ногах вздрагивают и трепещут, когда эти длинноногие маленькие чудовища шагают мимо них.
Вы прочтете в некоторых книгах, что голландцы тихие люди. Обычно так оно и есть, но прислушайтесь — слышали вы когда—нибудь такой гомон? В нем слилось множество людских голосов… Да и лошади тоже вторят людям своим ржанием, а скрипки жалобно пищат. (Как скрипкам, должно быть, больно, когда их настраивают!) Но главная масса звуков исходит от того огромного vox humana, которым наделена человеческая толпа.
Немало шума производит и вон тот забавный крошечный карлик, что шныряет в толпе с тяжелой корзиной. Среди всех других звуков выделяется его пронзительный крик:
— Пейпен эн табак! Пейпен эн табак! (Трубки и табак!)
Другой мальчик, его брат, который гораздо выше его ростом, но с виду на несколько лет моложе, продает пышки и конфеты. Он созывает всех милых деток, где б они ни были, далеко или близко, и просит поспешить, пока сласти не раскуплены.
Вы знакомы с очень многими зрителями. Вон в том высоком павильоне, построенном на берегу у самого льда, сидят несколько человек, которых вы видели совсем недавно. В центре — госпожа ван Глек. Вы помните, сегодня день ее рождения, и она занимает почетное место. Тут же сидит мейнхеер ван Глек, чья пенковая трубка вовсе не приросла к его губам — это только так кажется. Тут и дедушка и бабушка, которых вы видели на празднике святого Николааса. С ними все дети. Сегодня так тепло, что взяли с собой и младшего. Бедный малыш закутан на манер египетской мумии, но он все же кряхтит от восторга; а когда играет музыка, он в такт ей сжимает и разжимает кулачки в варежках. Дедушка в очках и меховой шапке, с трубкой во рту и с внучком на коленях чудо как хорош!
Сидя под навесом, на высоких подмостках, эта компания хорошо видит все окружающее. Не мудрено, что дамы благосклонно поглядывают на лед, гладкий, как стекло: с грелкой под ногами вместо скамеечки можно уютно посиживать хоть на Северном полюсе.
С ними сидит и некий господин, отдаленно напоминающий святого Николааса, каким тот предстал перед юными ван Глеками пятого декабря. Но тогда у святого была развевающаяся белая борода, а у этого человека лицо гладкое, как яблоко. И еще: его святейшество был потолще и (между нами говоря) держал во рту два наперстка, а у сидящего здесь господина никаких наперстков во рту нет. Очевидно, он все—таки не святой Николаас.
Поблизости, в соседнем павильоне, расположились ван Хольпы с ван Гендами — их зятем и дочерью, приехавшими из Гааги. Сестра Питера не забывает своих обещаний. Она привезла с собой букеты чудесных оранжерейных цветов, чтобы преподнести их победителям.
Эти павильоны — а тут имеются и другие — строились сегодня с самого рассвета. Тот полукруглый павильон, в котором разместилась семья мейнхеера Корбеса, очень красив и доказывает, что голландцы великие мастера воздвигать шатры. Но мне больше нравится павильон ван Глеков — центральный, с красными и белыми полосами, увешанный вечнозелеными растениями.
В павильоне с голубыми флагами помещаются музыканты. Вот те строения, вроде пагоды, украшенные морскими раковинами и вымпелами всевозможных цветов, — это трибуны для судей. А те колонны и флагштоки на льду отмечают границы беговой дорожки. Две белые колонны обвиты зеленью. Наверху между ними протянут длинный развевающийся кусок ткани; здесь будет дан старт. Водруженные в полумиле от них флагштоки стоят на концах пограничной черты. Она вырезана во льду достаточно глубоко, чтобы ее заметили конькобежцы, но не настолько, чтобы они могли споткнуться о нее, поворачивая назад, к старту.
Воздух необыкновенно прозрачен, и с трудом веришь, что колонны стоят так далеко от флагштоков. Естественно, что между судейскими трибунами расстояние немного меньше.
Впрочем, полмили по льду, да еще в такую ясную погоду, — это, в сущности, довольно короткая дистанция, особенно если она ограждена живой цепью зрителей.
Заиграла музыка. Мелодия как будто сама ликует на вольном воздухе! Скрипки совсем позабыли о своих страданиях, и звуки их льются гармонично. Пока не смотришь на голубой шатер, чудится, будто музыка исходит от солнца — так она свободна, так радостна. И, только разглядев чинные лица музыкантов, познаешь истину.
А где же участники состязаний? Они все собрались у белых колонн. Красивое зрелище! Сорок мальчиков и девочек в живописных нарядах носятся с быстротой электрического тока взад и вперед или катятся по двое и по трое, окликая друг друга, болтая, перешептываясь от полноты молодого восторга.
Несколько заботливых ребят степенно затягивают ремешки на своих коньках. Другие внезапно останавливаются, красные и взволнованные: стоя на одной ноге, они поднимают другую и, приложив к колену ненадежный конек, испытующе дергают его, потом снова мчатся прочь. Все и каждый одержимы демоном движения. Дети не в силах стоять смирно. Коньки теперь — как бы часть самого их существа, и каждое лезвие словно заколдовано.
Что ни говори, а Голландия создана для конькобежцев. Где еще мальчики и девочки умеют совершать на льду такие чудеса, что, будь это в Центральном парке Нью—Йорка, собралась бы толпа зрителей?
Посмотрите на Бена! Мне только сейчас удалось встретить его. Он прямо—таки изумляет местных уроженцев, а в Нидерландах это нелегко. Береги свои силы, Бен, скоро они тебе понадобятся!
Вот и другие мальчики пробуют силы! Бена уже превзошли. Как они прыгают, как сохраняют равновесие, как вертятся, какие проделывают фокусы! Ну точно все они резиновые!
Мальчик в красной шапке сейчас затмил всех: спина у него как часовая пружина, тело словно из пробки… нет, из железа, иначе оно сломилось бы от таких резких движений! Он — птица, волчок, кролик, штопор, эльф, мяч из плоти и крови, и все это одновременно. Вам показалось, он выпрямился, а он уже пригнулся. Вы думаете, он пригнулся, а он успел выпрямиться. Он роняет на лед перчатку и, перекувырнувшись, поднимает ее. Не останавливаясь, он срывает шапку с головы удивленного Якоба Поота и нахлобучивает ее снова задом наперед. Зрители кричат «ура» и смеются. Легкомысленный мальчуган! Под ногами у тебя холодно, как в Арктике, а над головой жарче, чем в умеренном поясе. Крупные капли пота уже катятся по твоему лбу. Пусть ты превосходный конькобежец — на состязаниях ты можешь проиграть.
Француз—путешественник, стоя с записной книжкой в руках, видит, как наш приятель, англичанин Бен, покупает пышку у брата карлика и тут же съедает ее. Француз записывает в своей книжке, что голландцы глотают огромными кусками и все без исключения любят картошку, сваренную в черной патоке.
У белых колонн видно несколько знакомых нам лиц. Ламберт, Людвиг, Питер и Карл — все здесь, не разгоряченные, в хорошей спортивной форме.
Ханс неподалеку от них. Он, видимо, собирается участвовать в состязаниях, так как на ногах у него коньки — те самые, которые он продал за семь гульденов! Оказывается, он скоро заподозрил, что его «крестная—фея» и таинственный «друг», купивший коньки, — одно и то же лицо. Убедившись в этом, он смело обвинил ее в обмане, а она, зная, что все ее маленькие сбережения истрачены на эту покупку, не решилась отрицать. По милости той же самой «доброй фен» Ханс получил возможность выкупить свои коньяки.
Итак, Ханс будет участвовать в состязаниях. Карл больше прежнего возмущен этим, но в состязаниях решили участвовать три других крестьянских мальчика, так что Ханс не одинок.
Двадцать мальчиков и двадцать девочек.
Девочки сейчас стоят впереди, приготовившись к старту, так как они побегут первыми. Среди них Хильда, Рихи и Катринка. Две — три участницы торопливо нагибаются, чтобы в последний раз подтянуть ремешки на коньках. Весело смотреть, как они топают ногами, проверяя, крепко ли привязаны коньки.
Хильда ласково разговаривает с грациозной маленькой девочкой в красной кофте и новой коричневой юбке. Да ведь это Гретель! В красивых башмаках и юбке, в новом чепчике она еще милее прежнего.
И Анни Боуман здесь. К состязаниям допустили даже сестру Янзоона Кольпа, но самого Янзоона распорядители отвели за то, что он убил аиста и не дальше как прошлым летом был уличен в краже яиц из птичьего гнезда: в Голландии это уголовное преступление.
Этот Янзоон Кольп, видите ли, был… Но нет, я сейчас не могу рассказывать о нем. Состязания вот—вот начнутся…
Двадцать девочек выстроились в ряд. Музыка умолкла. Человек, которого мы будем называть глашатаем, стоит между колоннами и ближней судейской трибуной. Громким голосом он читает правила состязаний:
— «Девочки и мальчики состязаются поочередно, пока одна девочка и один мальчик не победят дважды. Построившись шеренгой, они стартуют от колонн, бегут до линии, отмеченной флагштоками, поворачивают и возвращаются к месту старта, покрывая по одной миле за каждый пробег».
За судейским столом машут флагом. В павильоне госпожа ван Глек встает. Она наклоняется вперед; в руках у нее белый платок. Когда она уронит его, горнист даст сигнал к старту.
Платок летит вниз. Трубит горн.
Пошли!
Нет, вернулись. Шеренга не была ровной, когда девочки пробегали мимо судейской трибуны. Сигнал повторяют.
Снова помчались. На этот раз все ладно. Ой, как быстро они бегут!
Толпа на минуту затихла и смотрит взволнованно, не дыша.
Из рядов зрителей раздаются приветственные крики. Ура! Пять девочек впереди. Которая из них уже добежала до пограничной черты и бежит обратно, трудно сказать… Что—то красное — вот и все, что можно различить. Голубое пятно мелькает неподалеку, а желтое еще ближе. Зрители у старта напрягают зрение и жалеют, что не заняли места поближе к флагштокам.
Волна приветственных кликов нарастает. Теперь видно хорошо: впереди Катринка!
Она уже миновала павильон ван Хольпов. В следующем павильоне госпожа ван Глек. Она наклонилась вперед и притягивает девочек, как магнит. Хильда обгоняет Катринку и, пробегая мимо павильона, машет рукой своей матери. Две другие девочки нагоняют ее с быстротой стрелы.
Но что это сейчас промелькнуло… что—то красное и коричневое? Ура, это Гретель! Она тоже машет рукой, но не в сторону красивых павильонов. Ее приветствует вся толпа, а девочка слышит только голос отца:
— Молодец, крошка Гретель!
Вскоре Катринка, весело смеясь, обгоняет Хильду. Теперь приближается девочка в желтом. Она обгоняет всех, кроме Гретель.
Судьи подаются вперед, но не отрывают глаз от часов. Приветственные крики один за другим звенят в воздухе. Колонны и те как будто качнулись. Гретель пронеслась мимо них. Она победила.
— Г—р–е—т–е—л–ь Б—р–и—н–к—е–р — о—д–н—а м—и–л—я! — кричит глашатай.
Судьи кивают. Они записывают что—то на табличках, которые держат в руках.
Пока девочки отдыхают — причем некоторые взволнованно теснятся вокруг нашей испуганной своим успехом маленькой Гретель, а другие с величайшим пренебрежением отходят в сторону, — мальчики выстраиваются в ряд.
На этот раз платок роняет мейнхеер ван Глек. Раздаются громкие трубные звуки.
Мальчики помчались.
Они уже на полпути! Видели вы когда—нибудь такое зрелище?
Триста ног промелькнули в одно мгновение. Но ведь бегут только двадцать мальчиков! Все равно ног было несколько сотен… по крайней мере, так казалось.
А где теперь бегуны? Шум стоит такой, что мутится в голове. Над чем смеется народ? А, вот над тем толстым мальчиком, что отстал от всех. Смотрите, как он бежит! Смотрите! Он сейчас шлепнется… Нет, не шлепнулся. Интересно, заметил ли он, что остался в одиночестве? Ведь другие мальчики вот—вот достигнут пограничной черты… Да, заметил. Он останавливается. Вытирает разгоряченное лицо, снимает шапку и оглядывается кругом. Лучше добровольно выйти из состязаний. Он так искренне и удивленно хохочет, что сразу приобретает себе сотню друзей. Добродушный Якоб Поот!
Славный малый теперь уже в толпе зрителей и смотрит на бегущих с таким же интересом, как и все прочие.
Облако ледяной пыли летит из—под лезвий, когда конькобежцы добегают до черты и поворачивают назад.
Приближается что—то черное; это один из мальчиков—вот все, что мы знаем. Он тронул регистр vox humana, и толпа издает мощный рев.
Конькобежцы приближаются — мы уже видим красную шапку. Вот Бен… вот Питер… вот Ханс!
Ханс впереди! (Молодая госпожа ван Генд чуть не смяла цветы, которые держит в руках; а она—то не сомневалась, что Питер будет первым!)
За Хансом Карл Схуммель, потом Бен и мальчик в красной шапке. Остальные бегут за ними по пятам.
От них стремительно отделяется чья—то высокая фигура. Обгоняет красную шапку, обгоняет Бена, потом Карла. Поравнявшись с Хансом, бежит рядом с ним!
(Госпожа ван Генд затаила дыхание.)
Это Питер! Он впереди!.. Ханс быстро обгоняет его. Глаза Хильды полны слез. Питер должен победить. Глаза Анни гордо блестят. Гретель смотрит, стиснув руки… Еще четыре шага, и ее брат будет у колонны.
Он здесь! Да, но Схуммель прибежал на секунду раньше.
В последнее мгновение Карл, собрав все свои силы, пролетел между колоннами и достиг финиша.
— К—а–р—л С—х–у—м–м—е–л—ь — о—д–н—а м—и–л—я! — кричит глашатай!
Вскоре госпожа ван Глек поднимается снова. Падая, платок пробуждает горн, а горн, чей звук сейчас все равно что тетива, пускает в пространство двадцать девочек—стрел.
Красивое это зрелище, но долго смотреть не удается: не успели мы как следует их разглядеть, как они уже далеко. На этот раз они бегут почти рядом; когда, повернув у флагштоков, они мчатся назад, трудно сказать, кто первый достигнет колонн.
Впереди новые личики… взволнованные, пылающие, не намеченные нами раньше. Среди них Катринка и Хильда, а Гретель и Рихи позади. Гретель отстала, но, когда Рихи обгоняет ее, она рывком бросается вперед. Они уже почти нагнали Катринку…
Хильда все еще впереди, она вот—вот достигнет финиша… Она ни разу не замедлила бега с тех пор, как звук горна погнал ее вперед; как стрела, мчится она к цели. Один за другим раздаются крики восторга. Питер молчит, но его глаза сияют, как звезды. «Ура! Ура!»
Снова звучит голос глашатая:
— Х—и–л—ь–д—а в—а–н Г—л–е—к — о—д–н—а м—и–л—я!
Громкий ропот одобрения пробегает по толпе, увлекая за собой музыку, и все звуки сливаются в единый радостный гул.
Но, как только взвивается флаг, гул умолкает.
Вновь раздается резкий звук горна. Он гонит мальчиков вдаль, как ветер листву — темную листву, надо признать, и очень крупную.
Она летит к флагштокам, и ее подгоняют крики «ура» — это кричат зрители. Мы начинаем различать тех, кто к нам приближается. Теперь впереди трое мальчиков, и все они бегут голова в голову. Это Ханс, Питер и Ламберт.
Карл вскоре разрывает ряд и стремительно выносится вперед. Лети, Ханс! Лети, Питер! Не позволяйте Карлу победить еще раз! Язвительный Карл, наглый Карл… Ван Моунен ослабевает, но вы сильны как никогда. Ханс и Питер, Питер и Ханс… Кто впереди? Мы любим их обоих. Нам почти все равно, кто из них резвее.
Хильда, Анни и Гретель, расположившись на длинной красной скамье, не могут больше сидеть смирно. Они вскакивают на ноги… Все три разные, они сильно волнуются. Хильда тотчас же садится на место. Никто не узнает, как она заинтересована, никто не узнает, как она встревожена, как переполнена одной надеждой! Так закрой же глаза, Хильда… спрячь лицо, сияющее от радости! Питер победил.
— П—и–т—е–р в—а–н Х—о–л—ь–п — о—д–н—а м—и–л—я! — кричит глашатай.
Судьи делают отметки. Снова гул возбуждения, все те же звуки музыки в общем шуме… Но что—то случилось? Небольшая толпа теснится, обступив кого—то близ одной из колонн. Карл упал. Он не ушибся, он только слегка оглушен. Будь он не таким угрюмым, он встретил бы больше сочувствия в этих горячих юных сердцах. Теперь же его забывают, как только он снова встает на ноги.
Девочки готовятся бежать в третий раз!
С каким решительным видом они выстраиваются в шеренгу! У некоторых торжественное выражение лица, вызванное чувством ответственности; другие улыбаются полузастенчиво—полузадорно, и все до одной горят желанием победить.
Третья миля может решить исход состязаний. Но, если на этот раз ни Гретель, ни Хильда не победят, у всех прочих будут шансы получить серебряные коньки.
На этот раз каждая девочка уверена, что покроет дистанцию вдвое скорей прежнего. Как они топают ногами, испытывая лезвия, как нервно осматривают каждый ремешок… как выпрямляются под конец, устремив глаза на госпожу ван Глек!
Звучит горн, и девочек снова бросает в дрожь. Трепеща от волнения, они устремляются вперед, нагнувшись, но превосходно сохраняя равновесие. Каждый их стремительный шаг длиннее предыдущего.
Вот они уже скользят вдалеке.
Снова напрягаются все глаза, снова приветственные крики «ура», снова трепет возбуждения, когда через несколько мгновений четыре или пять девочек мчатся впереди других обратно, все ближе, ближе ок белым колоннам…
Кто впереди? Не Рихи, не Катринка и не Апни, но и не Хильда и не девочка в желтом… а Гретель… Гретель… легконогий эльф, резвейшая из девочек, которые когда—либо катались на коньках. В начале состязаний она только играла, теперь она бежит всерьез: вернее, она в душе твердо решила победить. Гибкая, маленькая, она как будто не делает никаких усилий; но она не может остановиться… пока не достигнет цели!
Тщетно глашатай возвышает голос — его не слышно. Да он и не может сообщить ничего нового — толпа уже гудит:
— Гретель завоевала серебряные коньки!
Как птичка, она летела по льду; как птичка, она теперь оглядывается вокруг, робко, растерянно. Ей страстно хочется удрать в тот укромный уголок, где стоят ее родители. Но рядом с нею Ханс… вокруг нее толпятся девочки. Добрый, радостный голос Хильды звучит у нее над ухом. С этого часа никто уже не будет презирать ее. Гусятница она или нет, теперь Гретель признанная конькобежная королева!
С понятной гордостью Ханс оглядывается: он хочет знать, видит ли Питер ван Хольп торжество его сестры. Но Питер и не смотрит в их сторону. Он стоит на одном колене, низко наклонив расстроенное лицо, и торопливо возится с ремешком своего конька.
Ханс мгновенно подбежал к нему:
— У вас что—то не ладится?
— А! Ханс! Это вы? Да, для меня потеха кончена. Я хотел потуже подвязать ремешок… провернуть в нем новую дырку… да и перерезал его этим проклятым ножом чуть не пополам.
— Мейнхеер, — сказал Ханс, стаскивая с ноги конек, — возьмите мой ремешок!
— Ни за что, Ханс Бринкер! — воскликнул Питер, подняв глаза. — И все же большое вам спасибо! Идите на место, друг мой, горн затрубит сию минуту.
— Слушайте, — умоляюще проговорил Ханс хриплым шепотом, — вы назвали меня своим другом… Берите ремешок… живее! Нельзя терять ни секунды. На этот раз я не побегу… ведь я почти совсем не тренировался. Вы должны взять ремешок! — И Ханс, слепой и глухой ко всем возражениям, продел свой ремень в конек Питера и снова стал умолять товарища надеть конек.
— Иди, Питер! — крикнул Ламберт из шеренги. — Мы ждем!
— Ради вашей матушки, — умолял Ханс, — поторопитесь! Глядите, она знаком просит вас стать в шеренгу… Ну вот, конек почти надет. Скорей завяжите его! Я все равно не смог бы победить. Ни в коем случае! Соревнование будет между Схуммелем и вами.
— Вы славный малый, Ханс! — воскликнул Питер, уступая.
Он бросился на свое место в ту секунду, когда белый платок упал. Горн затрубил громко, ясно и звонко.
Мальчики помчались.
— Глядите на них! — кричит какой—то крепкий старик из Дельфта. — Они превзошли всех на свете, эти амстердамские юнцы! Глядите!
И правда, посмотрите на них! Все они крылатые Меркурии — все до единого. Куда же они понеслись, как безумные? А, понимаю, они гонятся за Питером ван Хольпом. Он — какой—то быстроногий беглец с Олимпа. Меркурий и его отряд крылатых родичей летят во весь дух. Они поймают Питера!
Ага! Теперь вылетел вперед Карл… Погоня все бешенее… Бен впереди!
Погоня повернула назад в облаке ледяной пыли. Она мчится обратно. За кем гонятся теперь? За самим Меркурием. Это Питер, Питер ван Хольп. Лети, Питер… на тебя смотрит Ханс. Он шлет всю свою резвость, всю свою силу твоим ногам. Твоя мать и сестра побледнели от волнения. Хильда трепещет, не смея поднять глаза. Лети, Питер! Толпа не сошла с ума, просто она приветствует тебя. Преследователи гонятся за тобой по пятам! Коснись белой колонны! Она кивает… она шатается перед тобой… она… Ура! Ура! Питер завоевал серебряные коньки!
— Питер ван Хольп! — крикнул глашатай.
Но кто услышал его?
— Питер ван Хольп! — закричали сотни голосов: ведь Питер — любимец всей округи. — Ура! Ура!
Теперь оркестр решил заставить всех слушать музыку. Он заиграл веселую песню, потом бравурный марш. Зрители, предполагая, что должно произойти еще что—то новое, соблаговолили слушать и смотреть.
Участники состязаний выстроились гуськом. Питер, как самый высокий, стал впереди, Гретель, самая маленькая, — позади всех. Ханс выпросил ремешок у продавца пышек и стал одним из первых.
Три красиво перевитые гирляндами арки стояли неподалеку друг от друга на реке против павильона ван Глеков.
Мальчики и девочки во главе с Питером медленно покатились вперед в такт музыке. Радостно было смотреть, как скользит эта пестрая процессия, словно слившись в единое живое существо. Она то загибалась и делала петли, то грациозно извивалась между арками, и, куда бы ни направился Питер — ее голова — тело неукоснительно следовало за ним. Не раз она устремлялась прямо к центральной арке, но вдруг, словно в каком—то новом порыве, повертывала назад и обвивалась вокруг первой арки. Затем медленно раскручивалась; низко пригнувшись, пересекала реку и, быстро извиваясь, как змея, наконец пробегала под самой дальней аркой.
Пока музыка играла в медленном темпе, процессия, казалось, ползла, как существо, скованное страхом. Но вот музыка заиграла быстрее, и вся процессия одним прыжком ринулась вперед, быстро проскользнула между арками, извиваясь, закручиваясь, разворачиваясь, но ни разу не нарушив строя, и, наконец, повинуясь громкому зову горна, покрывшему музыку оркестра, внезапно рассыпалась: мальчики и девочки выстроились двойным полукругом перед павильоном госпожи ван Глек.
Питер и Гретель стоят в центре, впереди всех. Госпожа ван Глек величественно поднимается. Гретель, вся дрожа, заставляет себя смотреть на эту красивую даму. Вокруг такой шум, что она не слышит обращенных к ней слов. У нее мелькает мысль, что ей надо постараться сделать реверанс, как делает мама, когда приходит меестер Букман. Но вдруг ей кладут на руки что—то блестящее… блестящее столь ослепительно, что у нее вырывается крик радости.
Тогда она решается оглянуться вокруг. И у Питера что—то в руках.
— О! О! Какая прелесть! — кричит она.
И все, кому видно, вторят:
— О, какая прелесть!
А серебряные коньки сверкают на солнце, отбрасывая отблеск света на два счастливых лица.
Мевроу ван Генд прислала с мальчиком—посыльным свои букеты. Один для Хильды, один для Карла, остальные для Питера и Гретель.
При виде цветов королева конькобежцев не может больше сдерживаться. Сверкая благодарными глазами, она подхватывает коньки и букет передником и, прижав их к груди, убегает искать родителей в расходящейся толпе.
Глава XLV. Радость в домике
Вы, пожалуй, удивитесь, когда я скажу, что Рафф и его вроу пришли на конькобежные состязания; вы удивились бы еще больше, если бы заглянули к ним вечером в тот радостный день — двадцатого декабря. Глядя на домик Бринкеров. уныло торчащий посреди замерзшего болота, ветхий домик с выпирающими стенами, словно опухшими от ревматизма, и с крышей, как шапка, надвинутая на глаза, никто и не заподозрил бы, какое веселье там внутри.
От минувшего дня не осталось ни следа, кроме огненной полосы над самым горизонтом. Несколько неосторожных облаков уже загорелось, а другие, с пылающими краями, затерялись в наползающем тумане.
Заблудившийся луч солнца, соскользнув с ивового пня, украдкой старался проникнуть в домик. Казалось, он чувствовал, что, сумей он добраться до здешних обитателей, они будут рады ему. Комната, в которой он спрятался, была так чиста, что чище и быть невозможно. Даже трещины в балках на потолке и те были тщательно протерты. Вкусные запахи носились в воздухе.
Яркое пламя торфа в камине порождало вспышки безобидных молний на темных стенах. Оно играло то на огромной кожаной библии, то на кухонной утвари, развешанной на деревянных гвоздях, то на красивых серебряных коньках и цветах на столе. В этом изменчивом свете ясное, открытое лицо тетушки Бринкер сияло. Гретель и Ханс, взявшись за руки, стояли, прислонившись к камину, и весело смеялись, а Рафф Бринкер плясал!
Этим я не хочу сказать, что он делал пируэты или дрыгал ногами, что для отца семейства было бы недопустимой вольностью; нет, я просто утверждаю, что, пока дети весело болтали, Рафф неожиданно сорвался с места, щелкнул пальцами и сделал несколько движений, очень похожих на заключительные на шотландской пляски. Потом он обнял свою вроу и в пылу восторга даже поднял ее с земли.
— Ура! — крикнул он. — Вспомнил! Вспомнил! — Т—о–м—а–с Х—и–г—с. Это самое имя! Вдруг осенило. Запиши его, сынок, запиши!
Кто—то постучал в дверь.
— Это меестер! — ликующе вскричала тетушка Бринкер. — Боже правый, и что только делается!
Мать и дети бросились отворять дверь и, смеясь, столкнулись на пороге.
Но это все—таки был не доктор, а три мальчика: Питер ван Хольп, Ламберт и Бен.
— Добрый вечер, молодые люди, — проговорила тетушка Бринкер, такая счастливая и гордая, что ее не удивило бы посещение самого короля.
— Добрый вечер, юфроу, — откликнулись все трое, отвесив ей по глубокому поклону.
«О господи! — думала тетушка Бринкер, то опускаясь, то поднимаясь — ни дать ни взять масло в маслобойке. — Счастье, что я в Гейдельберге выучилась делать реверансы!»
Рафф ответил на поклон мальчиков только вежливым кивком.
— Садитесь, прошу вас, молодые люди! — сказала его жена, а Гретель застенчиво подвинула гостям табурет. — У нас, как видите, сидеть не на чем, но вон то кресло, у огня, к вашим услугам, и если вы не против сидеть на твердом, так наш дубовый сундук не хуже, чем любая скамья… Правильно, Ханс, подвинь его поближе!
Когда, к удовольствию тетушки Бринкер, мальчики уселись, Питер, говоривший от лица всех троих, объяснил, что они идут в Амстердам на лекцию и зашли по пути вернуть Хансу ремешок.
— О мейнхеер, — горячо проговорил Ханс, — к чему было так беспокоиться! Мне очень неловко.
— Напрасно, Ханс. Ведь мне самому хотелось зайти к вам, а не то я подождал бы до завтра, когда вы придете на работу. Кстати, Ханс, насчет вашей работы: отец очень доволен ею. Профессиональный резчик по дереву — и тот не мог бы работать лучше вас. Отец хочет украсить резным орнаментом и южную беседку, но я сказал ему, что теперь вы опять будете ходить в школу.
— Да, — вмешался Рафф Бринкер решительным тоном, — Ханс теперь же начнет ходить в школу… и Гретель тоже… это верно.
— Приятно слышать, — сказал Питер, повернувшись к отцу семейства. — Я очень рад, что вы совсем выздоровели.
— Да, молодой человек, я теперь здоров и могу работать так же упорно, как и раньше… благодарение богу!
В это время Ханс торопливо записывал что—то на полях истрепанного календаря, висящего у камина.
— Так, так, малец, записывай. Фигс! Вигс! Ах ты, грех какой, — проговорил Рафф в полном отчаянии, — опять улетучилось!
— Не бойся, папа, — сказал Ханс: — имя и фамилия уже записаны черным по белому. Вот смотри! Может быть, вспомнишь и все остальное. Знать бы нам адрес — то—то было бы хорошо! — И, обернувшись к Питеру, он проговорил вполголоса: — У меня есть важное дело в городе и если…
— Что?! — воскликнула тетушка Бринкер, всплеснув руками. — Неужто ты нынче вечером собираешься в Амстердам? Сам же признавался, что ног под собой не чувствуешь. Нет—нет… пойдешь на рассвете, и ладно.
— На рассвете! — повторил Рафф. — Как бы не так! Нет, Мейтье, он должен отправиться сейчас же.
Тетушка Бринкер как будто подумала, что выздоровление Раффа становится довольно—таки сомнительным благом: ее слово уже не единственный закон в этом доме. К счастью, пословица «Смирная жена — мужу госпожа» пустила в ее душе глубокие корни, и, пока тетушка Бринкер раздумывала, успела расцвести пышным цветом.
— Хорошо, Рафф, — сказала она улыбаясь. — Мальчик не только мой, но и твой сын… Ну и беспокойное у меня семейство, молодые люди!
Питер вынул из кармана длинный ремешок.
Отдавая его Хансу, он сказал вполголоса:
— Я не буду благодарить вас, Ханс Бринкер, за то, что вы одолжили мне это. Такие люди, как вы, не требуют выражений благодарности… Но, должен признать, вы оказали мне огромную услугу, и я рад подтвердить это. Только в самом разгаре состязаний, — добавил он со смехом, — я понял, как страстно мне хотелось победить.
Ханс рассмеялся тоже, радуясь, что это поможет ему скрыть свое смущение, а его лицу немного остыть. Юношам честным и великодушным, как Ханс, свойственна досадная привычка краснеть ни с того ни с сего.
— Это пустяки, — сказала тетушка Бринкер, приходя на помощь сыну. — Малый всей душой хотел, чтобы вы победили на состязаниях. Я знаю, что хотел!
Вот так помогла!
— Да ведь я в самом начале почувствовал, что с ногами у меня неладно, — поспешил сказать Ханс. — Лучше было выйти из состязаний, раз не осталось надежды на победу.
Питеру, видимо, стало не по себе.
— Тут мы, пожалуй, расходимся во мнениях. Кое—что во всем этом меня смущает. Впрочем, теперь дела не поправишь — поздно. Но вы, право же, сделали бы мне одолжение, если бы…
Конец своей речи Питер произнес так тихо, что я не могу передать его. Достаточно будет сказать, что Ханс. ошарашенный, отпрянул назад, а Питер с очень пристыженным видом пробормотал, что оставит «их у себя», раз уж он победил на состязаниях, но что «это несправедливо».
Ван Моунен кашлянул, напоминая Питеру о том, что лекция скоро начнется. В эту минуту Бен поставил что—то на стол.
— А, — воскликнул Питер, — я и забыл, что у меня к вам еще одно дело! Сегодня ваша сестра убежала так быстро, что госпожа ван Глек не успела отдать ей футляр для коньков.
— Ай—яй—яй! — проговорила тетушка Бринкер, глядя на Гретель и укоризненно покачивая головой. — Так я и знала: она вела себя очень невежливо.
(Втайне она думала, что лишь очень немногие женщины могут похвалиться такой прелестной дочуркой.)
— Вовсе нет, — засмеялся Питер, — она сделала как раз то, что следовало: побежала домой со своими вполне заслуженными сокровищами… Да и кто поступил бы иначе на ее месте?.. Ну, не будем задерживать вас, Ханс, — продолжал он и повернулся к Хансу, но тот, в волнении следя за отцом, как будто забыл о гостях.
Между тем Рафф, погруженный в раздумье, твердил шепотом:
— Томас Хигс, Томас Хигс… Да, это самое имя и фамилия. Эх, если б мне вспомнить и название места!
Футляр для коньков был обтянут красным сафьяном и украшен серебром. И он был так красив, что, если бы фея дунула на его крошечный ключик или сам дед—мороз разрисовал его чудесными узорами, он и то не стал бы лучше. Сверкающими буквами на крышке было написано: «Самой резвой». Внутри футляр был выложен бархатом, а в одном углу на нем были вытиснены фамилия и адрес фабриканта.
Гретель поблагодарила Питера со свойственной ей простотой. Очень довольная и смущенная, не зная, что ей еще сделать, она взяла футляр и внимательно осмотрела его со всех сторон.
— Его сделал мейнхеер Бирмингам, — сказала она немного погодя, краснея и держа футляр перед глазами.
— Бирмингам! — подхватил Ламберт ван Моунен. — Да, это название одного города в Англии. Дай мне взглянуть… Ха—ха—ха! — засмеялся он, поворачивая открытый футляр к свету. — Не мудрено, что ты так подумала, но ты кое в чем ошиблась. Футляр был сделан в Бирмингаме, а фамилия фабриканта вытиснена маленькими буквами. Хм! Они такие мелкие, что я ничего не могу разобрать.
— Дай я попробую, — сказал Питер, заглядывая через его плечо. — Эх ты, да ведь они видны совершенно отчетливо! Видишь заглавные буквы: «Т» и «X»… Вот «Т»…
— Прекрасно! — воскликнул Ламберт торжествуя. — Если тебе так легко прочесть это, мы тебя послушаем. «Т» и «X», а дальше что?
— «Т… X… Т… X…» А! Томас Хигс—теперь все ясно, — ответил Питер, очень довольный, что сумел наконец разобрать это имя, но сразу же спохватился, что он и Ламберт ведут себя довольно бесцеремонно, и повернулся к Хансу.
И тут Питер побледнел. «Что с ними случилось, с этими людьми?» — подумал он. Рафф и Ханс вскочили с места и смотрели на Питера вне себя от радости и удивления. Гретель, казалось, сошла с ума. Тетушка Бринкер металась по комнате с незажженной свечой в руках и кричала:
— Ханс, Ханс! Где твоя шапка? Ох, меестер! Ох, меестер!
— Бирмингам! Хигс! — воскликнул Ханс. — Вы сказали—Хигс! Мы его нашли! Сейчас побегу!
— Видите ли, молодые люди… — тараторила тетушка Бринкер, еле переводя дух и хватая с кровати шапку Ханса, — видите ли, мы знаем его… он наш… нет, не наш… я хочу сказать… Ой, Ханс, беги в Амстердам сию же минуту!
— Спокойной ночи… — задыхаясь, пробормотал Ханс, сияя от неожиданной радости, — спокойной ночи… Извините меня, я должен бежать… Бирмингам… Хигс… Хигс… Бирмингам… — И, выхватив шапку у матери, а коньки у Гретель, он выбежал вон из домика.
Что еще могли подумать мальчики, как не то, что вся семья Бринкеров внезапно помешалась!
Они смущенно попрощались и собрались уходить. Но Рафф остановил их:
— Этот Томас Хигс, молодые люди, это… один… одно лицо…
— А! — воскликнул Питер, убежденный, что Рафф — самый сумасшедший из всех.
— Да… одно лицо… один… хм!.. один знакомый. Мы думали, он умер. Надеюсь, это тот самый человек. Это в Англии — так вы сказали?
— Да, тут написано Бирмингам, — ответил Питер. — Очевидно, это тот Бирмингам, что в Англии.
— Я знаю этого человека, — сказал Бен, обращаясь к Ламберту. — От его фабрики до нашего дома и четырех миль не будет. Странный человек… все молчит, как устрица, совсем не похож на англичанина. Я не раз видел его. Серьезный такой, с очень красивыми глазами. Как—то раз он ко дню рождения Дженни сделал по моему заказу превосходный футляр для письменных принадлежностей. Он вырабатывает бумажники, футляры для подзорных труб и всякого рода изделия из кожи.
Бен говорил по—английски, поэтому ван Моунен перевел его слова для сведения всех заинтересованных лиц, отметив про себя, что ни Рафф, ни его вроу, видимо, отнюдь не чувствовали себя несчастными, хотя Рафф весь дрожал, а глаза у тетушки Бринкер были полны слез.
Можете мне поверить, доктор от слова до слова выслушал всю историю, когда поздно вечером приехал вместе с Хансом.
— Молодые люди ушли уже давно, — сказала тетушка Бринкер, — но, если поторопиться, их нетрудно будет отыскать, когда они вернутся с лекции.
— Это верно, — промолвил Рафф, кивнув: — вроу всегда попадает в самую точку. Хорошо бы, мейнхеер, повидать молодого англичанина раньше, чем он позабудет о Томасе Хигсе. Это имя, видите ли, легко ускользает из памяти… Невозможно удержать его ни на минуту. Откуда ни возьмись, оно вдруг налетело на меня и ударило, как копер сваю, а мой парень записал его. Да, мейнхеер, я бы на вашем месте поспешил потолковать с англичанином: он много раз видел вашего сына. Подумать только!
Тетушка Бринкер подхватила его слова:
— Вы легко узнаете мальчика, мейнхеер, — он в одной компании с Питером ван Хольпом, а волосы у него вьются, как у иностранцев. И вы послушали бы, как он говорит: так—то громко да быстро, и все по—английски! Но для вашей чести это не помеха.
Доктор взял шляпу и собрался уходить. Лицо его сияло. Он пробормотал, что «это, конечно, в духе моего сорванца — принять дурацкое английское имя», потом назвал Ханса «сын мой», чем донельзя осчастливил юношу, и выбежал из дома с живостью, отнюдь не подобающей такому знаменитому доктору.
Недовольный кучер утешился, высказав по дороге домой, в Амстердам, все, что у него было на душе. Доктор сидел в углу кареты и не мог услышать ни слова, поэтому кучеру теперь выпал очень удобный случай обругать людей, которые ни капельки не считаются ни с кем и вечно требуют лошадей по десяти раз за ночь.
Глава XLVI. Таинственное исчезновение Томаса Хигса
Фабрика Хигса служила источником наслаждения для бирмингамских сплетниц. Здание ее было невелико, но достаточно обширно, чтобы вмещать тайну. Никто не знал, кто ее владелец и откуда он приехал. На вид он был джентльмен, это бесспорно (хотя все знали, что он вышел из подмастерьев), и он орудовал пером, как учитель чистописания.
Лет десять назад он, восемнадцатилетним юношей, внезапно появился в городе, добросовестно изучил свое ремесло и завоевал доверие хозяина. Вскоре после того, как он кончил учение, его приняли в компаньоны, и наконец, когда старик Уиллет умер, молодой человек взял дело в свои руки. Вот все, что о нем было известно.
Некоторые обыватели частенько отмечали, что он ни с одной душой не желает и словом перемолвиться. Но другие утверждали, что он, когда хочет, говорит прекрасно, хотя с произношением у него что—то не совсем ладно.
Все считали его человеком, любящим порядок: вот жаль только, что он завел себе около фабрики какой—то отвратительный пруд со стоячей зеленой водой. Такой мелкий, что в нем и угрю не скрыться, — настоящее малярийное гнездо.
Его национальность оставалась неразрешимой загадкой. Судя по его имени и фамилии, отец его был англичанин; но откуда же родом была его мать? Будь она американкой, у него непременно были бы широкие скулы и красноватая кожа. Будь она немкой, он знал бы немецкий язык; а ведь эсквайр Смит утверждал, что Хигс немецкого языка не знает. Будь она француженкой (что вполне возможно, раз он завел себе лягушачий пруд), это сказалось бы в его речи.
Нет, не иначе как он голландец. И вот что страннее всего: когда заговоришь о Голландии, он настораживает уши, но, когда начнешь расспрашивать его об этой стране, выходит, что он ровно ничего не знает о ней.
Так или иначе, но раз он никогда не получает писем от родственников своей матери из Голландии и раз ни один человек не видел старика Хигса, значит, его семья не из очень—то важных. Сам Томас Хигс, надо полагать, птица невысокого полета, хоть он и пытается задирать нос, и «уж кто—кто, а мы, — говорили сплетницы, — вовсе не собираемся забивать себе голову мыслями об этом человеке». Именно поэтому Томас Хигс и его дела служили неиссякаемой темой всех пересудов.
Итак, можно представить себе, в какое смятение пришли все обыватели, когда как—то раз «один человек, который был при этом и все знает в точности», сообщил, что мальчик—почтальон нынче утром передал Хигсу письмо — на вид из—за границы, а Хигс «побелел, как стена, побежал на свою фабрику, поговорил минутку с одним из старших рабочих и, ни с кем не простившись, исчез со своими пожитками в мгновение ока. Да, сударыня!»
Его квартирная хозяйка, миссис Скраббс, была глубоко огорчена. Славная женщина прямо задыхалась, когда рассказывала о том, что он съехал с квартиры вот так вдруг, не предупредив ее хотя бы за день, чего вправе ожидать всякая женщина, не допускающая, чтобы ее попирали ногами (хотя с нею этого, благодарение богу, никогда не случалось); «да именно, и, раз уж вы сами так говорите, не худо бы ему предупредить за неделю». А он не сказал даже: «Спасибо, миссис Скрабос, за все ваши прежние услуги», которые она оказывала ему постоянно, хоть и не ей бы об этом говорить, да она и не из тех, кто ежеминутно гонится за благодарностью… Возмутительно!.. Впрочем, надо признать, мистер Хигс уплатил ей все до последнего фартинга! И у нее даже слезы выступили на глаза, когда она увидела, что его дорогие сапоги валяются в углу комнаты не надетыми на колодки — ведь одно это показывает, как он был расстроен: у него они всегда стояли прямо, как солдаты, — хоть их и не стоило брать с собой, так как на них два раза набивали подметки.
Выслушав эту речь, мисс Скрампкинз, задушевная подруга миссис Скраббс, побежала домой раззвонить о событии. И так как со Скрампкинзами были знакомы все и каждый, блестящая паутина новостей быстро оплела улицу из конца в конец.
В тот вечер у миссис Снигем собралась следственная комиссия и устроила закрытое заседание вокруг стола, на котором стоял лучший фарфоровый сервиз хозяйки. Хотя комиссия была созвана только на скромную «чашку чая», она провела огромную следственную работу. Пирожки совершенно остыли, прежде чем комиссия проглотила хоть кусочек. Пришлось обсудить очень многое, и было чрезвычайно важно установить твердо, что каждый из членов комиссии всегда был «непоколебимо уверен в одном: с этим человеком еще случится нечто необычайное». А потому миссис Снигем удалось налить собравшимся по второй чашке чая не раньше, чем пробило восемь часов.
Глава XLVII. Яркое солнце
Как—то раз в январе, когда густо валил снег, Лоуренс Букман приехал с отцом навестить Бринкеров.
Рафф отдыхал после дневных трудов; Гретель набила и зажгла ему трубку, а теперь тщательно выметала золу из камина; тетушка Бринкер пряла; Ханс, сидя на табурете у окна, усердно учил уроки. Мирная, счастливая семья! За последнее время ее волновало только ожидание «Томаса Хигса».
После того как новых знакомых торжественно представили друг другу, тетушка Бринкер уговорила гостей выпить горячего чаю. «В такую вьюгу недолго и замерзнуть», — уверяла она.
Пока гости беседовали с ее мужем, она шептала Гретель, что глаза молодого человека похожи на глаза Ханса, как два боба на два других, не говоря уж о том, что оба парня частенько смотрят куда—то в пространство бессмысленным взглядом, хотя знают не меньше, чем любой дед.
Гретель была разочарована. Она ожидала трагической сцены, вроде тех, какие Анни Боуман рассказывала ей, прочитав какую—нибудь книжку. А тут человек, который чуть было не сделался убийцей, который десять лет пропадал и был уверен, что родной отец отрекся от него с презрением, — тот самый молодой человек, что покинул свою родину при таких исключительных и драматических обстоятельствах, теперь сидит себе у камина как ни в чем не бывало и очень доволен!
Правда, голос его дрожал, когда он заговорил с ее родителями, а встретившись глазами с ее отцом, он улыбнулся ясной улыбкой, совсем как рыцарь, который убил дракона и преподнес королю воду вечной юности; но все—таки он оказался ничуть не похожим на какого—нибудь побежденного героя из книг Анни. Ведь он не произнес, подняв руку к небу: «Отныне я клянусь навеки быть верным моему дому, моему господину и моей родине!» — слова, единственно правильные и подходящие в подобном случае.
Итак, Гретель была разочарована. Зато Рафф испытывал полное удовлетворение. Поручение исполнено: к доктору Букману сын вернулся здравым и невредимым; к тому же ведь бедный малый, в сущности, не погрешил ни в чем, если не считать, что он думал, будто отец способен отречься от него из—за несчастной оплошности. Правда, некогда стройный юноша превратился теперь в довольно грузного мужчину, — а Рафф—то бессознательно надеялся снова пожать ту же юношескую руку! Но ведь, коли на то пошло, для Раффа изменилось все на свете. И он отогнал от себя все чувства, кроме радости, когда увидел отца и сына, сидящих рядышком у его камина.
Между тем Ханс думал только о том, как счастлив «Томас Хигс», что снова может сделаться ассистентом меестера, а тетушка Бринкер тихонько вздыхала, жалея, что мать Лоуренса умерла и не может полюбоваться на такого прекрасного молодого человека, — вздыхала и удивлялась, почему доктор Букман ничуть не огорчен тем, что его серебряные часы так потускнели. Он носит часы с тех самых пор, как получил их от Раффа, это ясно. А куда же он девал золотые, которые носил раньше?
Свет падал прямо на лицо доктора Букмана. Какой у него был довольный вид! Как он помолодел и повеселел! Его глубокие морщины разгладились. Он смеялся, говоря отцу семейства:
— Ну разве я не счастливый человек, Рафф Бринкер? В этом месяце мой сын продаст свою фабрику и откроет склад товаров в Амстердаме. Теперь я буду даром получать футляры для очков.
Ханс встрепенулся:
— Склад товаров, мейнхеер! Но разве Томас Хигс… то есть ваш сын… не будет вашим ассистентом по—прежнему?
По лицу меестера промелькнула тень, но, сделав над собой усилие, он улыбнулся и ответил:
— Нет, с Лоуренса этого довольно. Он хочет остаться коммерсантом.
Лицо Ханса выразило такое удивление и разочарование, что доктор добродушно спросил его:
— Что же ты умолк, дружок? Разве быть коммерсантом позор?
— Н—нет, не позор, мейнхеер, — запинаясь, ответил Ханс, — но…
— Но что?
— То, другое призвание гораздо лучше, — ответил Ханс, — гораздо благороднее! Я думаю, мейнхеер, — добавил он горячо, — что быть врачом… лечить больных и увечных, спасать человеческую жизнь, уметь делать то, что вы сделали для моего отца, — это самое лучшее, что есть на земле!
Доктор строго взглянул на него. В этом взгляде Хансу почудилось осуждение. Щеки его запылали, горячие слезы навернулись ему на глаза.
— Скверное занятие, мой мальчик, эта медицина, — сказал доктор, все еще хмурясь: — она требует великого терпения, самоотвержения и упорства.
— Конечно, требует! — сказал Ханс, снова загораясь. — Она требует и знания и благоговения перед человеком. Ах, мейнхеер, может быть, у этого призвания есть свои трудности и свои недостатки… Впрочем, вы не всерьез осуждаете медицину. Нет, это великое и благородное призвание, а не скверное! Простите меня, мейнхеер, — не мне говорить так смело.
Доктор Букман был явно недоволен. Он повернулся спиной к юноше и вполголоса заговорил с Лоуренсом. Тетушка Бринкер, найдя нужным сделать строгое предупреждение Хансу, нахмурила брови. Знатные господа, как ей достаточно хорошо известно, не любят, когда бедняки им перечат, подумала она.
Меестер обернулся:
— Сколько тебе лет, Ханс Бринкер?
— Пятнадцать, мейнхеер, — ответил тот, вздрогнув.
— Ты хотел бы стать врачом?
— Да, мейнхеер, — ответил Ханс, дрожа от волнения.
— Ты хотел бы, с согласия родителей, посвятить себя науке, поступить в университет и со временем стать моим учеником?
— Да, мейнхеер!
— Подумай хорошенько: тебе не надоест и ты не раздумаешь как раз в то время, когда я всю душу положу на то, чтобы подготовить тебя и сделать моим преемником?
Глаза у Ханса загорелись:
— Нет, мейнхеер, я не раздумаю!
— В этом вы можете ему поверить! — воскликнула тетушка Бринкер, не утерпев. — Когда Ханс что—нибудь решил, он — как скала! А что до учения, мейнхеер, так в последнее время малый прямо прирос к своим книгам. Он уже теперь бормочет по—латыни не хуже любого священника!
Доктор улыбнулся:
— Ну, Ханс, если твой отец согласен, других препятствий я не вижу.
— Хм! Дело в том, мейнхеер, — проговорил Рафф, слишком гордившийся своим сыном, чтобы сразу сдаться, — что сам я предпочитаю трудиться на чистом воздухе. Но если малый хочет учиться на доктора и если вы ему поможете пробить себе дорогу, то я не против. Денег — вот чего не хватает! Но их можно добыть, когда есть пара сильных рук. Пройдет еще немного временя, и мы…
— Молчите! — перебил его доктор. — Если я отниму у вас вашего главного помощника, я за это заплачу — и с радостью. У меня будет как бы два сына… Что ты на это скажешь, Лоуренс? Один купец, а другой врач… Я буду счастливейшим человеком в Голландии!.. Приходи ко мне завтра утром, Ханс, и мы тотчас же все устроим.
Ханс только поклонился в ответ. Он не решился вымолвить ни слова.
— И вот еще что, Бринкер, — продолжал доктор: — когда мой сын Лоуренс откроет склад товаров в Амстердаме, ему будет нужен надежный, дельный человек вроде вас; человек, который наблюдал бы за работой и следил за тем, чтобы лодыри занимались делом. Человек… Да скажи ему об этом сам, болван!
Последние слова доктора были обращены к сыну и звучали вовсе не так резко, как это кажется на бумаге. «Болван» и Рафф быстро и прекрасно поняли друг друга.
— Очень мне не хочется бросать плотину, — сказал Рафф, после того как они немного поговорили друг с другом, — но вы сделали мне такое выгодное предложение, мейнхеер, что отказаться от него — все равно что ограбить свою семью.
Подольше посмотрите на Ханса, пока он сидит, устремив благодарный взгляд на меестера, — ведь вы много лет не будете встречаться с ним.
А Гретель? Сколько трудной работы ей предстоит! Да, ради дорогого Ханса она теперь будет учиться. Если он действительно станет врачом, сестре стыдно будет срамить такого важного человека своей неграмотностью.
Как усердно будут теперь эти блестящие глазки искать драгоценности, что таятся в недрах учебников! И как они загорятся и потупятся, когда придет тот, кого она пока знает лишь как мальчика, в красной шапке бежавшего по льду в чудесный день, когда она увидела в своем переднике серебряные коньки!
Но доктор и Лоуренс уходят. Тетушка Бринкер делает им свой лучший реверанс. Рафф стоит рядом с нею, и, когда он жмет руку меестеру, вид у него самый молодецкий. За открытой дверью домика виден типично голландский пейзаж — равнина, засыпаемая падающим снегом.
Глава XLVIII. Заключение
Наш рассказ близится к концу. В Голландии время идет таким же уверенным, ровным шагом, как и у нас; в этом отношении страна не представляет исключения. Бринкерам время принесло много крупных перемен. Ханс провел эти годы деятельно и с пользой, преодолевая препятствия, по мере того как они возникали, и добиваясь своей цели со всей энергией, свойственной его натуре. Если путь его порой был тернист, решимость не поколебалась ни разу. Временами он повторяет слова своего доброго старого друга, сказанные давным—давно в маленьком домике близ Брука: «Медицина—скверное занятие», — но в глубине его сердца слышится отзвук других, более справедливых слов: «Это великое и благородное дело!»
Будь вы сегодня в Амстердаме, вы, может быть, встретили бы знаменитого доктора Бринкера, когда он едет в своей великолепной карете навещать пациентов; а может быть, увидали бы, как он вместе со своими сынишками и дочурками катается на коньках по замерзшему каналу.
Тщетно вы стали бы спрашивать об Анни Боуман, хорошенькой чистосердечной крестьянской девочке; но Анни Бринкер, жена знаменитого доктора, очень похожа на нее… Только, по словам Ханса, она еще прелестнее, еще умнее, еще более похожа на добрую фею.
Питер ван Хольп женился тоже. Я и раньше могла бы вам сказать, что он и Хильда будут рука об руку проходить свой жизненный путь, так же как много лет назад они бок о бок скользили по замерзшему, залитому солнцем каналу.
Раз я чуть было не намекнула, что и Катринка обручится с Карлом. Счастье, что слух об этом еще не разнесся: ведь Катринка раздумала и до сих пор не замужем. Она уже не такая веселая, как прежде, и, как ни грустно мне говорить об этом, некоторые ее звонкие «колокольчики» звенят не в лад с остальными. Но она все еще душа своего кружка. Если бы только она хоть ненадолго могла быть серьезной… Но нет, это не в ее характере. Ее заботы и горести только расстраивают звон ее «колокольчиков»; более глубокой музыки они не порождают.
Душа Рихи за эти долгие годы всколыхнулась до самого дна. Ее история — пример того, как семя, посеянное небрежно, порой созревает в муках и как после многотрудного сева вырастает золотой урожай. Может быть, вам в недалеком будущем доведется прочесть письменное изложение этой истории, но — только, если вы знаете голландский язык. В остроумном, но серьезном авторе, чьи произведения сейчас встречают радушный прием в тысячах голландских домов, лишь немногие узнают надменную, легкомысленную Рихи, когда—то смеявшуюся над маленькой Гретель.
Ламберт ван Моунен и Людвиг ван Хольп — хорошие люди и, что легче заметить, преуспевающие горожане. Оба живут в Амстердаме. Но один остался в старом Амстердаме, а другой перекочевал в более молодой город, носящий это название. Теперь ван Моунен живет неподалеку от Центрального парка в Нью—Йорке и говорит, что если нью—йоркцы выполнят свой долг, парк со временем не уступит прекрасному Босху, что близ Гааги. Ван Моунен частенько вспоминает Катринку, какой она была в дни его отрочества, но теперь он рад, что Катринка, сделавшись взрослой, отвергла его. А ведь тогда ему показалось, что это самый мрачный час его жизни… Сестра Бена, Дженни, сделала Ламберта счастливым, таким счастливым, каким он не мог бы стать ни с кем другим в нашем широком мире.
У Карла Схуммеля жизнь вышла тяжелой. Дела его отца пошатнулись, и, так как Карл не приобрел себе близких друзей и, главное, не руководился высокими принципами, ракета судьбы швыряла его, как мяч, пока не обтрепались почти все самые красивые его перья. Теперь он служит бухгалтером в процветающем амстердамском торговом доме «Букман и Схуммельпеннинк». Младший компаньон, Воостенвальберт, хорошо обращается с ним, а Карл, в свою очередь, теперь относится очень почтительно к «обезьяне с длинным именем вместо хвоста».
Из всех наших друзей—голландцев только Якоба Поота уже нет в живых. Он до конца своей жизни остался все таким же добродушным, искренним и бескорыстным, и его оплакивают так же горячо, как любили и вышучивали, пока он жил на земле. Перед смертью он отощал — сделался еще более тощим, чем Бенджамин Добс, который теперь стал дороднейшим из дородных.
Рафф Бринкер и его жена много лет безбедно живут в Амстердаме. Эти верные, счастливые супруги так же простодушны и честны теперь, в годы удачи, как были стойки и достойны доверия в самые мрачные свои дни. Невдалеке от своей старой лачужки они построили себе павильон и часто отправляются туда с детьми и внуками в погожие летние дни, когда водяные лилии поднимают над водой свои величавые венчики.
История Ханса Бринкера была бы рассказана лишь наполовину, если бы мы, покидая его, не заметили рядом с ним Гретель. Милая, проворная, выносливая маленькая Гретель! Кто она теперь? Спросите старого доктора Букмана — он скажет, что она самая лучшая певица и самая очаровательная женщина в Амстердаме! Спросите Ханса и Анни — они заверят вас, что она самая любящая сестра на свете. Спросите ее мужа — он скажет вам, что она самая веселая и нежная маленькая женушка в Голландии. Спросите тетушку Бринкер и Раффа — их глаза заблестят радостными слезами. Спросите бедняков — и воздух зазвенит от их благодарственных слов.
Но, если вы позабыли крошечную фигурку, дрожавшую и плакавшую на бугорке перед домом Бринкеров, расспросите ван Глеков: они никогда не устанут говорить вам о милой маленькой девочке, которая завоевала серебряные коньки.
Иллюстратор Иткин А.















