Часть первая
Глава I. В погоне за мясом
Темный хвойный лес высился по обеим сторонам скованного льдом водного пути. Пронесшийся незадолго перед тем ветер сорвал с деревьев белый снежный покров, и в наступающих сумерках они стояли черные и зловещие, как бы приникнув друг к другу. Бесконечное молчание окутало землю. Это была пустыня – безжизненная, недвижная, и до того здесь было холодно и одиноко, что даже не чувствовалось грусти. В этом пейзаже можно было подметить скорее подобие смеха, но смеха, который страшнее скорби, смеха безрадостного, как улыбка сфинкса, холодного, как лед. То вечность, премудрая и непреложная, смеялась над суетностью жизни и тщетой ее усилий. Это была пустыня – дикая, безжалостная северная пустыня.
И все же в ней была жизнь, настороженная и вызывающая. Вдоль замерзшего водного пути медленно двигалась стая волкоподобных собак. Их взъерошенная шерсть была покрыта инеем. Дыхание, выходившее из их пастей, тотчас же замерзало в воздухе и, осаждаясь в виде пара, образовывало на их шерсти ледяные кристаллы. На них была кожаная упряжь; такими же постромками они были впряжены в сани, тянувшиеся позади. Нарты не имели полозьев; они были сделаны из толстой березовой коры и всей своей поверхностью лежали на снегу. Передний конец их был несколько загнут кверху, что давало им возможность подминать под себя верхний, более мягкий, слой снега, пенившийся впереди, точно гребень волны. На нартах лежал крепко привязанный узкий длинный ящик и лежали еще кое-какие вещи: одеяло, топор, кофейник и сковорода, но прежде всего бросался в глаза продолговатый ящик, занимавший большую часть места.

Впереди на широких канадских лыжах шагал, пробивая собакам дорогу, человек. За нартами шел другой, а на нартах в ящике лежал третий человек, путь которого был закончен, человек, которого пустыня победила и сразила, навсегда лишив его возможности двигаться и бороться. Пустыня не терпит движения. Жизнь оскорбляет ее, потому что жизнь – это движение, а вечное стремление пустыни – уничтожить движение. Она замораживает воду, чтобы остановить ее течение к морю; она выгоняет сок из деревьев, пока они не промерзнут до самого своего мощного сердца, но всего свирепее и безжалостнее давит и преследует пустыня человека, самое мятежное проявление жизни, вечный протест против закона, гласящего, что всякое движение неизменно приводит к покою.
Впереди и позади нарт, бесстрашные и неукротимые, шли те два человека, которые еще не умерли. Они были закутаны в меха и мягкие дубленые кожи. Брови, щеки и губы у них были так густо покрыты инеем, осевшим на лица от их морозного дыхания, что черты их почти невозможно было различить. Это придавало им вид каких-то замаскированных привидений, провожающих в загробный мир еще одно привидение. Но под этими масками были люди, желавшие проникнуть в царство отчаяния, насмешки и безмолвия, маленькие существа, стремившиеся к грандиозным приключениям, боровшиеся с могуществом страны, далекой, чуждой и безжизненной, как бездны пространства.
Они шли молча, сберегая дыхание для тяжелой работы тела. Надвинувшаяся со всех сторон тишина давила на них своим почти ощутимым присутствием. Она давила на их мозг подобно тому, как воздух силой многих атмосфер давит на тело спустившегося в глубину водолаза, давила всей тяжестью бесконечного пространства, всем ужасом неотвратимого приговора. Тишина проникала в самые глубокие извилины мозга, выжимая из него, как сок из винограда, все ложные страсти и восторги, всякую склонность к самовозвеличению; она давила так, пока люди сами не начинали считать себя ограниченными и маленькими, ничтожными крупинками и мошками, затерявшимися со своей жалкой мудростью и близоруким знанием в вечной игре слепых стихийных сил.
Прошел один час, другой… Бледный свет короткого бессолнечного дня почти померк, когда в тихом воздухе раздался вдруг слабый отдаленный крик. Он быстро усиливался, пока не достиг высшего напряжения, протяжно прозвучал, дрожащий и пронзительный, и снова медленно замер вдали. Его можно было бы принять за вопль погибшей души, если бы не резко выраженный оттенок тоскливой злобы и мучительного голода. Человек, шедший впереди, оглянулся, и глаза его встретились с глазами шедшего сзади. И, переглянувшись поверх узкого продолговатого ящика, они кивнули друг другу.
Второй крик с остротой иглы прорезал тишину. Оба человека определили направление звука: он шел откуда-то сзади, со снежной равнины, которую они только что оставили позади. Третий ответный крик послышался несколько левее второго.
– Билл, они идут следом за нами, – сказал человек, шедший впереди.
Голос его звучал хрипло и неестественно, и говорил он с видимым усилием.
– Мясо стало редкостью, – ответил его товарищ. – Вот уже несколько дней, как нам не попадался след зайца.
После этого они замолчали, продолжая чутко прислушиваться к крикам, раздававшимся сзади, то тут, то там.
С наступлением темноты они направили собак к группе елей, высившихся на краю дороги, и остановились на ночлег. Гроб, поставленный около костра, служил им одновременно скамьей и столом. Собаки, сбившись в кучу у дальнего края костра, рычали и грызлись между собой, не обнаруживая ни малейшего стремления порыскать в темноте.
– Мне кажется, Генри, что они что-то чересчур усердно жмутся к костру, – сказал Билл.
Генри, сидевший на корточках около костра и опускавший в этот момент кусочек льда в кофе, чтобы осадить гущу, кивнул в ответ. Он не произнес ни слова до тех пор, пока не уселся на гроб и не принялся за еду.
– Они знают, где безопаснее, – ответил он, – и предпочитают есть сами, а не стать пищей для других. Собаки умные животные.
Билл покачал головой:
– Ну, не знаю…
Товарищ с удивлением посмотрел на него.
– В первый раз слышу, что ты не признаешь за ними ума, Билл!
– Генри, – ответил тот, задумчиво разжевывая бобы, – заметил ты, как они вырывали сегодня друг у друга куски, когда я кормил их?
– Да, больше чем обыкновенно, – согласился Генри.
– Сколько у нас собак, Генри?
– Шесть.
– Хорошо, Генри… – Билл на минуту остановился как бы для того, чтобы придать своим словам еще больше веса. – Так, у нас шесть собак, и я взял из мешка шесть рыбин. Я дал каждой по рыбе и… Генри, одной рыбы мне не хватило!
– Ты ошибся в счете!
– У нас шесть собак, – хладнокровно повторил Билл. – И я взял шесть рыбин, но Одноухий остался без рыбы. Я вернулся и взял из мешка еще одну рыбу.
– У нас только шесть собак, – проворчал Генри.
– Генри, – продолжал Билл, – я не говорю, что это все были собаки, но получили по рыбе семеро.
Генри перестал есть и через огонь пересчитал глазами собак.
– Их только шесть, – сказал он.
– Я видел, как одна убегала по снегу, – настойчиво заявил Билл. – Их было семь.
Генри соболезнующе посмотрел на него.
– Знаешь, Билл, я буду очень рад, когда это путешествие закончится.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Мне кажется, эта обстановка начинает действовать тебе на нервы и тебе мерещатся несуществующие вещи.
– Я сам подумал об этом, – серьезно заметил Билл, – и поэтому, когда она убежала, я тщательно осмотрел снег и нашел ее следы. Затем я внимательно пересчитал собак: их было только шесть. Следы еще сохранились на снегу. Хочешь, я покажу тебе их?
Генри ничего не ответил и продолжал молча жевать. Окончив есть, он выпил кофе и, обтерев рот тыльной стороной руки, сказал:
– Значит, ты думаешь…
Протяжный, зловещий крик, раздавшийся откуда-то из темноты, прервал его.
Он замолчал, прислушался и, указывая рукой в сторону, откуда донесся вой, закончил:
– Что, это был один из них?
Билл кивнул головой.
– Черт возьми! Я не могу представить себе ничего другого. Ты и сам видел, как взволновались собаки.
Вой и ответный вой прорезали тишину, превращая безмолвие в сумасшедший дом. Звуки слышались со всех сторон, и собаки, в страхе прижимаясь друг к дружке, так близко подошли к огню, что на них начала тлеть шерсть. Билл подбросил дров в костер и закурил трубку.
– А мне все-таки кажется, что ты немного того… сбрендил, – произнес Генри.
– Генри… – Он медленно затянулся, прежде чем продолжать. – Я думаю о том, насколько он счастливее нас с тобой.
Он ткнул большим пальцем в ящик, на котором они сидели.
– Когда мы умрем, – продолжал он, – это будет счастьем, если найдется достаточно камней, чтобы наши трупы не достались собакам.
– Но ведь у нас нет ни друзей, ни денег, ни многого другого, что было у него, – возразил Генри. – Вряд ли кто-нибудь из нас может рассчитывать на пышные похороны.
– Не понимаю я, Генри, что могло заставить вот этого человека, который у себя на родине был лордом или чем-то вроде этого и никогда не нуждался ни в пище, ни в крове, – что могло заставить его сунуться в этот Богом забытый край!
– Он мог бы дожить до глубокой старости, если бы остался дома, – согласился Генри.
Билл открыл рот, чтобы заговорить, но передумал и устремил глаза в темноту, теснившую их со всех сторон. В ней нельзя было различить никаких очертаний, и только видна была пара глаз, блестевших, как горящие уголья. Генри кивком головы указал на вторую пару глаз, затем и на третью. Эти сверкавшие глаза кольцами опоясывали стоянку. Временами какая-нибудь пара двигалась и исчезала, но тотчас же появлялась вновь.
Беспокойство у собак все возрастало, и, охваченные страхом, они скучились вдруг около костра, стараясь заползти под ноги людям. В свалке одна из собак упала у самого края огня и жалобно завыла от страха; в воздухе распространился запах опаленной шерсти. Шум и смятение заставили круг сверкающих глаз беспокойно задвигаться и даже отступить, но как только все успокоилось, кольцо снова сомкнулось.
– Скверное дело, брат, коли нет зарядов.
Билл вытряхнул трубку и стал помогать товарищу устраивать постель из одеял и меховых шкур на еловых ветках, которые он разложил на снегу еще до ужина. Генри проворчал что-то и принялся расшнуровывать мокасины.
– Сколько у тебя осталось патронов? – спросил он.
– Три, – последовал ответ. – Хотел бы я, чтобы их было триста; уж я бы показал им, черт возьми!
Билл сердито погрозил кулаком в сторону сверкающих глаз и начал укреплять свои мокасины перед огнем для просушки.
– Хоть бы мороз этот сдал, что ли, – продолжал Билл, – вот уже две недели, как стоит пятьдесят градусов ниже нуля. Эх, лучше бы не затевать этого путешествия, Генри. Не нравятся мне что-то наши дела. Скорее бы уже все кончилось, чтобы сидеть нам у огня в форте Мак-Гэрри и играть в карты – вот чего я хотел бы!
Генри проворчал что-то и полез под одеяло. Он стал было уже засыпать, когда его разбудил голос товарища.
– Скажи, Генри, тот, другой, который пришел и получил рыбу, почему собаки не бросились на него?.. Вот что меня удивляет!
– С чего это ты так забеспокоился, Билл? – последовал сонный ответ. – Прежде с тобой этого не бывало. Заткнись и дай мне уснуть. Должно быть, у тебя в желудке накопилось много кислот – вот ты и нервничаешь.
Люди спали, тяжело дыша, свернувшись рядом под одним одеялом. Огонь костра угасал, и кольцо сверкающих глаз смыкалось все теснее и теснее. Собаки в страхе ближе прижимались друг к другу, гневно рыча, когда какая-нибудь пара глаз слишком приближалась. Раз Билл проснулся от громкого лая. Он осторожно выполз из-под одеяла, чтобы не потревожить сон товарища, и подбросил дров в костер. Когда огонь разгорелся, кольцо сверкающих глаз несколько расширилось. Взгляд его случайно упал на скучившихся собак. Он протер глаза и посмотрел внимательнее. Затем снова заполз под одеяло.
– Генри, – позвал он, – а Генри!
Генри заворчал спросонок:
– Ну, что там еще?
– Ничего особенного, только их опять семь. Я только что сосчитал.
Генри ответил на это сообщение густым храпом.
Наутро он проснулся первым и разбудил Билла. Было уже шесть часов, но рассвет ожидался не раньше девяти, и Генри в темноте принялся за приготовление завтрака. Билл в это время свертывал одеяла и готовил нарты.
– Скажи, Генри, – вдруг спросил он, – сколько, ты говоришь, у нас было собак?
– Шесть, – ответил Генри.
– Неправда! – торжествующе заявил Билл.
– А что, опять семь?
– Нет, пять. Одной нет.
– Проклятие! – в бешенстве воскликнул Генри и, оставив стряпню, пошел считать собак.
– Ты прав, Билл, Пузырь исчез.
– И, наверное, он умчался стрелой, раз уж решился бежать.
– Не думаю. Они просто слопали его. Держу пари, что он здорово визжал, когда они запускали в него зубы… проклятые!
– Он всегда был глупой собакой, – заметил Билл.
– Но не настолько, чтобы покончить таким образом жизнь самоубийством, – возразил Генри. Он окинул пытливым взглядом оставшихся собак, оценивая каждую из них.
– Уверен, что никто из этих не сделал бы такой глупости.
– Этих-то палкой не отогнать от костра, – заметил Билл. – Но я всегда думал, что Пузырь плохо кончит.
И это было всей эпитафией над собакой, погибшей в северной пустыне; но другие собаки и даже люди довольствовались эпитафией более краткой.
Глава II. Волчица
Позавтракав и сложив в нарты несложное лагерное снаряжение, путники повернулись спиной к радушному костру и зашагали вперед, навстречу темноте. Воздух сразу огласился жалобным воем, со всех сторон раздавались голоса, перекликавшиеся между собой в ночном мраке. Разговор умолк. Около девяти часов начало светать. В полдень южный край неба окрасился в розовый цвет, и на нем четко выступила линия горизонта, отделяя выпуклой чертой северный край от стран полуденного солнца. Но розовая окраска скоро исчезла. Серый дневной свет держался до трех часов, затем и он угас, уступив место темной полярной ночи, окутавшей своим покровом безмолвную пустынную землю.

Мрак сгущался; крики справа, слева и сзади доносились все явственнее, а иногда слышались так близко, что приводили в смятение выбившихся из сил собак, повергая их на несколько секунд в панику.
После одного такого переполоха, когда Билл и Генри вправили животных в постромки, Билл сказал:
– Хорошо, если бы они нашли где-нибудь дичь и оставили нас в покое.
– Да, они ужасно действуют на нервы, – отозвался Генри.
До следующей остановки они не произнесли больше ни слова.
Генри стоял, наклонившись над котлом, в котором кипели бобы, и подбрасывал в него кусочки льда, как вдруг до ушей его долетел звук удара, восклицание Билла и острый злобный крик боли, раздавшийся из группы собак. Он вздрогнул от неожиданности и выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть смутные очертания зверя, убегавшего по снегу под покров темноты. Затем он взглянул на Билла, стоявшего посреди собак с выражением не то торжества, не то недоумения. В одной руке он держал толстую дубину, а в другой – кусок сушеной лососины.
– Он выхватил у меня полрыбы, – объявил он, – но я успел все-таки здорово отделать его. Ты слышал, как он завизжал?
– Кто же это был? – спросил Генри.
– Я не успел разглядеть. Но у него были черные ноги и пасть, и шерсть, – и, пожалуй, он был похож на собаку.
– Должно быть, прирученный волк!
– Чертовски ручной, если он приходит каждый раз во время кормления, чтобы получить свою порцию рыбы.
Ночью, когда после ужина они сидели на продолговатом ящике, попыхивая своими трубками, кольцо светящихся точек сомкнулось еще теснее.
– Хотел бы я, чтобы они напали на стадо лосей и забыли про нас, – заметил Билл.
Генри как-то недружелюбно заворчал, и в течение четверти часа длилось молчание. Он устремил взгляд на огонь, а Билл смотрел на сверкавшие глаза, которые блестели в темноте, как раз за пределами света, падавшего от костра.
– Хотелось бы мне быть уже в Мак-Гэрри, – снова начал он.
– Замолчи ты, пожалуйста, со своими желаниями и перестань каркать, – сердито буркнул Генри. – Это все твоя изжога. Прими-ка ложку соды, сразу настроение исправится, и ты станешь более приятным собеседником.
Утром Генри был разбужен жестокими ругательствами, исходившими из уст Билла. Генри приподнялся на локте, товарищ его стоял у только что разведенного костра с поднятыми кверху руками и перекошенным от злобы лицом.
– Эй! – воскликнул Генри, – что случилось?
– Лягуха исчезла, – был ответ.
– Не может быть!
– Говорю тебе, что она исчезла.
Генри вылез из-под одеяла и направился к собакам. Он тщательно пересчитал их и послал очередное проклятие темным силам пустыни, лишившим их еще одной собаки.
– Лягуха была самой сильной из всего цуга, – промолвил наконец Билл.
– И к тому же она была далеко не глупа, – добавил Генри.
Такова была вторая эпитафия за эти два дня.
Завтрак прошел в мрачном молчании, а затем четырех оставшихся собак снова впрягли в нарты. Наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Люди шли молча среди окованного морозом моря. Тишина нарушалась только криками их врагов, незримо следовавших за ними. С наступлением темноты к концу дня враги, согласно своему обыкновению, стали приближаться, и крики их сделались слышнее; собаки волновались, вздрагивали и несколько раз в припадке панического ужаса путали постромки, заражая своим страхом и людей.
– Вот что вас удержит, глупые твари, – сказал в тот же вечер Билл, самодовольно оглядывая свою работу.
Генри прервал стряпню, чтобы посмотреть, в чем дело. Его товарищ не только связал всех собак, но связал их по индейскому способу палками. Вокруг шеи каждой собаки он прикрепил кожаный ремень, к которому привязал толстую палку в четыре – пять футов длины. Другой конец палки был укреплен при помощи такого же кожаного ремня к вбитому в землю шесту. Собака не могла прогрызть ремень, прикрепленный к ближайшему к ней концу палки. Палка же не позволяла ей добраться до ремня на другом конце.
Генри одобрительно кивнул головой.
– Это единственный способ удержать Одноуха, – сказал он. – Он может прокусить всякую кожу, как бритвой перережет. А теперь мы найдем их утром целыми и на месте.
– Держу пари, что так оно и будет! – подтвердил Билл. – Если хоть одна пропадет, я откажусь от кофе.
– Они прекрасно понимают, что у нас нет зарядов, – заметил Генри перед тем, как ложиться спать, и указал товарищу на окружившее их сверкающее кольцо. – Если бы мы могли послать им несколько выстрелов, они были бы почтительнее. С каждой ночью они подходят все ближе и ближе. Отведи глаза от костра и посмотри в темноту. Вот… Видел ли ты этого?
Некоторое время люди следили за движениями неясных фигур за пределами костра. Всматриваясь пристально туда, где в темноте светилась пара глаз, можно было иногда различить очертания зверя. Иногда удавалось даже заметить, что они передвигаются.
Какой-то шум среди собак привлек внимание путников. Одноух издавал отрывистые жалобные звуки и тянулся, насколько позволяла ему палка, по направлению к темноте, время от времени делая бешеные усилия, чтобы схватить палку зубами.
– Посмотри-ка, Билл, – прошептал Генри.
Прямо к костру мягкой, крадущейся походкой приближался какой-то зверь, похожий на собаку. В его движениях сквозили осторожность и дерзость; он внимательно наблюдал за людьми, не упуская в то же время из виду собак. Одноух потянулся, насколько позволяла ему палка, к непрошеному гостю и тоскливо завыл.
– Этот болван Одноух как будто не особенно боится, – тихо произнес Билл.
– Это волчица, – так же тихо проговорил Генри. – Теперь понятно, почему исчезли Пузырь и Лягуха. Она служит приманкой для своей стаи. Она заманивает собаку, а затем вся остальная стая бросается на жертву и съедает ее.
Огонь затрещал. Головешка с громким шипением откатилась в сторону. При этом звуке странное животное отскочило назад в темноту.
– Генри, я думаю… – начал Билл.
– Что ты думаешь?
– Я думаю, что это тот самый зверь, которого я хватил палкой.
– В этом нет ни малейшего сомнения, – ответил Генри.
– Кстати, не находишь ли ты, – продолжал Билл, – что близкое знакомство этого зверя с кострами и подозрительно, и даже как-то безнравственно?
– Он несомненно знает больше, чем полагается знать уважающему себя волку, – согласился Генри. – Волк, который приходит по вечерам кормиться с собаками, должен обладать большим жизненным опытом.
– У старого Виллена была однажды собака, которая убежала к волкам, – вслух рассуждал Билл. – Я это хорошо знаю, потому что я сам застрелил ее среди стаи на оленьем пастбище около Литтль-Стака. Старик плакал, как ребенок, и говорил, что не видел ее три года; все это время она провела с волками.
– По-моему, ты попал в точку, Билл. Этот волк не что иное, как собака, и наверное не раз получал рыбу из человеческих рук.
– Только бы не промахнуться, и этот волк, а в действительности собака, скоро превратится у меня просто в мясо, – заявил Билл. – Мы не можем больше терять животных.
– Но у тебя осталось всего-навсего три заряда, – заметил Генри.
– Я выжду и возьму верный прицел! – был ответ.
Утром Генри развел огонь и приготовил завтрак под храп своего товарища.
– Ты так сладко спал, – сказал ему Генри, – что у меня не хватило духу будить тебя.
Билл сонно принялся за еду. Заметив, что чашка его пуста, он потянулся за кофе. Но кофейник стоял далеко, около Генри.
– Скажи-ка, Генри, – проговорил он добродушно, – ты ничего не забыл?
Генри внимательно посмотрел по сторонам и отрицательно покачал головой. Билл поднял пустую чашку.
– Ты не получишь кофе, – объявил Генри.
– Неужто весь вышел? – испуганно спросил Билл.
– Нет!
– Ты, может быть, заботишься о моем пищеварении?
– Нет!
Краска негодования залила лицо Билла.
– В таком случае я требую объяснения, – сказал он.
– Машистый исчез, – ответил Генри.
Не спеша, с видом полной покорности судьбе Билл повернул голову и, не вставая с места, стал считать собак.
– Как это случилось? – спросил он упавшим голосом.
Генри пожал плечами:
– Не знаю. Разве что Одноух перегрыз ему ремень. Сам он этого сделать не мог.
– Окаянный пес! – Билл говорил тихо и серьезно, не выказывая накипевшей в нем злобы. – Не удалось перегрызть свой, так перегрыз Машистому.
– Ну, все мучения Машистого теперь, во всяком случае, окончились; он, несомненно, уже переварился и скачет по пустыне в брюхе двадцати волков, – сказал Генри, и это послужило эпитафией третьей пропавшей собаке… – Хочешь кофе, Билл?
Билл отрицательно покачал головой.
– Пей! – сказал Генри, поднимая кофейник.
Билл отодвинул чашку:
– Будь я трижды проклят, если выпью. Я сказал, что не буду пить кофе, если пропадет собака, и не стану пить!
– А кофе отличный, – соблазнял товарища Генри.
Но Билл был упрям и позавтракал всухомятку, приправляя еду ругательствами по адресу Одноуха, сыгравшего такую штуку.
– Сегодня вечером я привяжу их на почтительном расстоянии друг от друга, – сказал Билл, когда они снова тронулись в путь.
Они прошли не более ста шагов, когда Генри, шедший впереди, наклонился и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжу. Было темно, так что он не мог разглядеть его, но он узнал его на ощупь. Он бросил его назад так, что тот ударился о нарты и, отскочив, попал под ноги Биллу.
– Может быть, это тебе пригодится, – заметил Генри.
Билл вскрикнул от удивления. Это была палка, которой он привязал накануне Машистого, – все, что от него осталось.
– Они съели его вместе со шкурой, – заявил Билл, – даже ремень отгрызли от палки с обеих сторон. Они чертовски голодны, Генри, и примутся за нас прежде, чем мы кончим путь.
Генри вызывающе засмеялся:
– Волки, правда, никогда еще так не охотились за мной, но я видал в своей жизни немало, и тем не менее сохранил свою голову на плечах. Пожалуй, понадобится кое-что пострашнее стаи этих надоедливых тварей, чтобы покончить с твоим покорным слугой. Так-то, дружище!
– Не знаю, не знаю, – мрачно пробормотал Билл.
– Ну, так узнаешь, когда мы доберемся до Мак-Гэрри.
– Я что-то не слишком уверен в этом, – упорствовал Билл.
– Тебя лихорадит, вот в чем дело, – решительно заметил Генри. – Хорошая доза хинина, и все как рукой снимет. Я займусь твоим здоровьем, как только мы прибудем в МакГэрри.
Билл заворчал, выражая свое несогласие с этим диагнозом, и умолк.
День был такой же, как и все другие. Свет показался около девяти часов. В полдень горизонт озарился невидимым солнцем, а вслед за тем на землю надвинулись холодные серые сумерки, которые должны были через три часа смениться ночью.
Лишь только солнце, сделав неудачную попытку подняться над горизонтом, окончательно скрылось за гранью земли, Билл вытащил из нарт ружье и сказал:
– Ты, Генри, иди прямо, а я посмотрю, что делается кругом.
– Ты бы лучше не отходил от нарт, – запротестовал его спутник, – у тебя только три заряда, а неизвестно, что еще может случиться.
– Кто же это теперь каркает? – ехидно заметил Билл.
Генри ничего не ответил и пошел вперед один, бросая тревожные взгляды в серую даль, где скрылся его товарищ. Через час, воспользовавшись тем, что нартам пришлось сделать большой крюк, Билл догнал их на повороте.
– Они рассыпались широким кольцом и не теряют нашего следа, охотясь в то же время за дичью. Эти твари, видишь ли, уверены, что доберутся до нас, но понимают, что им придется еще подождать, и пока стараются не упустить ничего съедобного.
– Ты хочешь сказать, что они воображают, будто доберутся до нас, – поправил Генри.
Но Билл не удостоил вниманием его возражения.
– Я видел некоторых из них, – продолжал он, – они порядком отощали. Должно быть, несколько недель ничего не ели, кроме Пузыря, Лягухи и Машистого, а этим такой оравы не насытишь. Они до того худы, что ребра так и вылезают наружу, а животы подтянуты под самые спины. Они на все способны, говорю тебе, того и гляди взбесятся, а тогда увидишь, что будет.
Несколько минут спустя Генри, шедший теперь позади нарт, испустил слабый предостерегающий свист. Билл обернулся и спокойно остановил собак. Вслед за ними, вынырнув из-за последнего поворота проложенной нартами тропы, нисколько не скрываясь, бежал какой-то неясный пушистый зверь. Морда его была опущена к земле, и он двигался вперед странной, необычайно легкой, скользящей походкой. Когда они останавливались, останавливался и он, поднимая при этом голову и пристально глядя на них; и всякий раз, как он улавливал человеческий запах, ноздри его вздрагивали.
– Это волчица, – сказал Билл.
Собаки улеглись на снегу, и Билл, пройдя мимо них, подошел к товарищу, чтобы лучше рассмотреть странного зверя, преследовавшего путешественников в течение нескольких дней и лишившего их уже половины упряжки.
Обнюхав воздух, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторил этот маневр много раз, пока не оказался в ста шагах от нарт. Тут он остановился около группы сосен и, подняв голову, принялся зрением и обонянием изучать стоявших перед ним людей. Он смотрел на них странным разумным взглядом, как собака, но в этом взгляде не было собачьей преданности. Эта разумность была порождением голода, такая же жестокая, как его клыки, такая же безжалостная, как самый лютый мороз.
Для волка он был очень велик; его обтянутый скелет указывал на то, что он принадлежит к числу крупнейших представителей своей породы.
– Росту в нем не менее двух с половиной футов, если считать от плеч, – рассуждал Генри, – а в длину, пожалуй, без малого пять футов.
– Странная масть для волка, – добавил Билл. – Никогда не видел таких рыжих волков. Право, что твоя корица.
Зверь, однако, не был цвета корицы. И шкура у него была настоящая волчья. Основной тон ее был серый, но с каким-то обманчивым рыжим отливом, то появлявшимся, то снова исчезавшим. Казалось, тут замешано что-то вроде оптического обмана: то был серый, чисто серый цвет, то вдруг в нем появлялись штрихи и блики какого-то не передаваемого словами красновато-рыжего тона.
– Он похож на большую лохматую упряжную собаку, – сказал Билл. – И я ничуть не удивлюсь, если он завиляет сейчас хвостом.
– Эй, ты, лохматый, – воскликнул он. – Пойди сюда! Как тебя зовут?
– Он совсем не боится тебя, – рассмеялся Генри.

Билл угрожающе замахнулся и громко закричал, но зверь не проявил никакого страха. Они заметили только, что он как будто оживился. Он по-прежнему не спускал с людей своего жестокого разумного взгляда. Это было мясо, он был голоден, и если бы не страх перед человеком, он с удовольствием съел бы их.
– Послушай, Генри, – сказал Билл, бессознательно понижая голос до шепота. – У нас три заряда. Но тут дело верное. Промахнуться немыслимо. Он уже сманил у нас трех собак. Пора прекратить это. Что ты скажешь?
Генри утвердительно кивнул головой. Билл осторожно вытащил ружье из-под покрышки нарт. Но не успел он приложить его к плечу, как волчица в ту же секунду бросилась в сторону от тропы и исчезла в чаще деревьев.
Мужчины переглянулись. Генри протяжно и многозначительно свистнул.
– И как это я не догадался! – воскликнул Билл, кладя ружье обратно на место. – Ведь ясно, что волк, знающий, как надо являться за своей порцией во время кормления собак, должен быть также знаком и с огнестрельным оружием. Говорю тебе, Генри, что эта тварь – виновница всех наших несчастий. Если бы не она, у нас было бы сейчас шесть собак вместо трех. Хочешь не хочешь, Генри, а я отправлюсь за ней. Она слишком хитра, чтобы ее можно было убить на открытом месте. Но я выслежу ее и убью из-за куста; это так же верно, как то, что меня зовут Биллом.
– Для этого тебе нет надобности уходить очень далеко, – сказал его товарищ. – Если вся эта стая нападет на тебя, то твои три заряда будут все равно, что три ведра воды в аду. Эти звери страшно голодны, и если только они бросятся на тебя, Билл, спета твоя песенка!
Они рано остановились в этот день для ночлега. Три собаки не могли тащить нарты так же и с той же скоростью, как шестеро животных, и они проявляли явные признаки переутомления. Путники улеглись рано, и Билл предварительно привязал собак таким образом, чтобы они не могли перегрызть ремней друг у дружки.
Но волки становились все смелее и не раз будили в эту ночь обоих мужчин. Они подходили так близко, что собаки бесились от страха, и людям приходилось то и дело подбрасывать в огонь дров, чтобы удерживать этих предприимчивых мародеров на почтительном расстоянии.
– Я слышал рассказы моряков о том, как акулы преследуют корабли, – заметил Билл, забираясь под одеяло после того, как костер снова ярко запылал. – Эти волки – сухопутные акулы. Они знают свое дело лучше, чем мы, и поверь мне, не для моциона шествуют за нами по пятам. Они доберутся до нас, Генри. Ей-ей, доберутся.
– Тебя, дурака, они уже наполовину съели, – резко возразил Генри. – Когда человек начинает говорить о своей гибели, значит, он уже наполовину погиб. Вот и выходит, что ты почти съеден, раз ты так уверен, что это случится.
– Что же, они справлялись и с более сильными людьми, чем мы с тобой, – ответил Билл.
– Да перестань ты каркать! Сил моих нет!
Генри сердито повернулся на другой бок и с удивлением отметил про себя, что Билл не обнаружил никаких признаков раздражения. Билл был человек вспыльчивый, и подобная кротость показалась Генри очень подозрительной. Он долго думал об этом перед тем как заснуть, и последней мыслью его было: “А бедняга Билл порядком струхнул! Надо будет как следует взяться за него завтра!”
Глава III. Вопль голода
День начался благоприятно. За ночь не пропало ни одной собаки, и оба товарища двинулись в путь навстречу тишине, мраку и холоду в довольно бодром настроении. Билл как будто забыл мрачные предчувствия прошлой ночи и весело прикрикнул на собак, когда те в полдень на неровном месте опрокинули нарты в снег.
Все смешалось. Нарты перевернулись вверх дном и застряли между стволом дерева и большим камнем; пришлось отпрячь собак, чтобы привести все в порядок. Путники наклонились над нартами, стараясь выправить их, как вдруг Генри заметил, что Одноух отходит в сторону.
– Сюда, Одноух! – крикнул он, выпрямляясь и оборачиваясь в сторону собаки.
Но Одноух побежал по снегу, волоча за собою постромки. А там, вдали, на дороге, по которой они только что прошли, ожидала его волчица. Приблизившись к ней, Одноух вдруг насторожился, потом замедлил шаг и наконец остановился. Он внимательно осматривал ее, но глаза его горели похотью. Волчица, казалось, улыбнулась ему, оскалив зубы скорее приветливо, чем угрожающе. Затем, заигрывая, она сделала несколько шагов по направлению к Одноуху и остановилась. Одноух тоже приблизился к ней, все той же напряженной осторожной походкой, наставив уши, подняв хвост и высоко закинув голову.
Он хотел обнюхать ее морду, но она игриво и жеманно отскочила в сторону. Стоило ему сделать движение вперед, как она тотчас же отступала назад. Шаг за шагом она заманивала его все дальше и дальше от людей. Раз что-то вроде смутного предчувствия промелькнуло в мозгу Одноуха; он обернулся и бросил взгляд на опрокинутые нарты, на товарищей-собак и на двух людей, звавших его.
Но все колебания его быстро рассеялись, когда волчица, подскочив ближе, обнюхалась с ним и так же жеманно отступила назад, лишь только он сделал движение к ней.
Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно застряло под опрокинувшимися нартами, и когда ему удалось, наконец, с помощью Генри, поднять их, Одноух и волчица были уже слишком близко друг к другу и слишком далеко от них, чтобы стоило рисковать зарядом.
Чересчур поздно понял Одноух свою ошибку. И, прежде чем люди успели что-либо заметить, он обернулся и бросился бежать обратно к ним. Но тут, под прямым углом к тропе, наперерез собаке, помчалась дюжина волков, тощих и серых. Вся игривость и жеманность волчицы мгновенно исчезли. С рычанием бросилась она на Одноуха. Он оттолкнул ее плечом и, видя, что путь к нартам прегражден, бросился в другом направлении, чтобы добраться до них окружным путем. С каждым мгновением к погоне присоединялись все новые и новые волки. Волчица бежала следом за Одноухом.
– Куда ты? – сказал вдруг Генри, кладя руку на плечо товарища.
Билл стряхнул с себя руку Генри:
– Не могу я видеть этого. Больше они не отнимут у нас ни одной собаки, я этого не допущу.
С ружьем в руках он нырнул в кусты, росшие по сторонам дороги. Его намерения были довольно ясны. Избрав нарты центром круга, по которому бежал Одноух, Билл хотел перерезать на этой кривой путь волкам. С ружьем в руках среди белого дня он мог запугать волков и спасти собаку.
– Смотри, Билл! – закричал ему вслед Генри. – Будь осторожен! Не рискуй своей шкурой!
Генри уселся на нарты и стал ждать. Ему больше ничего не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но Одноух, то исчезая, то появляясь, мелькал среди кустов и растущих в одиночку сосен. Генри находил его положение безнадежным. Собака прекрасно сознавала грозившую ей опасность, но она бежала по внешнему кругу, в то время как волки – по внутреннему, меньшему. Трудно было рассчитывать, что Одноуху удастся настолько опередить своих преследователей, чтобы вовремя пересечь их круг и добраться до нарт.
Пути их должны были скреститься. Где-то там, в снегу, скрытые от его глаз деревьями и кустами, – Генри знал это, – Одноух, Билл и волки должны были сойтись. Все это произошло гораздо раньше, чем он ожидал. Он услыхал выстрел, затем еще два, один за другим, и сказал себе, что у Билла нет больше зарядов. Затем до его слуха донесся громкий крик и рев. Он узнал жалобный и испуганный визг Одноуха, крик раненого волка, и это было все. Вой прекратился. Рев замер. Тишина снова спустилась на мертвую пустыню.
Генри долго сидел на нартах. Ему незачем было идти, чтобы посмотреть, что случилось. Он знал это так же хорошо, как если бы видел все собственными глазами. Раз только он резко встал и вытащил топор из нарт, но затем снова сел и задумался; оставшиеся собаки, дрожа всем телом, свернулись у его ног.
Наконец он тяжело поднялся на ноги, как будто лишившись сразу всей своей энергии, и принялся запрягать собак в нарты. Перекинув через плечо веревочную петлю, он стал тянуть их вместе с собаками. Но Генри не ушел далеко. При первых признаках приближения темноты он поспешил сделать привал и позаботился о том, чтобы собрать как можно больше дров. Он накормил собак, сварил и съел свой ужин и приготовил себе постель у самого огня.
Но ему не суждено было уснуть в эту ночь. Прежде чем он успел закрыть глаза, волки подошли совсем близко. Теперь их можно было разглядеть, не напрягая зрения. Они окружили его и костер тесным кольцом; при свете огня он видел, что одни из них стояли, другие лежали, третьи, наконец, ползали на брюхе или прогуливались взад и вперед. Некоторые даже спали. Генри видел, как они, свернувшись на снегу, точно собаки, наслаждались сном, о котором ему теперь нечего было и мечтать.
Он усердно поддерживал яркий огонь, зная, что это единственная преграда, отделяющая его тело от их голодных пастей. Обе собаки тесно жались к нему с двух сторон, как бы ища защиты; они жалобно повизгивали и злобно рычали, когда какой-нибудь из волков подходил слишком близко. Это рычание обычно вызывало в волчьей стае сильное волнение; звери поднимались на ноги и делали попытки подойти ближе, оглашая воздух воем и ревом. Затем все опять успокаивалось, и они снова погружались в прерванный сон.
Однако кольцо сужалось все больше и больше. Постепенно, дюйм за дюймом, приближаясь поодиночке, звери стягивали свой круг, пока не оказывались, наконец, на расстоянии прыжка. Тогда Генри выхватывал из костра горящие головешки и бросал их в стаю. Последствием этого бывало мгновенное отступление, сопровождавшееся воем и рычанием, когда метко брошенная головня попадала в чересчур осмелевшего зверя.
Утро застало Генри утомленным и осунувшимся от бессонной ночи. Он приготовил себе завтрак в темноте и в девять часов – когда, с наступлением света, волки немного отступили, – принялся за выполнение плана, обдуманного им ночью. Срубив молодые ели, он сделал из них перекладины и высоко прикрепил их наподобие лесов к стволам двух больших деревьев. Потом, связав из санной упряжи подъемный канат, он при помощи собак поднял гроб наверх, на леса.
– Они добрались до Билла и, может быть, доберутся до меня, но никогда не тронут вас, молодой человек, – сказал Генри, обращаясь к мертвецу в его древесной гробнице.
Затем он отправился дальше; собаки охотнее потащили облегченные нарты; они тоже понимали, что спасение там, впереди, в Мак-Гэрри.
Волки совсем осмелели и спокойно бежали сзади и по бокам, высунув красные языки; на их тощих боках при каждом движении вырисовывались ребра. Они были страшно худы, настоящие мешки, наполненные костями, с веревками вместо мускулов; и можно было удивляться, как они еще держатся на ногах.
Путник решил остановиться до наступления темноты. В полдень солнце не только согрело южный край неба, но даже выглянуло бледным золотым ободком из-за горизонта. Генри понял, что дни становятся длиннее, что солнце возвращается. Но прежде чем солнце успело скрыться, он остановился на ночлег. Оставалось еще несколько часов серых сумерек, и Генри употребил их на то, чтобы заготовить большой запас дров.
Ночь вновь принесла с собой ужас. Волки становились все смелее, а на Генри сильно отражалась бессонница. Он начинал невольно дремать, скорчившись у огня и закутавшись в одеяло, с топором между коленями; обе собаки, тесно прижавшись к нему, сидели по бокам. Раз он проснулся и увидел перед собой на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов большого серого волка, самого крупного из стаи. Когда Генри взглянул на него, зверь развязно потянулся, точно ленивая собака, и зевнул перед самым его носом. При этом он смотрел на человека как на свою собственность, точно это было приготовленное для него блюдо, которое ему скоро предстояло съесть. Такая же уверенность чувствовалась у всей стаи. Генри мог насчитать штук двадцать волков, жадно глядевших на него или спавших в снегу. Они напоминали ему детей, собравшихся вокруг накрытого стола и ожидающих разрешения приступить к еде. И этой пищей был он. Его интересовало, когда и как они начнут его есть.
Подбрасывая дрова в огонь, он вдруг почувствовал глубокую нежность к своему телу, чувство, совершенно не знакомое ему до тех пор. Он наблюдал за игрой своих мускулов и ловкими движениями своих пальцев. При свете костра он медленно сгибал пальцы то поодиночке, то все вместе, широко расправляя их или делая быстрые хватающие движения. Он рассматривал форму ногтей, ударяя с различной силой по концам пальцев, чтобы испытать чувствительность своих нервов. Это занятие целиком поглотило его; ему стало вдруг бесконечно дорого это тело, которое умело так ловко, хорошо и тонко работать. Время от времени он бросал полный ужаса взгляд на волчье кольцо, окружавшее его в ожидании добычи, и грозная мысль, словно удар по голове, поражала его: ведь это удивительное тело не более как кусок мяса для жестоких хищников, и они разорвут его своими голодными клыками и утолят им свой голод так же, как утоляют его обычно оленем или кроликом.

Он очнулся от дремоты, очень близкой к кошмару, и увидел прямо перед собой рыжую волчицу. Она сидела на снегу, на расстоянии нескольких шагов, и смотрела на него разумным взглядом. Обе собаки визжали и прыгали у его ног, но она не обращала на них никакого внимания. Она смотрела на человека, и он тоже не спускал с нее глаз. В ее взгляде не было угрозы, а только глубокое раздумье. Но он знал, что это раздумье вызвано острым голодом. Он был для нее пищей, и вид его возбуждал в ней вкусовые ощущения. Пасть ее открылась, и оттуда показалась слюна. Она слизнула ее языком, как бы предвкушая близкое удовольствие.
Им овладел страх. Он быстро протянул руку, чтобы схватить головешку, но не успели его пальцы коснуться ее, как волчица отскочила в сторону; он понял, что она привыкла, чтобы в нее кидали чем попало. Отскочив, она зарычала и обнажила клыки до самых корней. Разумное выражение исчезло и уступило место кровожадному и злобному, заставившему Генри содрогнуться. Он взглянул на свою руку, державшую головешку, заметил тонкость и ловкость пальцев, охвативших ее со всех сторон, заметил, как они приноравливались к неровностям и как маленький палец инстинктивно поднялся, чтобы избегнуть прикосновения к горячему месту, и в ту же минуту ему представилось, как эти тонкие и нежные пальцы будут хрустеть под белыми зубами волчицы. Никогда еще не было так дорого ему это тело, как теперь, когда он мог каждую минуту лишиться его.
Всю ночь он отбивался от голодной стаи горящими головешками. Когда дремота, помимо воли, одолевала его, он просыпался от рычания и визга собак.
Настало утро, и в первый раз дневной свет не разогнал волков. Генри напрасно ждал этого. Они остались сидеть вокруг него и огня, и эта беспримерная наглость заставила дрогнуть воспрянувшее в нем с наступлением рассвета мужество.
Он сделал отчаянную попытку выбраться на тропу. Но не успел он выйти из-под защиты огня, как самый смелый из волков подскочил к нему вплотную. Генри отскочил назад, и зубы волка щелкнули в шести вершках от его лица. Вся стая поднялась и двинулась на него. Бросая во все стороны горящие головешки, он кое-как отбился от них и вернулся на прежнее место. Даже днем он не решился отойти от костра, чтобы нарубить свежих дров. В двадцати шагах от него высилась большая высохшая сосна. Ему понадобилось полдня, чтобы растянуть свой костер до этого дерева, причем он все время держал наготове с полдюжины горящих поленьев, чтобы запустить ими в своих врагов. Добравшись до дерева, он внимательно осмотрел местность, чтобы срубить его в том направлении, где было больше топлива.
Наступившая ночь была повторением предыдущей, с той разницей, что сон все сильнее и сильнее одолевал его. Рычание собак не оказывало на него больше никакого действия. К тому же они рычали теперь почти не переставая, и его притупившиеся чувства отказывались различать оттенки и силу этих сигналов. Вдруг он проснулся. Прямо перед ним стояла волчица. Машинально, почти не соображая, он сунул ей в открытую пасть горящую головешку. Она отскочила с жалобным воем, и пока он наслаждался запахом опаленной шерсти и мяса, она мотала головой и злобно рычала в каких-нибудь двадцати шагах от него.
Но на этот раз, прежде чем заснуть, он привязал к руке пучок горящих еловых веток. Глаза его оставались закрытыми не более нескольких минут, когда боль от ожога разбудила его. Несколько часов подряд он придерживался этого способа. Каждый раз, просыпаясь, он бросал во все стороны горящие сучья, подкладывал дров в костер и привязывал новый пучок веток к руке. Все шло хорошо, но раз он слишком слабо прикрепил горящий пучок, и не успели глаза его сомкнуться, как ветки выпали.
Ему снилось, что он в форте Мак-Гэрри… Было тепло и уютно, и он играл в криббэдж с кладовщиком. Снилось ему еще, что форт осажден волками. Они выли у самых ворот, и Генри с кладовщиком изредка прерывали игру, чтобы посмеяться над усилиями волков, тщетно старавшихся добраться до них. И вдруг – что за страшный сон, – раздался какой-то треск. Дверь распахнулась, и он увидел, как волки ворвались в просторную жилую комнату форта. Они бросились прямо на него и на кладовщика. Вой страшно усилился и начал не на шутку беспокоить его. Сон его превращался во что-то другое, во что именно, он не понимал, но сквозь это превращение его преследовал неумолкаемый вой.
Тут он проснулся и услышал вой наяву. С рычанием и ревом волки бросились на него и обступили со всех сторон. Чьи-то зубы впились ему в руку. Инстинктивно он вскочил в середину огня, и в ту же минуту почувствовал боль от острых клыков, вонзившихся ему в ногу. Тогда началась огневая битва. Он бросал во все стороны горящие уголья, пользуясь тем, что толстые рукавицы защищали его руки; со стороны костер в этот момент, наверное, был похож на вулкан.
Но это не могло долго продолжаться. Лицо его покрылось пузырями, брови и ресницы обгорели, и ногам было нестерпимо жарко в огне. Держа в каждой руке по горящей головне, он отошел к краю костра. Волки отступили. Повсюду, куда попадали раскаленные уголья, шипел снег, и всякий раз, как кто-нибудь из волков наступал на такой уголь, визг, вой и рычание возобновлялись с новой силой.
Запустив головешки в ближайших врагов, Генри сунул свои тлеющие рукавицы в снег и стал топтаться на месте, чтобы охладить ноги. Обе собаки его пропали, и он знал, что они послужили продолжением того пира, который начался несколько дней тому назад с Пузыря и завершить который суждено было ему…
– Вы еще не поймали меня! – заорал он, злобно грозя кулаком в сторону голодных зверей.
При звуке его голоса вся стая пришла в волнение; вой усилился, а волчица подошла совсем близко, наблюдая за ним разумным голодным взглядом.
Ему пришла в голову новая мысль, и он тотчас же принялся за дело. Разложив костер в виде большого круга, Генри улегся посредине, подложив под себя одеяло, чтобы защититься от тающего снега. Когда он таким образом скрылся под защитой огня, вся стая с любопытством подошла к самому краю костра, чтобы посмотреть, что с ним случилось. До сих пор им ни разу не удавалось еще подойти так близко к огню, и теперь они улеглись тесным кольцом, как собаки, моргая, позевывая и потягиваясь от непривычной теплоты. Но вдруг волчица села, подняла морду к звездам и завыла. Волки один за другим присоединились к ней, пока вся стая, усевшись на задние лапы и задрав морды кверху, не огласила воздух голодным воем.
Наступил рассвет, а за ним и день. Огонь догорал, топливо иссякло, и необходимо было сделать новый запас. Человек попробовал было выйти из огненного кольца, но волки поднялись ему навстречу. Горящие головешки заставили их отскочить в сторону, но они не отступили. Напрасно старался он отогнать их. Когда же, решив уступить, он вошел обратно в кольцо, один из волков бросился на него, но промахнулся и попал всеми четырьмя лапами в огонь. Он взвизгнул от боли и, зарычав, пополз назад, чтобы остудить лапы в снегу. Генри, сгорбившись, уселся на свое одеяло. Туловище его наклонилось вперед. Опущенные плечи и склоненная до колен голова красноречивее слов свидетельствовали о том, что он отказался от борьбы. Время от времени он поднимал голову, убеждаясь всякий раз, что костер затухает. Кольцо пламени уже прорвалось в нескольких местах, оставляя свободный проход. Проходы эти увеличивались, а стена огня уменьшалась.
– Теперь вы можете взять меня, когда захотите, – пробормотал он, – но я, по крайней мере, высплюсь.
Раз, проснувшись, он увидел прямо перед собой в проходе, образовавшемся в потухающем костре, волчицу, которая в упор смотрела на него.
Через некоторое время – ему казалось, что это было через несколько часов, – он снова проснулся. Произошла какая-то таинственная перемена, перемена, заставившая его широко раскрыть глаза от удивления. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно, но вдруг все стало ясно: волки исчезли. Оставались только следы на снегу, говорившие о том, как близко они подходили к нему. Сон начал опять овладевать им, голова его склонилась на колени, как вдруг он вздрогнул и проснулся окончательно.
Где-то вблизи слышались человеческие голоса, скрип нарт и постромок и нетерпеливый визг упряжных собак. Четверо нарт подъехали со стороны реки к месту привала между деревьями. Несколько человек обступили Генри, дремавшего в центре догорающего костра. Они расталкивали его, стараясь привести в чувство, а он смотрел на них как пьяный и бормотал странным заспанным голосом:
– Рыжая волчица… пришла кормиться вместе с собаками… сначала ела собачий корм… потом съела собак… а затем съела Билла…

– Где лорд Альфред? – заорал ему прямо в ухо один из людей, грубо тряся его за плечо.
Он тихо покачал головой:
– Нет, его она не съела; он покоится на дереве у последнего привала.
– Мертвый? – закричал человек.
– И в ящике, – ответил Генри.
Он стремительно вырвал плечо из рук державшего его человека:
– Слушайте, оставьте меня в покое… Я хочу спать. Спокойной ночи всем…
Глаза его закрылись, подбородок упал на грудь. И пока его клали на одеяло, морозный воздух уже успел огласиться его храпом. Но слышны были еще и другие звуки. Издалека неясно доносился голодный вой волчьей стаи, ушедшей искать другой пищи взамен ускользнувшего от ее клыков человека.
Часть вторая
Глава I. Битва клыков
Из всей стаи волчица первая уловила звук человеческих голосов и визг упряжных собак, и она же первая отскочила от укрывавшегося в гаснувшем огненном кольце человека. Стае не хотелось отказаться от своей добычи, и она еще несколько минут колебалась, прислушиваясь к голосам, а затем понеслась по следу, проложенному волчицей.
Впереди стаи бежал большой серый волк – один из ее вожаков. Это он повел всю стаю по следам волчицы, и он же угрожающе рычал на молодых волков и хватал их клыками, когда кто-нибудь из них дерзостно пытался обогнать его. Завидев впереди волчицу, серый волк наддал ходу.
Она побежала рядом со стариком, как будто это было ее законное место. Серый волк не ворчал на нее, не скалил своих клыков, когда она иногда быстрым прыжком опережала его. Наоборот, он казался явно расположенным к ней, пожалуй, даже чересчур явно с точки зрения волчицы, ибо лишь только серый волк подходил к ней чересчур близко (а он, по-видимому, находил в этом большое удовольствие), она рычала на него и скалила зубы… При случае она не останавливалась перед тем, чтобы укусить его в плечо, но он не сердился на нее. Он только отскакивал в сторону и некоторое время неуклюжими прыжками бежал впереди, напоминая своим видом и поведением сконфуженного деревенского парня.
Она была его единственной заботой во время бега, но у волчицы было много забот. По другую сторону от нее бежал худой матерый волк, полуседой, со следами многих битв на теле. Он все время бежал с правой стороны от волчицы, быть может, потому что у него был только один глаз, и притом левый. Он также проявлял явное желание держаться ближе к ней, стараясь прикоснуться своей покрытой рубцами мордой к ее плечу, шее или телу. Она отбивалась от него зубами, точно так же, как от бежавшего по другую сторону самца. Когда же оба они принимались одновременно выказывать ей свое расположение, волчица быстрыми укусами отделывалась от своих поклонников, продолжая в то же время указывать путь стае и ни на минуту не убавляя шага. При таких стычках оба самца оскаливали клыки и угрожающе рычали друг на друга. Они, конечно, сцепились бы, но мучительное и властное чувство голода заглушало в них на время даже чувство любви и ревности.
Всякий раз, отскакивая от острых клыков предмета своих желаний, старый волк налетал на молодого трехлетка, бежавшего по правую, слепую сторону от него. Молодой вояк был уже вполне развит и, несомненно, обладал исключительной силой и выносливостью, если принять во внимание истощенное и голодное состояние стаи. Тем не менее он бежал немного позади старого волка, так что голова его приходилась вровень с плечом Одноглазого. Всякий раз, как он пытался, – что случалось, впрочем, довольно редко, – обогнать его, удар клыками и грозное рычание возвращали его на прежнее место. Но иногда он тихонько и осторожно отставал, стараясь втереться между старым волком и волчицей. За это ему мстили с двух, а иногда и с трех сторон. Стоило волчице выразить рычанием свое недовольство, как старый вожак набрасывался на трехлетка, к нему иногда присоединялась и сама волчица, а вслед за ней молодой волк, бежавший впереди.
В такие минуты, видя перед собой шесть рядов грозных зубов, молодой волк быстро останавливался, поднимался на дыбы и, напряженно вытянув передние лапы, скалил клыки и ерошил шерсть. Эта заминка в авангарде бегущей стаи нарушала порядок и в задних рядах. Бежавшие волки наскакивали на трехлетка и выражали свое негодование, кусая его за задние ноги и за бока. Он рисковал навлечь на себя большие неприятности, ибо голод и озлобление всегда идут рука об руку, но с безграничной уверенностью юности настойчиво повторял свои попытки, неизменно заканчивавшиеся полным поражением.
Будь у них пища, любовь и борьба за нее давно выступили бы на первый план, и стая распалась бы. Но стая находилась в отчаянном положении. Она была истощена длительным голодом и бежала медленнее обычного. В арьергарде тащились ослабевшие волки – самые старые и самые молодые. Впереди шли самые сильные, но все они больше походили на скелеты, чем на рослых волков. Тем не менее, за исключением нескольких инвалидов, все они двигались непринужденно и без видимых усилий. Их натянутые мускулы хранили в себе, казалось, неистощимый источник энергии. За каждым стальным узлом мускулов находился другой такой же стальной узел, за ним еще и еще, и так, по-видимому, без конца.
В этот день они прошли много миль. Они бежали всю ночь и весь следующий день по замерзшей мертвой равнине. Нигде не было заметно ни малейшего признака жизни. Они одни двигались по бесконечной пустыне. Они были единственными живыми существами, и они искали других живых существ, чтобы растерзать их и тем продлить свою жизнь.
Им пришлось пересечь немало долин и перебраться через множество речек прежде, чем поиски их увенчались успехом. Они напали на стадо оленей. Сначала им попался крупный самец. Это было мясо и жизнь, не защищенные таинственным кольцом огня и летающими языками пламени. Раздвоенные копыта и ветвистые рога были им хорошо знакомы, и они смело отбросили здесь свою обычную осторожность и терпение. Борьба была короткая и жестокая. На оленя набросились сразу со всех сторон. Он разбивал им черепа страшными ударами своих тяжелых копыт, разрывал их шкуры, поднимал их на свои огромные рога и втаптывал в снег. Но, наконец, обессилев, он свалился на землю, волчица свирепо впилась ему в шею, и в ту же минуту сотни зубов вонзились во все части его тела, пожирая его живьем, в то время как он делал еще последнее усилие, чтобы защитить драгоценную жизнь.
Пищи было вдоволь. Олень весил около восьмисот фунтов – полных двадцать фунтов мяса на каждого из сорока с лишним волков стаи. Но если они умели голодать, то зато умели и есть, и вскоре только несколько обглоданных костей напоминали о сильном красивом животном, которое столкнулось со стаей всего несколько часов назад.
После этого наступило время отдыха и сна. Наполнив брюхо, молодые самцы начали ссориться и драться, и это продолжалось в течение ближайших нескольких дней, пока вся стая не разбрелась в разные стороны. Голод кончился. Они находились теперь в стране, богатой дичью, и хотя все еще продолжали охотиться всей стаей, но сделались осторожнее, выбирая из пробегавших мимо оленьих стад отяжелевших самок или хромоногих самцов.
В этой благодатной стране наступил, наконец, день, когда стая разделилась на две части и разошлась в разные стороны. Волчица, а с ней вместе молодой самец и одноглазый волк, увели половину стаи вниз по реке Макензи и дальше на восток, в страну озер. С каждым днем эта часть стаи таяла. Исчезали парами – самец и самка. Иногда одинокий самец изгонялся острыми зубами своих соперников. В конце концов остались только четверо: волчица, молодой волк, одноглазый старик и тщеславный трехлеток.
Волчица находилась последнее время в свирепом настроении, и все три поклонника носили на себе следы ее зубов. Но они никогда не отвечали ей тем же и даже не пробовали защищаться. Они подставляли плечо под ее жестокие укусы, виляли хвостами, семенили ногами, стараясь смягчить ее злобу. Но если к ней они относились более чем мягко, то друг друга не щадили.
Трехлеток сделался необычайно самонадеянным и свирепым. Однажды он напал на одноглазого волка со слепой стороны и разорвал ему ухо в клочья. Хотя седой старик и был слеп на один глаз, но против молодости и силы своего противника он выставил мудрость своего многолетнего опыта. Утраченный глаз и покрытая рубцами морда красноречиво свидетельствовали о том, что этот опыт чего-нибудь да стоил. Слишком много сражений выдержал он на своем веку, чтобы почувствовать малейшее колебание перед дерзким юнцом.
Борьба началась честно, но кончилась нехорошо; трудно было бы предсказать ее результат, потому что третий волк присоединился к старику, старый и молодой вожак вместе напали на самонадеянного трехлетка и вывели его из строя. Его с двух сторон осадили не знавшие пощады клыки прежних товарищей. Забыты были дни, когда они охотились вместе, дичь, которую они убивали, тяжелые муки голода. Все это было делом прошлого. На очереди стояла любовь – дело более важное и более жестокое, чем добывание пищи.
Тем временем волчица – причина всего этого – спокойно сидела на задних лапах и наблюдала. Это даже нравилось ей. Это был ее день, – а такие дни бывали не часто, – день, когда шерсть ерошилась, клык ударялся о клык или погружался в мягкое мясо и рвал его – и все это из-за желания обладать ею.
И во имя любви трехлеток, в первый раз познавший, что такое увлечение, отдал свою жизнь. По обеим сторонам его тела стояли оба соперника. Они не спускали глаз с волчицы, которая улыбалась им, сидя на снегу. Но старый волк был умен, умен и опытен не только в борьбе, но и в любви. Молодой волк обернулся, чтобы зализать рану на плече. Шея его была повернута в сторону противника. Своим единственным глазом старик увидел открывшуюся возможность. Он бросился на соперника, и клыки его сомкнулись, образовав на шее противника глубокую рваную рану. Зубы одноглазого встретили на пути большую шейную вену и перегрызли ее. Затем он отскочил в сторону.
Молодой волк дико зарычал, но рычание это сейчас же сменилось сухим кашлем. Истекая кровью и кашляя, пораженный насмерть, он бросился на старика, но жизнь уже угасала в нем, ноги подкашивались, туман застилал глаза, а удары и прыжки становились все слабее и слабее.
А волчица все так же продолжала сидеть на задних лапах и улыбаться. Ее радовало происходившее; таков был закон любви в пустыне, так разыгрывалась там первобытная трагедия пола; это была трагедия только для тех, кто погибал в этой борьбе; для победителя это было торжество и достижение цели.
Когда молодой волк растянулся без движения на снегу, Одноглаз подошел к волчице. В походке его сквозила гордость, смешанная, однако, с осторожностью. Он, по-видимому, ждал холодного приема и был поэтому сильно удивлен, когда та при его приближении не оскалила зубов. Впервые она встретила его ласково; она обнюхала его и даже снизошла до того, что стала резвиться с ним, как настоящий щенок. И он, несмотря на свой почтенный возраст и долголетний опыт, вел себя легкомысленно.
Забыты были побежденные соперники и история любви, красной кровью написанная на снегу. Только на минуту вспомнил Одноглаз обо всем этом, когда присел зализать свои раны. Тут губы его сжались, как бы для того, чтобы зарычать, шерсть на шее и плечах невольно ощетинилась, и лапы стали судорожно взрывать снег, точно собираясь сделать прыжок. Но в следующее мгновение все снова было забыто, и он погнался за волчицей, которая игриво манила его за собой в лес.
После этого они побежали рядом, как старые друзья, понявшие наконец друг друга. Дни проходили за днями, и они не расставались, вместе охотясь и деля убитую дичь. Спустя некоторое время волчицей овладело какое-то беспокойство. Казалось, она искала чего-то и не могла найти. Ее манили ямы, оставшиеся от упавших деревьев, и она целыми часами обнюхивала заполненные снегом трещины в скалах и пещерах под нависшими берегами. Старого Одноглаза это нисколько не интересовало, но он добродушно следовал за ней, и, когда ее поиски в каком-нибудь месте затягивались слишком долго, он ложился и терпеливо ждал, пока она не побежит дальше.
Они нигде не задерживались подолгу и, обойдя всю местность, вернулись к реке Макензи; они медленно шли вдоль реки, иногда отходя от нее, чтобы поохотиться на ее притоках, но постоянно возвращались к главному руслу. Изредка им попадались другие волки, обыкновенно парами, но встречи эти не возбуждали ни у тех, ни у других никакой радости или желания снова образовать стаю. Несколько раз им попадались одинокие бродячие волки. Это были всегда самцы; они стремились присоединиться к Одноглазу и волчице, но Одноглаз не допускал этого, и когда волчица становилась бок о бок с ним, ероша шерсть и показывая клыки, одинокие волки отступали и, поджав хвосты, продолжали свой унылый путь.
Однажды, в лунную ночь, пробегая по безмолвному лесу, Одноглаз вдруг остановился. Морда его поднялась кверху, хвост выпрямился и раздувшиеся ноздри принялись обнюхивать воздух. Кроме того, он поднял одну ногу, как это делают собаки. Он был недоволен и продолжал втягивать воздух, стараясь определить взволновавший его запах. Но волчица только раз небрежно втянула воздух и пошла дальше, стараясь этим успокоить его. Одноглаз последовал за ней, но беспокойство его не унималось, и он время от времени останавливался, чтобы тщательнее исследовать настороживший его запах.
Волчица осторожно выползла на край прогалины. Несколько минут она простояла там в одиночестве. Затем Одноглаз, пробираясь ползком, весь насторожившись, с взъерошенной шерстью, каждый волос которой выражал сильнейшее беспокойство, приблизился к ней. Они остановились рядом, прислушиваясь и нюхая воздух.
До их слуха донесся лай и рычание дерущихся собак, гортанные крики мужчин, визгливые голоса бранящихся женщин и раз даже пронзительный крик ребенка. За исключением больших обтянутых шкурами хижин, пламени костра, на фоне которого мелькали какие-то неясные фигуры, и ровно подымавшегося кверху дыма, ничего нельзя было разобрать. Но обоняние их было раздражено тысячами запахов индейского лагеря, запахов, ничего не говоривших Одноглазу, но до мельчайших подробностей знакомых волчице. Она почувствовала странное волнение и стала с возрастающим наслаждением втягивать воздух. Но старый Одноглаз был полон сомнений. Он чувствовал страх и сделал попытку уйти. Она обернулась, коснулась мордой его шеи, как бы успокаивая, и снова стала смотреть по направлению лагеря. В глазах ее опять появилось разумное выражение, но на этот раз его вызвал не голод. Она вся трепетала от желания пойти вперед, подойти ближе к костру и повозиться с собаками, ныряя и крутясь между человеческих ног.
Одноглаз нетерпеливо топтался около нее; беспокойство вновь охватило волчицу, и она снова ощутила потребность найти то, что искала. Она повернулась и побежала обратно в лес, к великой радости Одноглаза, который бежал впереди, пока они не скрылись под защитой деревьев.
Скользя, как тени, освещенные луной, они напали на след нарт. Оба носа опустились к следам на снегу. Следы были совсем свежие. Одноглаз осторожно бежал впереди, а волчица следовала за ним по пятам. Широкие лапы волков мягко, словно бархатные, ступали по снегу. Одноглаз уловил движение чего-то белого на белом фоне снега. До сих пор он бежал скользящей быстрой побежкой, но это было ничто в сравнении со скоростью, которую он развил теперь. Впереди него мелькал белый комок, привлекший его внимание.
Они бежали по узкой тропе, окаймленной с двух сторон молодыми соснами. Сквозь деревья виден был конец тропинки, выходившей на освещенную луной поляну. Одноглаз быстро приближался к заинтересовавшему его белому предмету. Прыжок за прыжком и, наконец, он настиг его. Еще прыжок – и он схватил бы его зубами. Но этого прыжка ему не удалось сделать. Белый клубок, оказавшийся белым зайцем, вдруг взвился высоко в воздух перед самым его носом и начал раскачиваться и скакать над ним, исполняя в вышине какой-то фантастический танец и ни на секунду не опускаясь к земле.
Одноглаз от неожиданности с ревом отскочил, затем улегся в снег и притаился, грозно рыча на таинственный и страшный предмет. Но волчица хладнокровно оттолкнула его. Она замерла на минуту и, прицелившись, бросилась на пляшущего в воздухе зайца. Она прыгнула высоко, но все же недостаточно, чтобы схватить прельщавшую ее добычу, и зубы ее с металлическим звуком щелкнули в воздухе. Она прыгнула в другой и в третий раз.
Волк медленно выпрямился и стал следить за своей подругой. Теперь он был, по-видимому, недоволен ее неудачными попытками и сам сделал могучий прыжок. Зубы его схватили зайца и потащили его вниз к земле. Но в ту же секунду старый волк услышал за собой подозрительный треск и с удивлением увидел над своей головой склонившуюся молодую сосну, которая грозила свалиться на него. Челюсти его разжались, выпустив добычу, и он отскочил в сторону, спасаясь от неожиданной опасности. Старик громко зарычал, и вся шерсть его от страха и ярости встала дыбом. В тот же миг молодая сосна выпрямилась, увлекая за собой вверх танцующего зайца.
Волчица пришла в ярость и вонзила свои клыки в плечо самца, а он, испугавшись и не соображая, что означает это новое нападение, ответил ей тем же, разодрав в кровь морду своей подруги. Этот отпор явился для волчицы полной неожиданностью, и она бросилась на Одноглаза, рыча от негодования. Он тотчас заметил свою ошибку и постарался умилостивить волчицу; но она решила хорошенько проучить своего товарища, и тот, отказавшись от мысли смягчить ее гнев, завертелся кругом, пряча голову и подставляя плечи под ее острые зубы.
Тем временем заяц продолжал свою пляску в воздухе. Волчица уселась на снег, а старый Одноглаз, напуганный ею еще больше, чем таинственным деревом, снова прыгнул за зайцем. Опустившись вниз, с зайцем в зубах, он первым долгом поглядел на сосну. Она, как и раньше, опять нагнулась к земле. Он съежился и ощетинился, ожидая удара, но все же не выпустил зайца. Однако удара не последовало. Сосна продолжала оставаться все в том же наклонном положении. Когда он двигался, двигалась и она, и тогда он рычал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он сохранял неподвижность, сосна делала то же самое, и поэтому он решил, что лучше не двигаться. Все же теплая кровь зайца казалась ему очень вкусной.
Из этого затруднительного положения его вывела волчица. Она взяла от него зайца, и пока сосна угрожающе качалась и дрожала над ней, она спокойно откусила ему голову. После этого сосна сразу выпрямилась и больше не беспокоила их, приняв перпендикулярное положение, в котором природа судила ей расти. Затем Одноглаз и волчица поделили между собой дичь, таинственно пойманную для них природой.
Они открыли еще много таких же тропинок, где зайцы висели в воздухе, и волчья пара исследовала их все; волчица шла впереди, а Одноглаз следовал за ней, наблюдая и учась у нее, как обкрадывать капканы. Этот урок сослужил ему впоследствии хорошую службу.
Глава II. Логовище
Целых два дня волчица и Одноглаз бродили вокруг индейского лагеря. Он испытывал смутную тревогу и беспокойство; волчицу же лагерь манил, и ей не хотелось уходить от него. Но когда однажды утром воздух огласился раскатистым выстрелом и заряд попал в ствол дерева на несколько дюймов выше головы Одноглаза, волки перестали колебаться и убежали легким упругим шагом, быстро отложив между собой и грозившей им опасностью несколько миль. Они не ушли далеко – всего несколько дней пути. Стремление волчицы найти то, что она искала, превратилось в настоятельную необходимость. Она отяжелела и не могла быстро бегать. Раз как-то, преследуя зайца, – занятие, не представлявшее для нее обычно никакого труда, – она почувствовала слабость и прилегла отдохнуть. Одноглаз подошел к ней; но когда он нежно коснулся ее шеи, она так злобно огрызнулась, что он отскочил назад, делая смешные усилия, чтобы избежать ее зубов. Она становилась с каждым днем вспыльчивее, он же, напротив, обнаруживал все больше терпения и заботливости.

Наконец, она нашла то, что искала. На несколько миль выше протекала небольшая река, впадавшаяся летом в Макензи. Зимой же она замерзала до самого каменистого дна и превращалась от истоков до устья в белую застывшую твердую массу. Волчица шла усталой походкой впереди, а за ней следовал Одноглаз; вдруг, заметив нависший выступ высокого берега, она свернула в сторону и направилась к нему. Весенние бури и тающие снега подмыли берег, образовав в одном месте небольшую пещеру с узким проходом.
Волчица остановилась у входа в пещеру и тщательно осмотрела стену. Затем побежала вдоль основания ее сначала в одну сторону, потом в другую, до того места, где каменная масса круто отрывалась от мягкой линии берега. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь; там ей пришлось проползти около трех футов, после чего стены расширились, образуя небольшую круглую камеру, приблизительно в шесть футов в диаметре. Потолок приходился почти над самой головой, но зато там было сухо и уютно. Волчица тщательно осмотрела всю пещеру, в то время как возвратившийся Одноглаз терпеливо поджидал ее у входа. Она пригнула голову, опустив нос к земле и протянув его как можно ближе к своим тесно сжатым ногам; затем, сделав вокруг этой точки несколько кругов, она с тяжелым вздохом, пожалуй, более похожим на стон, свернулась клубком, вытянула лапы и легла мордой ко входу в пещеру. Одноглаз, насторожив с любопытством уши, смеялся над ней, и при свете дневных лучей, проникавших в пещеру, волчица могла заметить очертания его хвоста, которым он добродушно помахивал.
Она прижала уши к голове, кокетливым движением направив их заостренные концы назад и вниз и мирно высунула язык, показывая таким образом, что чувствует себя вполне удовлетворенной и довольной.
Одноглаз был голоден. Он улегся у входа и заснул, но сон его не был спокоен. Он часто просыпался и прислушивался к тому, что творилось во внешнем мире, где апрельское солнце ярко блестело на снегу. Сквозь дремоту до его слуха доносилось журчание ручейков, и он поднимался, напряженно ловя эти звуки. Солнце возвратилось, и пробуждавшаяся северная природа манила его. Зарождалась новая жизнь. В воздухе пахло весной, под снегом чувствовалось брожение, живительные соки скоплялись в деревьях, распространяя острый аромат; набухшие почки сбрасывали с себя зимние оковы.
Напрасно бросал он беспокойные взгляды на волчицу, она не обнаруживала ни малейшего желания встать. Он оглянулся на внешний мир и увидел несколько белых птичек, пролетевших мимо пещеры. Старик поднялся было, чтобы выйти, но, посмотрев на свою подругу, снова улегся и задремал. Чей-то крошечный пронзительный голосок вдруг коснулся его слуха. Дважды во сне он провел лапой по носу. Затем проснулся. На кончике его носа жужжал комар. Это был старый солидный комар, по-видимому, из тех, которые проснулись после зимней спячки. Одноглаз не мог больше устоять против голоса природы. К тому же он был голоден.

Он подполз к волчице, стараясь убедить ее пойти вместе с ним. Но она зарычала на него, и он вышел один навстречу яркому солнцу. Снег сделался рыхлым и затруднял движения. Он направился к замерзшему руслу реки, где снег, защищенный тенью деревьев, сохранял еще некоторую твердость. Но, пробродив около восьми часов, он вернулся к вечеру в пещеру еще более голодным, чем ушел оттуда. Он видел дичь, но не сумел поймать ее. Он провалился в подтаявший снег, и, пока барахтался в нем, заяц легко ускользнул от врага.
Дойдя до пещеры, волк вдруг остановился, охваченный неясными подозрениями. До него доносились какие-то странные слабые звуки. Это не был голос волчицы, а между тем он показался ему как будто знакомым. Он осторожно пополз в пещеру, но был встречен грозным рычанием подруги. Это не смутило его, хотя и заставило остановиться на почтительном расстоянии; он продолжал с интересом прислушиваться к непрекращавшемуся писку и заглушенным стонам.
Волчица злобно прогнала его, и он снова улегся и заснул у входа. Наутро, когда слабый свет озарил пещеру, он начал доискиваться источника этих смутно знакомых ему звуков. В рычании волчицы появились какие-то новые ноты. В них чувствовалась ревность, и старый волк продолжал держаться на почтительном расстоянии. Тем не менее он успел заметить между ногами волчицы вдоль ее тела пять странных живых клубков, слабых, беспомощных и слепых, издававших какие-то жалобные звуки. Он страшно удивился. Подобные происшествия случались и раньше в его продолжительной и счастливой жизни, даже неоднократно, и тем не менее они всякий раз вызывали в нем глубокое удивление.
Его подруга посмотрела на него с тревогой. Время от времени она испускала ворчание, а когда ей казалось, что он подходит слишком близко, ворчание это переходило в рев. В ее памяти не хранилось, правда, соответствующего прецедента, но ее инстинкт, который воплощал в себе весь опыт матерей-волчиц, говорил ей, что существуют отцы, поедающие собственных беспомощных новорожденных детенышей. Это порождало в ней такой страх, что она не позволяла Одноглазу подойти посмотреть на своих собственных детей.
Но опасения ее были напрасны. Старый Одноглаз, в свою очередь, чувствовал повелительный импульс, который был тоже не чем иным, как инстинктом, унаследованным им от многих поколений волков-отцов. Он не задумывался над ним и не удивлялся его появлению. Этот импульс таился в каждой клеточке его существа, а потому вполне естественно, что он повиновался ему и тотчас же, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски мяса, необходимого для жизни.
В пяти или шести милях от логовища река разветвлялась под прямым углом и исчезала в горах. Направившись вдоль левого русла, Одноглаз напал на свежий след. Он обнюхал его и, почувствовав, что след только что проложен, быстро сжался, глядя в ту сторону, где он исчезал. Затем он решительно повернул направо и пошел вдоль правого русла. Следы были гораздо больше его собственных, и он понял, что тут ему ничем поживиться не придется. Пробежав вдоль правого русла около полумили, он уловил звук грызущих зубов; он подкрался к дичи и увидел, что это был дикобраз, который, опершись лапами о дерево, точил свои зубы о кору. Одноглаз осторожно приблизился к нему, питая, однако, мало надежды на успех. Он был знаком с этой дичью, хотя ему никогда еще не приходилось встречать ее в этих широтах; за всю свою жизнь он ни разу не пробовал мяса дикобраза. Но он давно уже знал, что на свете существуют такие вещи, как Счастье и Случай, и продолжал подкрадываться. Никогда нельзя предвидеть, что может произойти, когда дело идет о живых существах.
Дикобраз свернулся в клубок и выпустил во все стороны длинные, острые иглы, защищавшие его от нападения. Однажды, в своей юности, Одноглаз как-то слишком близко обнюхал такой на вид неподвижный клубок игл и получил неожиданно сильный удар хвостом по носу. Одна игла застряла у него в морде и оставалась там несколько недель, вызывая жгучую боль, пока не вышла, наконец, сама. Он улегся, выбрав удобное положение, так что морда его находилась на расстоянии фута от хвоста дикобраза, и стал терпеливо и спокойно ждать. Кто знает, что может случиться? Дикобраз, пожалуй, развернется, и тогда Одноглаз одним ударом лапы сумеет распороть его нежное незащищенное брюхо.
Но по истечении получаса он встал, злобно зарычал на неподвижный клубок и двинулся дальше. Ему случалось и прежде понапрасну терять время, ожидая, чтобы клубок развернулся, и он решил не рисковать на этот раз. Волк двинулся дальше вдоль правого русла реки, но день проходил, а добычи не было.
Пробудившийся в нем инстинкт отца властно требовал от него во что бы то ни стало найти мясо. Среди ночи он случайно наткнулся на птармигана. Выйдя из чащи леса, он столкнулся нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на бревне на расстоянии менее фута от морды Одноглаза. Оба одновременно заметили друг друга. Птица сделала попытку взлететь, но он ударил ее лапой, сбросил на землю и, накинувшись, вонзил в нее зубы в тот момент, когда она быстро побежала по снегу, пытаясь подняться на воздух. Как только зубы его впились в мясо и хрупкие кости, он принялся за еду; но потом, как будто вспомнив что-то, повернул обратно домой, неся птармигана в зубах.
По привычке мягко ступая, скользя, как тень, и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, он снова напал приблизительно в миле от разветвления на широкие следы, которые заметил еще утром. Поскольку следы шли по его пути, он тронулся дальше, готовый встретить их обладателя на каждом повороте реки.
Он выглянул из-за выступа скалы, где река делала необыкновенно большую извилину, и его зоркий взгляд уловил нечто такое, что заставило его прилечь. Это был обладатель замеченных им следов – большая рысь, и притом самка. Она лежала, съежившись, перед свернувшимся в клубок дикобразом точно так же, как лежал незадолго перед этим он. Если Одноглаз скользил раньше, как тень, то теперь он заскользил, как привидение, обходя зверей, пока не очутился далеко влево от безмолвной неподвижной пары.
Он улегся в снег, положив рядом с собой птармигана, и стал пристально наблюдать сквозь иглы низкорослой сосны за открывшейся перед ним сценой: рысь и дикобраз выжидали друг друга. Любопытное это было зрелище – наблюдать, как одно живое существо выжидало, чтобы съесть другое, а то, в свою очередь, выжидало, чтобы спасти свою жизнь. Тем временем старый Одноглаз, скорчившись за своим прикрытием, вмешался в эту игру, выжидая каприза судьбы, который помог бы ему в охоте за мясом, тоже составлявшим для него вопрос жизни.
Прошло полчаса, прошел час – ничего не изменилось. Клубок, покрытый иглами, по своей неподвижности напоминал камень; рысь походила на мраморное изваяние; старый Одноглаз казался мертвым. А между тем все три зверя напряженно ждали, и вряд ли когда-либо жизнь пульсировала в них интенсивнее, чем в минуту этого кажущегося окаменения.
Вдруг Одноглаз чуть-чуть подвинулся и с любопытством выглянул из своей засады. Что-то случилось. Дикобраз наконец решил, что враг его удалился. Медленно и осторожно он стал разворачивать свою непроницаемую броню. Его не волновало грозное предчувствие. Медленно, медленно клубок развернулся и вытянулся. Одноглаз вдруг ощутил какую-то влажность во рту; у него невольно потекли слюнки при виде живого мяса, развернувшегося перед ним, как лакомое блюдо.
Дикобраз заметил своего врага прежде, чем успел окончательно развернуться. В этот момент рысь ударила его лапой. Удар был молниеносный. Лапа с острыми загнутыми когтями вцепилась в мягкое брюхо и быстрым движением распорола его. Если бы дикобраз совершенно развернулся или заметил бы своего врага на секунду позже, чем тот успел нанести удар, лапа рыси осталась бы невредимой; но теперь боковым ударом хвоста дикобраз всадил в лапу рыси несколько острых игл.
Все это произошло почти одновременно: удар рыси, ответный удар ее жертвы, отчаянный визг дикобраза и вой огромной кошки, не ожидавшей нападения.
Одноглаз вскочил от волнения, насторожив уши и вытянув хвост. Рысь пришла в дикую ярость и ринулась на зверя, причинившего ей боль. Но дикобраз, визжа, ворча и безуспешно стараясь с распоротым брюхом снова свернуться в клубок, продолжал наносить рыси своим хвостом удары, заставлявшие ее каждый раз вскрикивать от удивления и боли. Наконец, она отступила, сильно чихая; морда ее была так утыкана иглами, что напоминала чудовищную подушку для булавок. Она терла ее лапами, стараясь избавиться от огненных стрел, тыкалась ею в снег, чесалась о ветки и стволы деревьев, делала во все стороны огромные прыжки, обезумев от боли и ужаса.
Она безостановочно чихала и быстрыми, сильными ударами своего обрубка-хвоста старалась отмахнуться от вонзившихся в нее игл. Наконец она перестала скакать и довольно долго оставалась неподвижной. Одноглаз напряженно следил. И даже он вздрогнул и невольно взъерошил шерсть, когда рысь вдруг без всякого предупреждения сделала громадный прыжок, испустив при этом протяжный дикий рев. Затем она поскакала прямо по дороге, сопровождая каждый прыжок громкими воплями. Только когда голос ее замер в отдалении, Одноглаз решился выйти из своей засады. Он шел так осторожно, как будто снег был усеян иглами дикобраза, которые могли каждую минуту наколоть его нежные лапы. Дикобраз встретил его писком и злобным щелканьем своих длинных зубов. Ему снова удалось свернуться в клубок, но это уже не был прежний плотный клубок: мускулы его были слишком истерзаны, и сам он, почти разодранный пополам, истекал кровью.
Одноглаз набрал полный рот обагренного кровью снега и начал жевать и глотать его. Это раздражало его слюнные железы, и голод его еще усилился, но он был слишком стар, чтобы забыть об опасности. Он терпеливо ждал, лежа на снегу, пока дикобраз щелкал зубами, ворчал, стонал и изредка болезненно взвизгивал. Вскоре Одноглаз заметил, что иглы начали опускаться, и дрожь пробежала по всему телу раненого зверя. Вдруг дрожь прекратилась, тело вытянулось и осталось неподвижным.
Нервным, боязливым движением лапы Одноглаз развернул дикобраза во всю его длину и повернул его на спину. Ничего не произошло. Он несомненно был мертв.
Минуту Одноглаз внимательно смотрел на него, затем осторожно схватил зубами и пошел вниз по реке, отчасти неся его, отчасти волоча по земле, отвернув голову, чтобы не касаться колючей шкуры зверя. Вдруг он вспомнил что-то, бросил свою добычу и вернулся к тому месту, где оставил птармигана. Он ни минуты не колебался. Он знал, что ему надо делать, и потому быстро съел птицу. Затем он вернулся и поднял дикобраза.
Когда он притащил свою добычу в берлогу, волчица осмотрела ее, повернула к нему морду и мягко лизнула его по шее. Но в следующую минуту она снова отогнала его рычанием от щенков, хотя на сей раз в этом рычании было больше извинения, чем злобы. Инстинктивный страх волчицы перед отцом ее потомства исчез. Он вел себя, как подобает отцу, и не выражал кощунственного желания уничтожить маленькие живые существа, которые она произвела на свет.
Глава III. Серый волчонок
Он заметно отличался от своих братьев и сестер; в то время как на их шерсти был заметен рыжий оттенок, унаследованный от матери-волчицы, он один походил в этом отношении целиком на отца. Он был единственным серым щенком из всего выводка. Одним словом, он уродился чистокровным волком, как две капли воды похожим на старого Одноглаза, с той только разницей, что у него было два глаза, а у отца один.

Глаза серого волчонка только недавно открылись, но он уже прекрасно различал предметы, а в то время, когда они были еще закрыты, ему помогали осязание, обоняние и вкус. Он прекрасно знал своих двух братьев и сестер и уже начинал неуклюже резвиться с ними и даже пробовал драться, причем из его маленького горлышка вырывались странные хриплые звуки – предвестники рычания. Еще задолго до того, как у него открылись глаза, он научился осязанием, вкусом и обонянием узнавать свою мать – этот источник тепла, жидкой пищи и нежности. У нее был мягкий ласкающий язык, который успокаивал его, когда она проводила им по его маленькому мягкому телу, и волчонок, почуяв его прикосновение, сильнее прижимался к матери и сладко засыпал.
Почти весь первый месяц своей жизни он провел во сне; но теперь он уже хорошо видел и, бодрствуя все дольше и дольше, прекрасно изучил окружавший его маленький мир. Его мир был мрачен, но он не сознавал этого, так как никогда не видел ничего другого. В его мире всегда царила полутьма, но глаза волчонка не знали еще, что такое яркий свет. Его мир был очень мал: границей ему служили стены берлоги; но, не имея понятия о просторе внешнего мира, он не испытывал стеснения от узких рамок своего существования.
Однако он довольно скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от остальных. Это был вход в берлогу, откуда проникал свет. Свое открытие он сделал задолго до того, как начал сознательно мыслить. Стена эта стала притягивать волчонка еще раньше, чем глаза его открылись, чтобы взглянуть на нее. Свет от нее ударял по сомкнутым векам, бил по зрительным нервам маленькими искрометными стрелками, теплыми и удивительно приятными. Все его тело и каждая частица этого тела влеклись к свету и толкали звереныша к нему, точно так же, как сложный химический процесс заставляет растение безудержно стремиться к солнцу. В самом начале своей жизни, еще до пробуждения сознания, он подползал к отверстию логовища; в этом братья и сестры следовали его примеру. Ни разу за это время никто из них не пытался ползти по направлению к темным углам задних стен. Свет манил их, как будто они были растения; жизненный процесс, руководивший ими, требовал света как необходимого условия существования, и их маленькие детские тела слепо и неудержимо тянулись к нему, словно ростки виноградной лозы. Позже, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность и в связи с этим стали определяться самостоятельные наклонности и желания, это стремление к свету еще более усилилось. Они вечно ползли и тянулись к нему, и волчице стоило немалого труда отгонять их обратно.
В скором времени волчонок познакомился и с другими особенностями своей матери, кроме ласкового и нежного языка. В своем постоянном стремлении к свету он узнал, что у матери есть еще острая морда, которая сильным толчком могла дать хороший урок, и лапа, умевшая ударить и перевернуть быстрым и уверенным движением. Он узнал еще ощущение боли и в то же время научился избегать ее; для этого следовало прежде всего не подвергать себя риску, а уж если проштрафился, надо было уметь вовремя отступить и извернуться. Это были уже сознательные поступки, явившиеся результатом его первых обобщений. Раньше он инстинктивно избегал боли, так же инстинктивно, как тянулся к свету. Теперь он стал избегать боли, сознавая, что это есть боль.
Он был свирепым волчонком. Такими же были его братья и сестры. Ничего удивительного в этом не было. Он был плотоядным животным и происходил от тех, кто убивал мясо и поедал мясо. Отец и мать его питались исключительно мясом. Молоко, которое он сосал в первые дни своей жизни, было непосредственным продуктом мяса, и теперь, когда ему минул месяц и глаза его уже неделю как открылись, он и сам начал есть это мясо, полупереваренное волчицей, которая изрыгала его для своих пяти подрастающих щенят, предъявлявших к ее материнской груди чересчур большие требования.
Но он был злее всех остальных волчат. Он умел рычать громче других, и припадки злости у него бывали страшнее, чем у них. Он первый научился опрокидывать братьев и сестер ударом лапы; он первый схватил другого волчонка за ухо и потащил его, рыча сквозь крепко стиснутые челюсти; и он же, несомненно, причинял своей матери больше всего хлопот, неудержимо стремясь подползти ко входу в берлогу.
Чарующая сила света с каждым днем все сильнее действовала на серого волчонка. Он то и дело ухитрялся подползать к самому выходу, и его то и дело отгоняли оттуда. Но он не знал, что это вход в берлогу. Он ничего не знал о выходах и входах, через которые переправляются, чтобы попасть из одного места в другое; не знал вообще никаких других мест, а тем паче как до них добраться. Поэтому вход в пещеру казался ему тоже стеной – стеной света. Эта стена являлась для него таким же источником благодати, как солнце для человека. Она притягивала его, как огонь притягивает бабочку. Он постоянно тянулся к ней. Жизнь, быстро распускавшаяся в нем, толкала его к стене света, ибо она знала, что это единственный выход в тот мир, где ему суждено жить. Но он сам ничего не знал об этом. Он и не подозревал о том, что существует другой мир.
С этой стеной света было связано одно странное обстоятельство. Отец его – которого он уже научился различать и считал единственным, кроме матери, обитателем мира, отец, спавший близко к свету и приносивший мясо, – обладал странной способностью проходить прямо сквозь светлую далекую стену и исчезать в ней. Серый волчонок не мог этого понять. Мать не позволяла ему подходить к светлой стене, но он обошел все другие стены, и везде его нежный нос встречал какое-то твердое сопротивление. Это вызывало болезненное ощущение, и после нескольких подобных опытов волчонок оставил темные стены в покое. Не вдаваясь в глубокие размышления, он решил, что способность отца исчезать, проходя сквозь стену, такая же присущая ему особенность, как молоко и полупереваренное мясо составляют особенность матери.
По правде сказать, серый волчонок не умел рассуждать, по крайней мере, в такой форме, как это делают люди. Мозг его работал смутно, но выводы, к которым он приходил, были так же определенны и ясны, как выводы людей. Он имел обыкновение мириться с обстоятельствами, не доискиваясь, откуда и почему они возникают. В сущности, он совершал при этом акт классификации. Его никогда не беспокоил вопрос, почему то или иное произошло; ему достаточно было знать, как это произошло. Так, ударившись несколько раз носом о стену, он примирился с тем, что не может пройти сквозь нее. Так же отнесся он и к тому, что отец его может исчезнуть в стене. Но ему не было любопытно узнать, почему существует эта разница между ним и отцом.
Как все дикие звери, он рано испытал голод. Наступило время, когда не только не стало мяса, но иссякло и молоко в груди его матери. Вначале волчата жалобно пищали и выли, но больше всего спали. Вскоре они дошли до крайней степени голода. Исчезли игры и ссоры, не стало слышно злобного рычания; прогулки к светлой стене совершенно прекратились. Волчата спали, а жизнь, теплившаяся в них, меркла и угасала.
Одноглазом овладело отчаяние. Он уходил далеко и надолго, редко ночуя в берлоге, где стало теперь тоскливо и неприветливо. Волчица тоже покидала свой выводок и уходила на поиски мяса. В первые дни после рождения волчат Одноглаз несколько раз наведывался в индейский лагерь и обкрадывал там заячьи капканы; но когда снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли, и этот источник питания для него иссяк.
Когда серый волчонок ожил и снова заинтересовался далекой белой стеной, он обнаружил, что население его маленького мира уменьшилось. У него осталась только одна сестра. Остальные исчезли. Когда он окреп, ему пришлось играть в одиночестве: сестра его не могла уже поднимать головы и двигаться. Его маленькое тело стало постепенно округляться от получаемого мяса, но для нее пища появилась слишком поздно. Она постоянно спала и походила на крошечный скелет, обтянутый кожей; жизнь в ней едва мерцала и, наконец, совсем угасла.

Затем настало время, когда серый волчонок заметил, что отец больше не приходит сквозь стену и не спит в берлоге. Это произошло в конце второй, менее жестокой голодовки. Волчица знала, почему Одноглаз не вернулся, но она не могла рассказать серому волчонку о том, что видела. Охотясь сама за мясом вдоль левого русла реки, где жила рысь, волчица напала на следы Одноглаза, проложенные им накануне. Она пошла по ним и нашла Одноглаза или, вернее, то, что от него осталось. Тут было много следов борьбы, следов, которые вели в берлогу рыси после одержанной ею победы. Прежде чем вернуться, волчица отыскала эту берлогу, но по некоторым признакам она угадала присутствие в ней рыси и не решилась войти.
С тех пор волчица, отправляясь за дичью, старательно избегала левого русла реки. Она знала, что в берлоге у рыси есть детеныши, а рысь была известна как злобное, свирепое существо и грозный враг в борьбе. Хорошо полудюжине волков загнать ощетинившуюся рысь на дерево; но совсем другое дело встретиться с ней одинокой волчице, в особенности если у этой рыси есть выводок голодных котят.
Однако первобытные условия остаются первобытными условиями, а материнство – материнством везде и во все времена. Настало время, когда ради своего серого волчонка волчица отважилась отправиться к левому руслу, к берлоге в скале, навстречу злобной рыси.
Глава IV. Стена мира
К тому времени, когда волчица стала покидать берлогу, отправляясь за дичью, волчонок уже как следует усвоил закон, запрещавший ему подходить ко входу в пещеру. Этот закон усиленно и неоднократно внушался ему мордой и лапой волчицы, а кроме того, в нем самом постепенно развилось чувство страха. Никогда в течение краткой пещерной жизни не встречал он ничего страшного, но все же страх жил в нем. Это было наследие предков, перешедшее к нему через тысячи и тысячи жизней, наследие, полученное им непосредственно от Одноглаза и волчицы, к которым это чувство страха в свою очередь перешло от всех предыдущих поколений волков. Страх! Наследие первобытного мира, которого не избежать ни одному живому существу. Итак, серый волчонок знал, что такое страх, но не понимал, откуда он берется. Возможно, он мирился с ним как с одним из жизненных ограничений, потому что уже узнал, что такие ограничения существуют. С голодом он уже успел познакомиться, и, когда оказался не в состоянии удовлетворить его, он понял, что значит лишение. Твердое прикосновение пещерной стены, резкий толчок материнской морды, болезненный удар ее лапы, неутолимый голод дали ему понять, что не все в жизни дозволено и возможно, что существуют ограничения и преграды. Эти ограничения и преграды были законами: повинуясь им, можно было избежать боли и жить счастливо.
Он, разумеется, не обсуждал этого вопроса с человеческой точки зрения. Он только разделил все предметы на те, которые делают больно, и те, которые не делают больно. И, разделив их таким образом, он избегал того, что причиняет боль – ограничения и преграды, – и наслаждался тем, что есть хорошего и приятного в жизни.
Вот почему, повинуясь закону, положенному его матерью, и побуждению неясного и непонятного чувства страха, он старался держаться подальше от входа в берлогу. Вход по-прежнему оставался для него светлой белой стеной. Когда мать отсутствовала, он в большинстве случаев спал, а проснувшись, лежал тихо, стараясь подавить щекотавший горло визгливый плач.

Однажды, лежа таким образом, он услышал какой-то странный звук у светлой стены. Он не знал, что это была россомаха, стоявшая у входа, дрожавшая от собственной смелости и осторожно обнюхивавшая содержимое пещеры. Волчонок знал только, что запах был незнакомый, какой-то непонятный, а потому неизвестный и страшный, так как неизвестность была одним из главнейших элементов, составлявших страх.
Шерсть встала дыбом на спине серого волчонка, но он не шевельнулся. Каким образом он догадался, что при появлении этого сопящего существа следует ощетиниться? Предшествовавший опыт не мог помочь ему в этом; то было попросту видимое выражение страха, жившего в нем, для которого в его собственной жизни не было никаких оснований. Но вместе со страхом проснулся в нем инстинкт самосохранения. Волчонок испытывал невероятный ужас, но продолжал лежать без движения, не издавая ни малейшего звука, застывший, окаменелый, полумертвый. Вернувшись домой, волчица зарычала, обнюхав след россомахи, затем бросилась в берлогу и стала ласкать волчонка и лизать его с необыкновенной нежностью.
Но в волчонке действовали и развивались еще и другие силы, из которых главной был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения. Рост требовал неповиновения. Его мать и страх побуждали его держаться подальше от светлой стены. Рост – это жизнь, а жизнь всегда стремится к свету. И не было силы, способной подавить могучий прилив жизни, который рос в нем с каждым куском проглоченного мяса и с каждым новым дыханием. Кончилось тем, что в один прекрасный день страх и повиновение сдались перед натиском жизни, и волчонок пополз к выходу.
В отличие от других стен, с которыми ему приходилось иметь дело, эта стена, казалось, отступала по мере того, как он приближался к ней. Его нежная мордочка не встретила никакого подобия твердой поверхности, когда он робко высунул ее вперед. Вещество стены оказалось проницаемым и прозрачным, как свет. И так как всякое свойство в его глазах тотчас же приобретало видимость формы, то он вошел в то, что считал стеной, и окунулся в вещество, из которого она состояла.
Это было поистине изумительно. Он полз сквозь твердое тело, и по мере того как он подвигался вперед, свет становился ярче. Страх побуждал его вернуться, но рост толкал его дальше. Внезапно он очутился перед входом в пещеру. Стена, внутри которой он, по его мнению, находился, вдруг как бы отступила перед ним на громадное расстояние. Свет сделался до боли ярким, ослепляя его. Голова волчонка закружилась при виде внезапно открывшегося перед ним пространства. Глаза стали машинально приноравливаться к нему, стараясь уловить увеличившиеся пропорции. Сначала стена отодвинулась за пределы его поля зрения. Через миг он снова увидел ее, но заметил, что она сильно отдалилась от него. Внешний вид ее тоже совершенно изменился: теперь она стала много разнообразнее, чем была прежде, на ней появились деревья, окаймлявшие реку, горы, возвышавшиеся над деревьями, и небо, в свою очередь, возвышавшееся над горами.
Сильный страх охватил волчонка. Перед ним был ужас неизвестного. Он улегся на пороге пещеры и воззрился на внешний мир. Он был сильно напуган. Все это было незнакомо, а значит, и враждебно ему. Шерсть стала дыбом на его спине; губы слабо сжались, пытаясь издать угрожающее и свирепое рычание. Сознавая свою беспомощность и ужасное положение, он бросал вызов всему миру.
Ничего не произошло. Он продолжал смотреть и от любопытства забыл свой страх и перестал рычать. Он начал различать ближайшие предметы – открытую часть реки, сверкавшую на солнце, высохшую сосну у подножия склона, и самый склон, поднимавшийся прямо к нему и оканчивавшийся двумя футами ниже порога пещеры, на котором он лежал.
До сих пор волчонок прожил всю свою жизнь на гладкой поверхности. Он ни разу не испытывал боли от падения и не знал, что это такое. Вот почему он смело сделал шаг вперед. Задние ноги его остались на пороге в то время, как передние сделали движение, и он упал головой вниз. Он больно ударился носом о землю и завизжал. Затем волчонок покатился вниз по склону и несколько раз перекувырнулся. Его обуял панический ужас. Неизвестное свирепо охватило его своими когтями, готовясь нанести ему страшный удар. На этот раз страх победил силу роста, и волчонок запищал, как испуганный щенок.
Неизвестное несло его к какому-то неведомому ужасу, и он не переставал визжать и пищать. Это ощущение совсем не походило на тот страх перед неизвестным, который он испытал, лежа в берлоге. Теперь неизвестное подошло к нему вплотную, и страх превратился в ужас. На этот раз молчание уже не могло выручить его из беды.

Однако склон сделался понемногу более отлогим, а подножие его оказалось поросшим травой. Здесь волчонок покатился медленнее. Остановившись наконец, он издал последний жалобный вопль и вслед за тем протяжный плаксивый визг. И тут же, как будто он уже тысячу раз в своей жизни занимался туалетом, волчонок принялся слизывать сухую, приставшую к шерсти грязь. После этого он сел и начал озираться по сторонам, как сделал бы это первый человек, попавший на Марс. Волчонок пробил стену мира. Неизвестное выпустило его из своих когтей, не причинив ему вреда. Но первый человек на Марсе, наверное, испытал бы меньше удивления, чем он. Не обладая никакими предварительными знаниями, даже не подозревая о существовании чего-либо подобного, он оказался в положении исследователя совершенно нового для него мира.

С той минуты, как неизвестное выпустило его из своих лап, он позабыл о том, сколько ужаса оно таит в себе. Теперь он испытывал только сильное любопытство ко всему окружающему. Он с интересом исследовал траву под собой, листья росшей неподалеку брусники и высохший ствол сосны, стоявшей на краю поляны, среди других деревьев. Белка, выбежав из-за ствола, со всего размаху налетела на волчонка и до смерти перепугала его. Он прилег и зарычал. Но белка испугалась не меньше волчонка. Она взобралась на дерево и сердито зашипела на него, почувствовав себя там в безопасности.
Этот инцидент придал зверенышу мужества, и хотя повстречавшийся ему дальше дятел заставил его вздрогнуть, он все же уверенно продолжал свой путь. Эта уверенность так укрепилась в нем, что, когда какая-то птица неосторожно подскочила к малышу, он игриво ударил ее лапой. Ответом на это был острый удар клювом по носу, заставивший волчонка присесть и завизжать. Эти звуки напугали птицу и обратили ее в бегство.
А волчонок между тем набирался премудрости. Его неразвитый маленький умишко бессознательно анализировал. Существовали, по-видимому, одушевленные и неодушевленные предметы. За одушевленными необходимо было наблюдать. Неодушевленные предметы оставались всегда на одном месте; одушевленные же двигались, и предугадать их поступки было очень трудно. Вернее, от них следовало всегда ожидать неожиданного, и ему, таким образом, нужно было прежде всего держаться начеку. Он двигался очень неуклюже, то и дело ударяясь о различные попадавшиеся на пути предметы. Ветка, которая казалась ему еще далекой, в следующее мгновение ударяла его по носу или неожиданно хлестала по спине. На поверхности, по которой он шел, встречались неровности. Иногда он спотыкался и тыкался носом в землю, иногда вдруг садился на задние ноги. Были еще камни и голыши, переворачивавшиеся у него под лапами, когда он наступал на них, и из этого он заключил, что не все неодушевленные предметы находятся в одинаковом состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что небольшие предметы легче переворачиваются и падают, чем крупные. Но каждая неудача обогащала его опыт. Чем дальше он шел, тем лучше и ловчее двигался. Он приспосабливался: учился соразмерять движения своих мускулов, знакомился с пределами своих физических возможностей, пробовал определять расстояние между отдельными предметами и между предметами и самим собой.
Ему сопутствовало счастье новичка. Рожденный охотником за живым мясом (хотя он и не знал этого), волчонок наткнулся на это мясо у самого входа в родную пещеру при первом своем выходе в свет. Совершенно случайно он набрел на искусно спрятанное гнездо птармиганов. Он попросту свалился в него. Он рискнул пройтись по стволу упавшей сосны. Подгнившая кора провалилась, волчонок с отчаянным визгом покатился со ствола в густую листву кустарника и в самой чаще его на земле очутился среди семи птенцов птармиганов.
Они подняли отчаянный шум и вначале сильно напугали его. Но, заметив, что они очень маленькие, волчонок осмелел. Они беспокойно двигались. Он положил лапу на одного из них, и это доставило ему удовольствие. Он понюхал птенца и взял его в зубы. Птенец затрепыхался и стал щекотать ему нос. В ту же минуту он почувствовал голод. Челюсти его сжались. Послышался хруст тонких косточек, и пасть волчонка наполнилась теплой кровью. Птармиган показался ему вкусным; это было мясо, то самое, которое давала ему мать, но только вкуснее, так как оно было живое. И он съел птармигана и не переставал есть до тех пор, пока не съел весь выводок. Затем он облизался точь-в-точь, как это делала его мать, и пополз вон из чащи.
Вдруг на него налетел крылатый вихрь. Шум и злобные удары крыльев ослепили и ошеломили его. Он спрятал морду между лапами и завизжал. Удары усилились. Мать птармиганов была вне себя от ярости. Наконец волчонок тоже разозлился. Он вскочил, зарычал и стал бить лапами куда попало: он вцепился крошечными зубами в крыло птицы и принялся изо всех сил трепать его. Птармиган боролся с ним, нанося ему удар за ударом свободным крылом. Это была первая схватка волчонка. В пылу битвы он забыл обо всем и утратил страх перед неизвестным. Он боролся с живым существом, которое причиняло ему боль. К тому же существо это было – мясо. Жажда убийства загорелась в нем. Только что перед этим он уничтожил несколько маленьких живых существ. Теперь ему хотелось чего-нибудь большего. Он был слишком увлечен и счастлив, чтобы вполне оценить прелесть этой минуты. Он весь трепетал от неизведанного восторга, величайшего из всех, которые он когда-либо испытал.
Волчонок не выпускал крыла, рыча сквозь крепко стиснутые зубы. Птица выволокла его из куста. Когда она повернула, стараясь снова втащить его под защиту листвы, он воспротивился и увлек ее на открытое место. Она испускала отчаянные крики, не переставая бить его свободным крылом, так что перья летали вокруг, точно снежный вихрь. Возбуждение волчонка достигло высшего напряжения. В нем заговорил инстинкт борьбы, присущий его породе. Это была жизнь, хотя он и не сознавал ее. Он осуществлял свое назначение на этом свете: убивать и драться, чтобы добывать мясо. Он оправдывал свое существование, а ведь в этом и заключается смысл жизни, ибо жизнь только тогда достигает высшего напряжения, когда в полной мере осуществляет свое назначение.
Через некоторое время птармиган перестал бороться. Волчонок еще держал его за крыло, и они лежали на земле, глядя друг на друга. Он попытался грозно зарычать на птицу, но она клюнула его в нос, который после многочисленных происшествий этого дня стал очень чувствителен. Волчонок завизжал, но не выпустил крыла. Она продолжала клевать. Визг его перешел в жалобный вой. Он попытался уйти от нее, позабыв, что, не выпуская ее крыла, он сам тянет ее за собой. Град ударов сыпался на его раненый нос. Воинственный пыл угас, и, выпустив добычу, волчонок стал искать спасения в позорном бегстве.
Добежав до другого края поляны, он прилег отдохнуть около кустов. Высунув язык и тяжело дыша, малыш продолжал визжать от мучительной боли в носу. Вдруг его охватило предчувствие чего-то страшного. Неизвестное со всеми его ужасами подстерегало его где-то поблизости, и он инстинктивно попятился назад под защиту кустов. В то же мгновение его ударила сильная струя воздуха, и большое крылатое тело зловеще и бесшумно пронеслось мимо него. Огромный коршун, спустившийся с синевы неба, чуть-чуть не унес волчонка.
Пока он отлеживался в кустах, осторожно выглядывая из-за ветвей и понемногу приходя в себя от пережитого страха, мать птармиганов вылетела по другую сторону поляны из своего разоренного гнезда. Потрясенная своим несчастьем, она не обратила внимания на крылатую стрелу в небе. Но волчонок видел все и учился: коршун стремительно опустился, вцепился когтями в тело птицы, издавшей протяжный предсмертный крик, и взвился в голубую высь, унося с собой добычу. Прошло немало времени, прежде чем волчонок решился наконец покинуть свое убежище. Он многому научился. Одушевленные существа были мясом; они были хороши на вкус. Но если они бывали велики, то могли причинить боль. Поэтому лучше было есть маленьких животных, вроде птенцов птармигана, и не трогать больших, вроде самки птармигана. Тем не менее самолюбие его было немного уязвлено, и в нем возникло желание вступить еще раз в бой с этой птицей. К сожалению, ее уже унес коршун, но, быть может, на свете существуют и другие птармиганы. Он решил убедиться в этом.
Волчонок спустился к реке. До сих пор ему никогда еще не приходилось видеть воду. Дорога казалась заманчивой. На поверхности воды не было заметно никаких неровностей. Он смело вступил на нее, провалился и закричал от страха в объятиях неизвестного. В воде было холодно, и он начал задыхаться, порывисто и часто переводя дух. Вместо привычного воздуха в легкие ему попадала вода. Он захлебнулся и в ту же минуту почувствовал приступ смертельной тоски. Для него это была смерть. Он ничего не знал о смерти, но, как всякое животное, обладал инстинктом смерти и смутно чувствовал, что это и есть величайшее страдание. Это была сущность неизвестного, сумма всех его ужасов, единственная и непоправимая катастрофа, о которой он ничего не знал и которой поэтому боялся еще сильнее.
Волчонок всплыл на поверхность, и чистый воздух ворвался в его открытую пасть. Больше он не погрузился. Как бы следуя давно укоренившейся привычке, он заработал всеми своими четырьмя лапами и поплыл. Ближайший берег был на расстоянии ярда от него, но он всплыл на поверхность спиной к нему, и первое, что бросилось ему в глаза, был противоположный берег, к которому он и направился. Речка была небольшая, но на середине течения она расширялась на несколько десятков футов.
На полпути к берегу течение подхватило и понесло его вниз. Здесь он попал в маленький водоворот, где плыть было очень трудно. Спокойная река вдруг рассвирепела. Волчонок то скрывался под водой, то снова выплывал на поверхность. Его беспрерывно трепало и швыряло во все стороны, а иногда даже ударяло о скалы. И при каждом таком столкновении он жалобно визжал. Его продвижение сопровождалось целым рядом взвизгиваний, по которым можно было бы сосчитать количество попадавшихся на его пути скал.
Ниже водоворота река опять расширялась, и здесь течение, подхватив звереныша, мягко вынесло его на песчаный берег. Он выкарабкался из воды и прилег отдохнуть. Теперь он узнал еще кое-что. Вода не была одушевленной, однако она двигалась. Она казалась плотной, как земля, но в действительности совсем не обладала плотностью. Из этого волчонок сделал заключение, что не все вещи таковы, какими кажутся на первый взгляд. Страх перед неизвестным волчонок унаследовал от предков, а теперь это врожденное недоверие к неведомому еще усилилось благодаря опыту. Отныне он не станет уже доверять внешности, как бы заманчива она ни казалась. Прежде чем положиться на какой-нибудь предмет, он постарается тщательно ознакомиться с его сущностью.
В этот день ему суждено было испытать еще одно приключение. Он вспомнил вдруг, что на свете существует его мать, и в ту же минуту почувствовал, что она ему нужнее всего остального в мире. Не только тело его, но и маленький мозг испытывали усталость от всего перенесенного. Никогда еще им не приходилось так тяжело работать, как в этот день. Кроме того, ему хотелось спать. Чувствуя себя глубоко беспомощным и одиноким, он снова двинулся в путь с целью отыскать берлогу и свою мать.
Он пробирался между кустов, как вдруг услыхал резкий крик, заставивший его содрогнуться. Что-то желтое промелькнуло перед глазами волчонка. Он заметил ласку, быстро убегавшую от него. Это было маленькое живое существо, и он не испугался его. Вдруг у самых своих ног он увидел крошечного зверька, длиной всего в несколько дюймов. То была маленькая ласка-детеныш, так же неосторожно, как и он, покинувшая свое гнездо. Она сделала попытку скрыться от него. Волчонок перевернул ее лапой. Она издала странный хриплый звук. В следующее мгновение что-то желтое снова сверкнуло перед его глазами. Волчонок услыхал тот же резкий крик, тут же получил сильный удар в шею и почувствовал, как острые зубы ласки-матери впились в его тело. С визгом и воем волчонок отпрыгнул назад и увидел, как ласка-мать, подхватив своего детеныша, скрылась с ним в ближайшей чаще.

Шея его сильно ныла от боли, но еще сильнее оскорблены были его чувства, и он уселся, продолжая жалобно повизгивать. Эта ласка-мать была такая маленькая и такая свирепая. Однако ему еще предстояло узнать, что, несмотря на свой малый рост и вес, ласка была самым жестоким, мстительным и кровожадным из всех хищных животных. Вскоре он убедился в этом на собственном опыте.
Он все еще подвывал, когда ласка вернулась. Она не кинулась на него на этот раз, так как детеныш ее был в безопасности. Она осторожно приблизилась, и волчонок мог без труда разглядеть ее худое змеевидное тело и вытянутую злобную, тоже похожую на змеиную голову. Ее угрожающий резкий крик прорезал воздух; в ответ на него волчонок грозно зарычал. Ласка подступала все ближе и ближе. Вдруг она сделала быстрый прыжок, которого его неопытному глазу не удалось заметить, и ее худое желтое тело на секунду исчезло из его поля зрения. Но в следующую секунду она острыми зубами вцепилась ему в горло. Сначала он зарычал и попытался вступить в борьбу. Но он был еще очень молод и в первый раз странствовал по свету, поэтому рычание его вскоре сменилось писком, а воинственный пыл – стремлением обратиться в бегство. Ласка ни на минуту не выпускала волчонка. Она висела на нем, стараясь зубами добраться до главной артерии, где клокотала кровь. Ласка питалась кровью и предпочитала пить ее теплой.
Серый волчонок, несомненно, умер бы, и о нем не существовало бы рассказа, если бы неожиданно из-за кустов не выскочила волчица. Ласка выпустила волчонка и бросилась к горлу волчицы, но промахнулась и вцепилась ей в челюсть. Волчица мотнула головой, как бичом, и вскинула ласку высоко на воздух. Тут же в воздухе она поймала зубами худое желтое тело, и ласка нашла смерть между острыми зубами волчицы.

Волчонок испытал на себе новый прилив нежности со стороны матери. Ее радость при встрече с ним, казалось, была еще сильнее его радости. Она ласкала его, тыкала носом и зализывала раны, нанесенные ему зубами ласки. Затем мать и сын поделили между собой кровопийцу и, вернувшись в берлогу, крепко заснули.
Глава V. Закон жизни
Волчонок быстро развивался. Два дня он посвятил отдыху, а на третий снова вышел из берлоги. На этот раз ему попалась молодая ласка, мать которой он съел вместе с волчицей, и сын Одноглаза позаботился о том, чтобы она отправилась по следам своей матери. Но в этот день он уже не заблудился и, почувствовав усталость, вернулся в свою берлогу и заснул. Теперь он стал ежедневно отправляться в странствие и с каждым разом заходил все дальше и дальше. Вскоре он научился соразмерять свои силы и понял, где следует выказывать смелость и где надо соблюдать осторожность. Он нашел, что выгоднее всего постоянно держаться настороже; и только в редких случаях, будучи вполне уверен в своих силах, он давал волю своей злобе и желаниям.
При виде одинокого птармигана он превращался всякий раз в маленького разъяренного демона. Он никогда не забывал ответить рычанием на трескотню белки, которую увидел в первый раз на высохшей сосне. А вид полярной птицы приводил его в дикую ярость; он не мог забыть, что кто-то из ее родичей клюнул его в нос в тот достопамятный день, когда он впервые вкусил самостоятельной жизни.
Но бывали моменты, когда даже полярная птица не могла взволновать его. Это случалось тогда, когда ему самому грозила опасность стать жертвой другого хищника. Он никогда не забывал коршуна, и его движущаяся тень неукоснительно заставляла волчонка прятаться в кусты. Он перестал спотыкаться и переваливаться и научился ходить, как мать, легкой и крадущейся походкой, непринужденной на вид и быстрой, но обманчивой, ибо быстрота эта была почти незаметна для глаза.
С мясом ему везло только вначале. Семь птенцов птармиганов и детеныш ласки – это была пока вся его добыча. А желание убивать росло в нем с каждым днем, и он с вожделением поглядывал на белку, которая своей громкой трескотней предупреждала зверей о его приближении. Но подобно тому, как птицы летали по воздуху, белки лазали по деревьям, и волчонок мог незаметно подкрадываться к ним только в те минуты, когда они прыгали по земле.
Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести и на его долю. Кроме того, она ничего не боялась. Ему не приходило в голову, что эта смелость являлась результатом опыта и знания; на него она производила впечатление безмерной силы. Мать его была олицетворением этой силы. Подрастая, он начал испытывать эту силу на себе в ударах материнской лапы, а также в прикосновении ее острых зубов, сменившем прежний толчок носом. За это он также уважал мать. Она требовала от него повиновения, и чем старше он становился, тем строже делалась мать.
Снова наступил голод, и волчонок на этот раз уже сознательно перенес его муки. Волчица похудела, бегая в поисках мяса. Теперь она редко оставалась на ночь в пещере и проводила все время в охоте за дичью, но все понапрасну. Голод этот продолжался недолго, но зато был особенно жесток. Волчонок уже не находил молока в груди матери и не получал ни кусочка мяса.
Прежде он охотился шутя, ради забавы; теперь он принялся за дело серьезно, но все попытки его ни к чему не приводили. Эти неудачи ускорили его развитие. Он стал тщательно изучать привычки белки, прилагая все усилия, чтобы незаметно подкрасться к ней. Он следил за лесными мышами, стараясь вырывать их из нор, и узнал многое о полярных птицах и дятлах. Наступил, наконец, день, когда тень коршуна не заставила его искать спасения в кустах. Он окреп, поумнел и обрел веру в себя. Кроме того, он был отчаянно голоден. Усевшись нарочно на открытом месте, он старался заманить коршуна вниз. Он знал, что там наверху, в далекой синеве, парит мясо, то мясо, которого так настоятельно требовал его желудок. Но коршун не желал спускаться и вступать в бой, и волчонок снова уполз в чащу, громким визгом выражая свое разочарование и голод.
Наконец голод кончился. Волчица принесла домой мясо, странное мясо, какого она никогда еще не приносила ему. Это был котенок рыси, пожалуй, ровесник волчонка, но не такой большой. И он весь предназначался ему. Его мать уже утолила свой голод в другом месте, утолила его остальными котятами рысиного выводка. Он не понимал, какой это был отчаянный поступок с ее стороны. Он знал только, что котенок с бархатистой шкурой – мясо, и жадно уничтожал его, а с каждым куском все существо его наполнялось счастьем.
Полный желудок располагает к бездействию; волчонок улегся в пещере и заснул, прижавшись к матери. Он проснулся от ее рычания. Никогда в жизни не слыхал он такого рычания. Да, возможно, что и рысь за всю свою жизнь никогда не испускала столь грозного рева. Но основания для гнева у нее были весьма веские, и никто лучше волчицы не знал этого. Нельзя безнаказанно уничтожить выводок рыси. При ярком солнечном освещении волчонок увидел лежавшую у входа в пещеру рысь. Шерсть встала дыбом на его спине. Перед ним был ужас, и ему незачем было обращаться к своему инстинкту, чтобы понять это. И если зрительное впечатление могло показаться недостаточно убедительным, то крик ярости, который испустила нежданная гостья, крик, начавшийся рычанием и перешедший в хриплый визг, не мог оставить места никаким сомнениям.
Волчонок почувствовал прилив жизненной энергии и, став рядом с матерью, храбро зарычал. Но она презрительно оттолкнула его назад. Низкий вход мешал рыси сделать прыжок, и, когда она вползла в берлогу, волчица бросилась на нее и прижала ее к земле. Волчонок не мог уследить за борьбой. До него долетали только визг, рычание и злобное шипение. Оба зверя немилосердно терзали друг друга: рысь пускала в ход и острые когти и зубы, в то время как волчица работала только одними зубами.
Раз волчонок подскочил и впился зубами в заднюю ногу рыси. Он повис на ней, дико рыча. Сам того не сознавая, он своей тяжестью стеснил движения рыси и тем сильно помог своей матери. Вдруг борьба приняла другой оборот, и волчонок, выпустив ногу рыси, очутился под телами обоих борющихся врагов. В следующий миг обе разъяренные матери отскочили друг от друга, но прежде, чем они успели вновь сойтись, рысь с такой силой ударила волчонка своей огромной передней лапой, что тот откатился к задней стене берлоги. Плечо его было до самой кости разодрано острыми когтями рыси, и к бешеному шуму борьбы прибавился жалобный писк детеныша. Но борьба продолжалась так долго, что он успел не только накричаться, но даже испытать новый прилив смелости и к концу битвы снова с яростным рычанием впился в заднюю ногу рыси.
Рысь лежала мертвая, но волчица сильно ослабела.
Сначала она принялась ласкать волчонка и зализывать его раненое плечо, но потеря крови совершенно обессилила ее, и волчица целые сутки пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и едва дыша. Всю неделю она почти безвыходно сидела в пещере, выбираясь оттуда только за водой; движения ее были медленны и болезненны. За это время мать и сын съели рысь, а раны волчицы достаточно зажили для того, чтобы позволить ей снова охотиться за мясом.
Плечо волчонка онемело и болело, и он довольно долго хромал от страшной раны. Но весь мир изменился теперь для него. Самоуверенно, с чувством собственного достоинства, которого он не испытывал до битвы с рысью, гулял он теперь по белому свету. Он познакомился с самой суровой и жестокой стороной жизни; он дрался; он впивался зубами в тело врага и остался жив. И он держался теперь смело, даже немного вызывающе, чего до сих пор никогда с ним не бывало. Исчез страх перед мелкими зверьми, исчезла робость; но неизвестное, со всеми его таинственными ужасами, неуловимое и грозное, по-прежнему висело над ним.
Волчонок начал сопровождать свою мать на охоту за мясом. Он смотрел, как она убивала дичь, и даже иногда принимал в этом участие. И по-своему, смутно, он стал усваивать закон жизни. Существовали два вида жизни: его собственная и чужая. К первой относились он и его мать; под понятие чужой жизни подходили все прочие живые существа. Но эта чужая жизнь подразделялась еще на две: к первой принадлежали те, кого его порода убивала и ела. Это были не хищники или мелкие хищники. Ко второй относились те, кто убивал и ел его породу или бывал ею убит и съеден. Из этого подразделения вытекал закон. Целью жизни было мясо. Сама жизнь была мясом. Жизнь питалась жизнью. Все живущее делилось на тех, кто ел, и тех, кого ели. Значит, закон гласил: есть или быть съеденным. Волчонок, разумеется, не мог ясно формулировать этот закон и вдаваться в его обсуждение. Он даже не задумывался над ним, а просто слепо выполнял его.
Повсюду волчонок наблюдал действие этого закона. Он съел птенцов птармиганов. Коршун съел их мать и съел бы точно так же его самого. Позже, когда он вырастет, он съест коршуна. Сам он съел котенка рыси. Рысь-мать, несомненно, съела бы его, если бы не была сама убита и съедена. И так до бесконечности. Все живое действовало согласно этому закону и подчинялось ему, и сам он также являлся частицей этого закона. Он был хищник. Его единственной пищей было мясо – живое мясо, убегающее перед ним, взлетающее на воздух, взбирающееся на деревья, прячущееся под землю, борющееся с ним или нападающее на него.
Если бы волчонок мог мыслить по-человечески, он представил бы себе жизнь в виде ненасытного аппетита, а весь мир в виде места, в котором сосредоточено множество таких аппетитов, пожираемых и пожирающих беспорядочно и слепо, жестоко и безрассудно, в хаосе прожорливости и кровопролития, которым управляет простая случайность – безжалостная, беспорядочная и бесконечная.
Но волчонок не умел мыслить по-человечески. У него не было широких горизонтов. В каждую данную минуту он преследовал только одну цель, испытывая только одно желание. Помимо главного закона – закона жизни – существовало еще множество других законов – второстепенных, которые ему надо было изучить. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, бившая в нем ключом, игра его мускулов являлись для него источником неисчерпаемого счастья. Охота за мясом и связанные с ней приключения давали ощущение волнения и радости; борьба была наслаждением. И даже ужас и тайна неизвестного только сильнее возбуждали жажду к жизни.
Жизнь давала немало удовольствий и приятных ощущений: полный желудок, безмятежный сон на солнце достаточно вознаграждали его за все хлопоты и труды, а труд и сам по себе был радостью. Труд был проявлением жизни, а жизнь – счастье, когда она проявляет себя. И волчонку не приходило в голову плакаться на окружавшую его враждебную среду. Он был полон жизненной энергии, счастлив и горд собой.
Часть третья
Глава I. Творцы огня
Совершенно неожиданно наткнулся на них волчонок. Это произошло по его собственной вине. Он был неосторожен, покинул свою берлогу и побежал к речке напиться. Возможно, что он ничего не заметил, так как он был спросонья. (Он всю ночь охотился за мясом и только что перед этим проснулся.) Скорее же всего его беспечность объяснялась тем, что он уже не раз ходил к речке и никогда еще с ним ничего не случалось.
Он прошел мимо высохшей сосны, пересек поляну и зашагал между деревьями. В ту же минуту он увидел и почувствовал что-то. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ, подобных которым он еще никогда не видел. Это было его первое знакомство с людьми. Но при виде его эти пятеро не вскочили на ноги, не оскалили зубы и не зарычали. Они продолжали сидеть, как будто ничего не произошло, неподвижно и зловеще.

Волчонок тоже не двигался. Инстинкт непременно заставил бы его обратиться в бегство, если бы в нем не проснулся совершенно неожиданно, в первый раз, другой противоположный инстинкт. Чувство глубокого благоговения овладело им. Внезапное сознание собственной слабости и ничтожества сковало его движения. Перед ним были сила и власть.
Волчонок никогда до сих пор не видел человека, но инстинктивно почувствовал к нему уважение. Он смутно сознавал, что это то живое существо, которое завоевало себе первое место в мире животных. Он смотрел на человека не только своими глазами, но и глазами своих предков, не раз пристально глядевших в темные зимние вечера на лагерные костры людей и следивших на почтительном расстоянии из-за кустов за этим странным двуногим животным, властвующим над всеми остальными живыми существами. Волчонок ощущал в душе наследственный страх и уважение – результат вековой борьбы и опыта многих поколений волков. Влияние этой наследственности особенно сильно сказывалось на волчонке по молодости его. Будь он взрослым волком, он, несомненно, убежал бы. Но вместо того он лег, почти онемев от ужаса, в сущности изъявив уже в этот момент ту покорность, которую проявляла его порода с тех пор, как первый волк подошел к человеку и сел греться у его костра.
Один из индейцев встал, подошел ближе и наклонился над ним. Волчонок съежился и пригнулся к земле. Неизвестное, воплощенное в реальный образ, склонилось над ним, готовясь схватить его.
Шерсть невольно взъерошилась на спине волчонка: губы сморщились, обнажив маленькие клыки. Рука, занесенная над ним подобно року, осталась висеть в воздухе, и человек, смеясь, сказал:

– Посмотрите, какие у него белые клыки!
Другие индейцы громко расхохотались и стали уговаривать товарища поднять волчонка. По мере того как рука все ниже и ниже опускалась над зверенышем, в нем происходила борьба двух инстинктов. Он испытывал одновременно два сильных желания: вступить в борьбу и подчиниться. Результатом явился компромисс: он последовал обоим влечениям. Он покорно дождался, пока рука не коснулась его, а затем вступил в борьбу и острыми зубами впился в руку индейца. В следующую минуту он получил сильный удар кулаком по голове, сваливший его на бок. Тут пыл борца покинул его. Молодость и инстинкт подчинения взяли верх. Он сел на задние лапы и завизжал. Но человек, которого он укусил, был рассержен. Он ударил его второй раз кулаком по голове, после чего волчонок завизжал громче прежнего.
Четверо индейцев снова засмеялись, и даже тот, которого волчонок укусил, тоже расхохотался. Они со смехом окружили его, в то время как он визжал от страха и боли. Вдруг он услыхал что-то. Индейцы тоже услыхали; но волчонок знал, что это, и, испустив последний визг, в котором было больше торжества, чем горя, замолчал и стал ждать появления своей матери – свирепой и непобедимой матери, которая боролась, убивала и не боялась ничего на свете. Волчица рычала на бегу; она услыхала визг волчонка и спешила к нему на выручку.
Она подскочила к людям. Тревога и злость, волновавшие ее воинственное материнское сердце, отнюдь не красили волчицу. Но на волчонка свирепый вид матери произвел самое отрадное впечатление. Он испустил слабый крик и бросился ей навстречу, в то время как люди поспешно отступили на несколько шагов. Волчица стояла над своим детенышем и смотрела на людей; шерсть у нее вздыбилась, яростные рычания вылетали из ее горла. Морда ее исказилась от ярости и злобы, и нос сморщился до самых глаз от грозного рева.
И вдруг один из людей с удивлением вскрикнул: – Кича!
Волчонок почувствовал, как мать его вздрогнула при этом звуке.
– Кича! – второй раз резко и повелительно крикнул человек.
И тут волчонок увидел, что его неустрашимая мать припала животом к земле и, урча, виляя хвостом, всячески стараясь выразить свое миролюбивое настроение, стала подползать к людям. Волчонок был в недоумении. Он остолбенел, и его снова охватило чувство благоговения. Инстинкт не обманул его. Мать его служила тому подтверждением: она тоже выражала покорность животному-человеку.
Индеец, назвавший ее по имени, подошел ближе, положил ей на голову руку, и она прижалась к нему. Она даже не пыталась укусить его. Другие индейцы тоже подошли к ней, стали гладить и ласкать ее, и она не делала никаких попыток отогнать их. Все они были очень взволнованы и издавали ртом какие-то странные звуки. Решив, что в этих звуках нет угрозы, волчонок подполз к матери; шерсть его все еще ерошилась, но видом своим он изъявлял полную покорность.
– Это меня нисколько не удивляет, – проговорил индеец, – ее отец был волк. Правда, мать ее была собакой, но разве брат мой не привязал ее в лесу на целых три ночи в период течки? Вот потому-то отцом Кичи и оказался волк.
– Вот уже год, Серый Бобр, как она убежала, – заметил второй индеец.
– Это не удивительно, Лососевый Язык, – ответил Серый Бобр. – Ведь в то время был голод, и собак нечем было кормить.
– Она жила с волками, – сказал третий индеец.
– Похоже на то, Три Орла, – ответил Серый Бобр, кладя руку на голову волчонка, – и вот доказательство.
Волчонок слегка зарычал при прикосновении руки, но, видя, что рука поднимается, чтобы ударить его, он спрятал клыки и покорно приник к земле; после этого рука стала чесать у него за ухом и гладить его по спине.
– Вот доказательство, – повторил Серый Бобр, – совершенно ясно, что мать его – Кича, отец же его – волк. Вот почему в нем мало собачьей и много волчьей крови. Клыки у него удивительно белые, и поэтому я назову его Белым Клыком. Так я сказал. Он мой, так как Кича принадлежала моему брату, а разве брат мой не умер?
Волчонок, получивший таким образом имя, внимательно следил за всем происходившим. Некоторое время люди продолжали еще издавать ртом какие-то звуки. Затем Серый Бобр вынул нож из мешка, висевшего у него на шее, вошел в чащу леса и вырезал там палку. Белый Клык наблюдал за его движениями. Человек сделал зарубки на обоих концах палки и прикрепил к ним ремни из сырой кожи. Один ремень он привязал к шее Кичи, затем подвел ее к молодой сосне и обвязал вокруг дерева конец ремня.
Белый Клык последовал за матерью и улегся рядом с ней.
Лососевый Язык протянул к нему руку и перевернул его на спину. Кича испуганно следила за его движениями. Белый Клык снова почувствовал прилив страха. Он не мог вполне подавить рычание, но не сделал больше попытки укусить человека. Рука с оттопыренными пальцами стала заигрывающе гладить его по животу и перекатывать из стороны в сторону. Он находился в чрезвычайно глупом и смешном положении. Лежа на спине вверх ногами, он был совершенно беспомощен, и все его существо восставало против этого. О защите нечего было и думать. Белый Клык знал, что если это животное-человек вздумает причинить ему зло, он не сможет даже убежать. Как тут вскочить, когда все четыре лапы торчат кверху? Однако покорность заставила его подавить страх, и он ограничился только тихим рычанием. Этого рычания он не в состоянии был удержать, и человек нисколько не рассердился на него за это и не подумал ударить. Но как это ни странно, Белый Клык испытывал необъяснимое удовольствие, пока рука гладила его. Его повернули на бок, и он перестал рычать. Человеческие пальцы стали чесать у него за ухом, и когда человек, погладив его в последний раз, наконец отошел, приятное ощущение еще усилилось и страх окончательно покинул Белого Клыка. Ему предстояло в будущем не раз испытывать страх перед людьми, но это первое знакомство послужило основанием для той трепетной дружбы с человеком, которая в конце концов должна была стать его уделом.
Спустя некоторое время Белый Клык услыхал приближавшийся странный шум. Он быстро сообразил, что он исходит от людей. Через несколько минут подошла остальная часть индейского племени – еще около сорока мужчин, женщин и детей; все они были тяжело нагружены лагерными принадлежностями и путевым снаряжением. С ними было много собак, и все они, за исключением молодых щенков, тащили на себе поклажу. Каждая собака несла на спине мешок весом от двадцати до тридцати фунтов, крепко привязанный под брюхом.
Белый Клык никогда еще не видел собак, но почему-то сразу почувствовал, что они сродни ему, хотя и отличаются кое-чем от его породы. Но лишь только собаки заметили волчицу и ее детеныша, как вся разница между ними и волками тотчас же испарилась. Началась бешеная схватка. Белый Клык ерошил шерсть, рычал и кусался, защищаясь от нападавшей на него своры; в разгаре битвы он перевернулся, чувствуя, как чьи-то зубы впиваются в его тело, и сам хватая зубами мелькавшие над ним животы и лапы. Поднялся невообразимый гам. Волчонок слышал рычание Кичи, вступившейся за него, крики людей, удары дубин и визг собак, сопровождавший каждый удар клыков.
Прошло несколько секунд, и Белый Клык снова очутился на ногах. Теперь он увидел, как животные-люди отгоняли собак дубинами и камнями, защищая его от зубов сородичей, чем-то, однако, отличавшихся от него. И хотя в мозгу его не было места такому отвлеченному понятию, как справедливость, однако, на свой лад, он смутно сознавал, что люди справедливы, и тотчас же понял, что в этом мире они являются законодателями и блюстителями закона. Он восхищался также силой, с которой они заставляли выполнять этот закон. Они не кусались и не царапались, как это делали все до сих пор встречавшиеся ему животные. Они вкладывали свою силу в неодушевленные предметы, которые исполняли их волю. Так, палки и камни, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, нанося тяжелые удары собакам.
По его понятиям, это была необъяснимая, сверхъестественная, божественная сила. По своей природе Белый Клык не мог ничего знать о божестве, в лучшем случае он мог только догадываться, что существуют вещи выше его понимания, но удивление и благоговение, которое он питал к этим людям-животным, соответствовали тому, что испытал бы человек при виде какого-нибудь сверхъестественного существа, свергающего с вершины горы на потрясенный мир грохочущие перуны.
Наконец удалось отогнать последнюю собаку; шум стих. Белый Клык зализывал свои раны, размышляя над последними событиями, первой своей встречей с собаками и их жестокостью. Ему никогда и не снилось, что в роду его есть еще кто-либо, кроме Одноглаза, матери и его самого. Они составляли совершенно обособленную породу, а тут вдруг он обнаружил, что есть множество ему подобных существ. И в нем невольно шевелилось обидное чувство оттого, что эта его порода при первой же встрече обнаружила стремление его уничтожить. Такую же обиду он чувствовал и за мать, которую привязали с помощью палки к дереву, хотя это и было сделано высшим животным-человеком. Он чуял в этом капкан и неволю, хотя ни о каких капканах или неволе ничего не знал. Свобода скитания, движения и отдыха была его неотъемлемым наследственным правом, а здесь право это было нарушено. Движения его матери были ограничены длиной палки; этой же палкой были ограничены и его движения, потому что он еще нуждался в матери и не решался отходить от нее.

Все это ему не нравилось. Не понравилось ему и то, что, когда люди поднялись и двинулись в путь, маленький человек взял в руки свободный конец палки Кичи и повел ее, словно пленницу, за собой, а сзади волей-неволей потащился и он, сильно расстроенный и встревоженный этим новым оборотом событий.
Они спустились вниз по долине реки, гораздо дальше, чем удавалось когда-либо забираться Белому Клыку, и шли так, пока не добрались до конца долины, где река впадает в реку Макензи. Дойдя до того места, где высоко на шестах были прикреплены лодки и стояли плетенки для сушки рыбы, люди разбили лагерь.
Белый Клык смотрел на все широко раскрытыми от удивления глазами. Могущество этих людей-животных возрастало с каждым мгновением: они повелевали всеми этими зубастыми собаками; от них так и веяло силой и мощью. Но больше всего поразила волчонка их власть над неодушевленными предметами, их способность сообщать им движение и даже, как ему казалось, изменять вид земной поверхности.
Последнее произвело на него особенно сильное впечатление. Он тотчас же заметил высившиеся над землей треугольные рамы шестов. Впрочем, от существ, умевших бросать по воздуху камни и палки, этого еще можно было ожидать. Но когда эти рамы, покрытые холстом и шкурами, превратились в юрты, Белый Клык просто обомлел. Его, главным образом, изумляли их размеры. Эти странные колпаки вырастали кругом, точно какие-то чудовищные живые существа, захватывая почти все поле зрения волчонка. Он боялся их. Они грозно возвышались над ним, и, когда ветер колыхал их полы, он ежился от страха, не спуская с них тревожного взгляда, готовый в любой момент обратиться в бегство, если бы они вздумали напасть на него.
Но вскоре страх его перед юртами прошел. Он видел, как женщины и дети входили в них без всякого вреда для себя и как старались пробраться внутрь собаки, которых всякий раз выгоняли оттуда громкой бранью и камнями. Спустя некоторое время он отошел от Кичи и осторожно подполз к стене ближайшей юрты. Его толкало любопытство, всегда сопутствующее развитию, настоятельная потребность знать, пережить и проделать все то, что может обогатить запас жизненного опыта. Последние несколько дюймов, отделявшие его от стены, он прополз медленно и с особой осмотрительностью. События дня приготовили его к тому, что от неизвестного следует ожидать непредвиденных сюрпризов. Наконец он робко прикоснулся носом к стене юрты. Ничего. Он понюхал странную ткань, насыщенную человеческим запахом, потом схватил ее зубами и слегка потянул. Опять ничего, только прилегающие полы юрты слегка заколебались. Он потянул сильнее, движение усилилось. Волчонок пришел в восторг. Он стал тянуть сильнее и сильнее, пока вся юрта не пришла в движение. Громкий крик индианки заставил его быстро отскочить обратно к Киче, но после этого опыта громоздкие силуэты юрт уже больше не пугали его.
Минуту спустя Белый Клык снова покинул свою мать. Ее палка была привязана к колышку, вбитому в землю, и она не могла следовать за ним. Подросток-щенок, немного старше и больше волчонка, медленно направился к нему, явно выказывая недружелюбные намерения. Звали его, как узнал потом Белый Клык, Лип-Липом. Он уже имел некоторый опыт по части драк и считался порядочным забиякой.
Лип-Лип был одной породы с Белым Клыком, да к тому же еще щенок, и Белый Клык приготовился встретить его дружелюбно. Но когда он увидел, что незнакомец как-то весь подобрался и оскалил зубы, Белый Клык насторожился и тоже оскалил зубы. Так продолжалось несколько минут, и Белому Клыку уже начала нравиться эта игра. Но вдруг Лип-Лип с поразительной быстротой бросился вперед, больно укусил волчонка и так же быстро отскочил назад. Укус пришелся Белому Клыку как раз в то самое плечо, которое повредила ему рысь, рана еще болела в глубине у самой кости. Белый Клык завизжал от неожиданности и боли, но в следующий момент он бросился на Лип-Липа и злобно схватил его зубами.
Лип-Лип всю свою жизнь провел в лагере и не раз дрался с щенками. Три раза, четыре раза, наконец, шесть раз вонзились его острые зубы в нового пришельца, пока Белый Клык, визжа от боли, не убежал позорно к матери. Это была их первая стычка, за которой последовало бесконечное количество других, ибо Белый Клык и Лип-Лип родились врагами, и вражда вспыхнула между ними с первого взгляда.
Кича нежно облизала Белого Клыка, стараясь удержать его около себя. Но любопытство не давало ему покоя, и несколько минут спустя он предпринял новое путешествие. На этот раз он наткнулся на одного из людей – Серого Бобра, который сидел на корточках и делал что-то с палками и разложенным на земле сухим мхом. Белый Клык подошел и стал наблюдать. Серый Бобр издал какие-то звуки ртом, в которых Белый Клык не усмотрел ничего враждебного и подошел еще ближе.
Женщины и дети приносили все новые палки и ветки Серому Бобру. По-видимому, дело было важное. Белый Клык все приближался, пока, позабыв о страхе и движимый любопытством, он не коснулся колена Серого Бобра. Вдруг он заметил, что из-под пальцев Серого Бобра от палок и ветвей поднимается что-то странное, вроде тумана. Затем между палками появилось нечто живое, трепещущее и вьющееся, цветом похожее на солнце. Белый Клык никогда не видел огня. Он притягивал его, как некогда, в дни его детства, свет, проникавший в пещеру через входное отверстие. Он прополз несколько шагов, отделявших его от огня, и услышал за собой смех Серого Бобра, но понял, что смех этот не враждебный. Затем он коснулся носом пламени и высунул свой маленький язык.
На мгновение он остолбенел. Неизвестное, скрывавшееся между палками и мхом, больно схватило его за нос. Он отскочил и дико завизжал. Услышав его голос, Кича зарычала, дергая за конец палки; она была в ярости от того, что не могла помочь волчонку. Но Серый Бобр громко расхохотался, ударил себя по бедрам и стал рассказывать остальным о том, что произошло. Поднялся общий смех. А Белый Клык, присев на задние лапы, жалобно визжал, и вся его маленькая одинокая фигурка казалась необычайно жалкой и беспомощной среди этих рослых людей-животных.
Такой сильной боли он не испытывал еще ни разу в жизни. Нос и язык были обожжены живым веществом, похожим на солнце, которое выросло вдруг между пальцами Серого Бобра. Он плакал, плакал горько и безутешно, и каждый новый вопль вызывал неудержимый взрыв смеха животных-людей. Он попробовал успокоить боль, облизав свою морду, но язык был тоже обожжен и от прикосновения одного обожженного места к другому боль еще обострилась, и он закричал сильнее прежнего.
Вдруг ему стало стыдно. Он понимал, что такое смех и что он значит. Нам не надо знать, каким образом некоторые животные понимают смех, но Белый Клык понимал его. И ему стало стыдно оттого, что люди-животные смеялись над ним. Он повернулся и убежал, но его прогнала не боль от ожога, а человеческий смех, который проникал много глубже и ранил самую душу его. И он побежал к Киче, яростно метавшейся около своей палки, к Киче, которая одна не смеялась над ним.
Спустились сумерки, и наступила ночь, но Белый Клык не отходил от матери. Нос и язык все еще болели, однако его беспокоило другое чувство. Им овладела тоска по берлоге. Он ощущал какую-то пустоту, стремление к покою и тишине речки и пещеры в скале. Жизнь стала для него слишком шумной. Кругом было чересчур много людей – взрослых и детей, и все они шумели и раздражали его. Кроме того, некоторые собаки все время дрались и грызлись, то и дело разражаясь громким лаем. Мирный покой прежнего уединенного существования исчез. Тут сам воздух был напоен жизнью. В нем слышалось какое-то беспрерывное жужжание и ропот. Он постоянно трепетал от самых разнообразных звуков, и это действовало на чувства и нервы волчонка, тревожа его постоянной угрозой неожиданности.
Он следил за людьми, сновавшими по лагерю. Подобно тому, как люди смотрят на созданные ими божества, так смотрел Белый Клык на людей. Для него это были высшие существа, воистину боги. Его смутному сознанию они представлялись такими же чудотворцами, какими боги кажутся людям. Это были существа, обладавшие неограниченным могуществом, владыки над всем одушевленным и неодушевленным миром. Они умели распоряжаться тем, что движется, сообщать движение неподвижным предметам, умели извлекать жизнь, жгучую и яркую, как солнце, из мха и сухих ветвей. Это были творцы огня – это были боги!
Глава II. Неволя
Каждый день открывал Белому Клыку все новые и новые горизонты. Пока Кичу держали на привязи, он бегал по всему лагерю, вынюхивая, высматривая и учась. Вскоре он довольно близко познакомился с жизнью людей, но это не породило в нем презрения к ним. Чем больше он узнавал их, тем больше убеждался в их превосходстве и таинственном могуществе, тем сильнее проникался верой в то, что они подобны богам.
Людям часто приходится испытывать глубокую скорбь и боль, видя, как их боги низвергаются, а алтари рассыпаются в прах, но подобное чувство совершенно незнакомо волку и дикой собаке, приютившимся у ног человека.
В противоположность людям, чьи боги невидимые и загадочные, – не что иное, как туманная, лишенная реальной формы игра фантазии, блуждающие призраки взлелеянных в страстной тоске идеалов добра и мощи, неосязаемые частицы собственного я, вкрапленные в царство духовного – волк и дикая собака, нашедшие себе приют у костра, обретают здесь богов живых, богов осязаемых, занимающих место в пространстве и нуждающихся во времени, чтобы исполнить свое назначение на земле. Не нужно усилий для того, чтобы уверовать в этих богов, и никакие усилия воли не поколеблют эту веру. От нее не уйдешь. Вот он, этот бог – стоит перед глазами на двух ногах, с дубиной в руке, могущественный, страстный, гневный и любящий; и вся его божественность, власть и сила облечены в живое тело, из которого струится кровь, если его ранить, и которое пригодно для еды, как и всякое другое мясо.
Так думал и Белый Клык. Люди-животные были несомненно богами. Как мать его, Кича, покорилась им при первом звуке их голоса, так готов был покориться и он. Он признал за ними превосходство, как будто оно было их неоспоримой привилегией. При встрече с ними он уступал им дорогу. Когда они звали его, он шел к ним. Когда они грозили ему, он покорно ложился у их ног. Когда они гнали его, он спешил уходить. И он делал это потому, что в каждом их требовании заключалась возможность привести его в исполнение ударом кулака, брошенным камнем или взмахом кнута.
Как и все другие собаки, Белый Клык был их собственностью. Они могли распоряжаться им и приказывать ему, могли бить, топтать и терзать его тело. Он очень скоро усвоил этот урок. Вначале волчонку, сильному и властному от природы, эта наука давалась нелегко, но понемногу, незаметно для самого себя, он начал привыкать к новым условиям. Он передал свою судьбу в чужие руки, но зато освободился от ответственности, которую налагает самостоятельная жизнь. Одно уж это являлось некоторой компенсацией за утраченную свободу, ибо всегда легче опираться на другого, чем полагаться только на самого себя.
Но для этого потребовалось время. Не сразу отдался он людям душой и телом. Не так-то легко было забыть свою наследственную дикость и воспоминания о привольной жизни в пустыне. Бывали дни, когда он подбирался к опушке леса и стоял там, прислушиваясь к таинственному голосу, звавшему его вдаль, прочь от людей. Но он все же неизменно возвращался к Киче, грустный и взволнованный и, улегшись с ней рядом, жалобно визжал, нетерпеливо облизывал ей морду, словно спрашивая у нее совета.
Белый Клык быстро изучил жизнь лагеря. Он познакомился с жадностью и несправедливостью старших собак, когда всем им бросали мясо или рыбу; понял, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добрее тех и других и от них скорее можно ожидать подачки, куска мяса или кости. И после нескольких печальных столкновений с матерями молодых щенков Белый Клык пришел к убеждению, что лучше всего не трогать таких матерей, держаться от них возможно дальше и скрываться при их приближении.
Но бичом его жизни был Лип-Лип. Будучи крупнее, старше и сильнее Белого Клыка, Лип-Лип избрал его своей жертвой. Белый Клык охотно вступал в драку, но борьба была ему не по силам: враг был слишком велик. Лип-Лип сделался для него каким-то кошмаром. Стоило ему только отойти от матери, как забияка вырастал перед ним точно из-под земли, следовал за ним по пятам, рычал на него, хватал зубами и только выжидал удобной минуты, когда вблизи не будет людей, чтобы затеять с ним драку. Так как победа всегда оставалась за Лип-Липом, то он, естественно, находил в этих сражениях одно лишь удовольствие. Вскоре преследование Белого Клыка сделалось для него смыслом жизни, а для несчастного волчонка источником бесконечных мучений.
Все это, однако, не заставило Белого Клыка смириться; тело его терпело поражения, но дух оставался неукротимым. Однако эта вражда дурно сказывалась на нем. Он стал мрачен и зол. Природа наделила его боевым задором и дикостью, а вечное преследование еще усилило в нем эти черты. Его детской игривости, веселости и доброте не в чем было проявиться. Он никогда не играл и не возился с другими щенками лагеря. Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться между ними, как Лип-Лип тотчас же бросался на него, затевал драку и преследовал его до тех пор, пока не отгонял прочь.
В результате Белый Клык потерял свойственную молодому возрасту игривость и стал казаться старше своих лет. Лишенный возможности развивать и проявлять свои силы в играх, он ушел в себя и стал развивать свои умственные способности. Он сделался хитрым, так как у него оставалось достаточно времени, чтобы обдумывать свои проделки. Не имея возможности получить свою порцию мяса или рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Ему приходилось собственными силами добывать себе пропитание, и он делал это так искусно, что вскоре стал бичом для всех индейских женщин. Он научился крадучись обходить лагерь, высматривать и вынюхивать, что где происходит, а затем, набрав достаточно материала, делал соответствующие выводы и придумывал удачные способы и уловки, чтобы избегать своего непримиримого врага.
Еще в самом начале этой вражды он ухитрился сыграть с Лип-Липом славную штуку и в первый раз познал сладость мести. Как Кича, живя с волками, выманивала когда-то собак из лагеря, так и Белый Клык заманил однажды Лип-Липа прямо в пасть Кичи. Удирая от Лип-Липа после одной из стычек, он то и дело менял направление, кружась между юртами. Бегал он хорошо, лучше многих щенков и самого Лип-Липа. Но на этот раз он нарочно не спешил и держался все время на расстоянии одного прыжка от своего врага. Лип-Лип, возбужденный погоней и близостью своей жертвы, позабыл всякую осторожность. Когда он опомнился, было уже поздно. Обогнув с бешеной скоростью одну из юрт, он со всего разбегу налетел на лежавшую на привязи Кичу. Он успел издать отчаянный визг, но челюсти ее уже сомкнулись. Несмотря на то что она была привязана, Лип-Липу нелегко удалось от нее уйти. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и стала кусать его своими острыми клыками.
Когда ему посчастливилось, наконец, откатиться от нее достаточно далеко, он с трудом поднялся на ноги, весь взлохмаченный, страдая и телом и душой. Повсюду, где побывали зубы волчицы, уцелевшая шерсть торчала пучками. Он остановился там, где ему удалось подняться, раскрыл рот и издал протяжный, горестный щенячий визг. Но ему не дали даже отвести душу. Белый Клык бросился на него и вцепился зубами в его заднюю лапу. Воинственный дух окончательно покинул Лип-Липа, и он постыдно бежал, преследуемый до самой палатки своей жертвой. Здесь его выручили индейские женщины, которые камнями прогнали Белого Клыка, напоминавшего в этот момент разъяренного демона.
Наступил наконец день, когда Серый Бобр, решив, что Кича больше не убежит, спустил ее с привязи. Белый Клык был в восторге от того, что мать его очутилась на свободе. Он весело сопровождал ее по всему лагерю, и все время, пока он был с ней, Лип-Лип держался на почтительном расстоянии. Белый Клык осмелел, несколько вызывающе ерошил шерсть и делал на него стойку, но враг не принимал вызова. Лип-Лип и сам был не дурак и, несмотря на всю жажду мести, отлично понимал, что ему следует подождать, пока Белый Клык не попадется в одиночестве. К концу дня, в который освободили Кичу, Белый Клык дошел с матерью до опушки ближайшего к лагерю леса. Он увлек ее за собой шаг за шагом, и, когда она наконец остановилась, волчонок сделал попытку завести ее дальше. Речка, берлога, молчаливые леса манили его, и он хотел, чтобы она ушла туда вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и оглянулся. Она не двигалась с места. Он жалобно завыл и стал, как бы играя, то забегать в кустарник, то выбегать оттуда. Наконец он подскочил к ней, лизнул ее в морду и снова отбежал. Она по-прежнему не двигалась с места. Он остановился и посмотрел на нее, всем своим существом выражая горячее нетерпение, но взгляд его быстро погас, когда он увидел, что волчица оглянулась на лагерь.
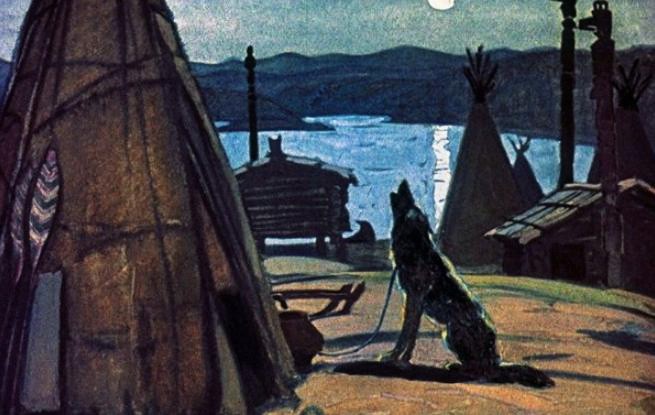
Лес звал и манил его к себе. Манил он также и волчицу, но она слышала другой, более громкий призыв, призыв человека и костра – призыв, которому из всех животных внемлют только волк и дикая собака, родные братья по крови.
Кича повернулась и медленно направилась обратно к лагерю. Сильнее всякой привязи было для нее обаяние человеческого жилья. Боги какими-то незримыми сверхъестественными путями овладели ею и не отпускали от себя. Белый Клык уселся в тени березы и жалобно заскулил. Сильный запах сосны и тонкие ароматы леса напомнили ему прежние свободные дни, когда он не знал еще, что такое неволя. Но он был всего-навсего щенок, и влияние матери действовало на него сильнее человеческой воли и зова природы. Вся его короткая жизнь протекла близ нее, под ее охраной. Время для независимости еще не настало. Поэтому он встал и грустно поплелся к лагерю; по дороге он два раза присаживался, прислушиваясь к голосу леса, все еще звучавшему в его ушах.
В пустыне связь матери с детенышами длится недолго, а под владычеством людей она обрывается еще быстрее. Так случилось и с Белым Клыком. Серый Бобр был в долгу у индейца Три Орла. Три Орла уходил вверх по реке Макензи к Большому Невольничьему озеру. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кича пошли в уплату долга. Белый Клык видел, как мать его посадили в лодку, и сделал попытку последовать за ней. Удар, полученный от нового ее хозяина, отбросил его на берег. Лодка отчалила. Он прыгнул в воду и поплыл, не слушая криков Серого Бобра, звавшего его назад. Страх потерять мать заглушал даже страх перед человеком, страх перед богом.
Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и Серый Бобр быстро спустил лодку вдогонку. Настигнув Белого Клыка, он протянул руку и вытащил его за загривок из воды. Но он не сразу положил его на дно лодки. Держа его в одной руке, другой он задал ему трепку. Это была настоящая трепка. Рука у индейца была тяжелая, каждый удар рассчитан на то, чтобы причинить боль, и удары эти сыпались без конца.
Получая по шлепку то слева, то справа, Белый Клык судорожно раскачивался в воздухе, как испортившийся маятник. Его поочередно волновали самые разнообразные ощущения. Сначала он как будто удивился, затем почувствовал на мгновение страх и даже несколько раз взвизгнул под ударами руки, но вскоре на смену явилась злоба. Его свободолюбивый нрав, наконец, сказался, и волчонок, оскалив зубы, стал яростно рычать прямо в лицо разгневанному божеству. Но это только еще больше рассердило бога. Удары посыпались чаще, сильнее, резче.
Серый Бобр бил, а Белый Клык рычал. Но это не могло длиться без конца. Кто-нибудь должен был уступить, и Белый Клык уступил. Страх опять овладел им. В первый раз его побили по-настоящему. Случайные удары камнем или палкой, которые он получал до сих пор, казались ему лаской по сравнению с этой расправой. Он присмирел и жалобно стонал. Еще некоторое время удары сменялись стонами; но вскоре страх перешел в ужас, и жалобный вой потянулся уже непрерывно, не согласуясь с ритмом получаемой порки.
Наконец Серый Бобр прекратил побоище. Белый Клык продолжал кричать, вися в воздухе. Это, по-видимому, удовлетворило его хозяина, и он грубо швырнул волчонка на дно лодки. Тем временем лодка неслась уже вниз по течению. Серый Бобр поднял весло. Белый Клык оказался у него на дороге. Он яростно толкнул его ногой. В эту минуту свободолюбивый нрав Белого Клыка снова дал себя знать, и он вцепился зубами в обутую в мокасин ногу индейца.
Порка, полученная им до того, была ничто в сравнении с той, что ему задали теперь. Ярость Серого Бобра была неописуема; таков же был страх Белого Клыка. Не только рука, но тяжелое деревянное весло пошли в ход, и когда индеец снова швырнул его на дно лодки, на всем маленьком теле щенка не было живого места. Снова – на этот раз нарочно – Серый Бобр ударил его ногой. Но Белый Клык не повторил ошибки. Он усвоил новый закон неволи. Никогда, ни в каком случае не смеет он кусать бога, хозяина и властелина; тело господина священно, и зубы подобных ему не должны осквернять его своим прикосновением. Это был, очевидно, величайший грех, одно из тех преступлений, которым нет ни прощения, ни снисхождения.
Когда лодка причалила к берегу, Белый Клык лежал, тихо повизгивая, без движения, ожидая воли Серого Бобра. По-видимому, желание последнего заключалось в том, чтобы он вышел на берег, потому что он схватил щенка и швырнул его на землю; волчонок упал, больно ударившись избитым телом. Он поднялся, весь дрожа, и снова завизжал. Лип-Лип, наблюдавший за всем с берега, бросился на Белого Клыка, опрокинул его и вцепился в него зубами. Белый Клык был слишком слаб, чтобы защищаться, и ему пришлось бы плохо, если бы Серый Бобр не ударил ногой Лип-Липа так, что тот отлетел на несколько шагов. Такова была справедливость людей-богов, и, несмотря на свое плачевное состояние, Белый Клык почувствовал легкий трепет благодарности. Следуя по пятам за Серым Бобром, он дошел до его палатки. Таким образом, Белый Клык узнал, что право наказания боги оставляют за собой, не позволяя низшим существам пользоваться им.
Ночью, когда все стихло, Белый Клык вспомнил о матери, и ему стало грустно. Но он слишком громко излил свои взволнованные чувства и разбудил Серого Бобра – тот побил его. После этого он грустил в присутствии людей потихоньку. Но иногда, отойдя к опушке леса, он давал волю своему горю и принимался скулить во весь голос.
В этот период он мог легко соблазниться воспоминаниями о пещере и реке и убежать в пустыню. Но память о матери удерживала его. Так же, как возвращались с охоты боги, так могла вернуться в один прекрасный день и она. И он оставался в неволе и ждал.
Однако неволя его была не так уж безотрадна. Многое интересовало его. Каждый день случалось что-нибудь новое. Не было конца странностям богов, а любопытство в нем не угасло. Научился он понемногу ладить с Серым Бобром. Повиновение, строгое и неуклонное, – вот что требовалось от него; таким образом он избегал побоев и вел довольно сносную жизнь.
Иногда Серый Бобр даже сам бросал ему кусок мяса и не позволял другим собакам отнимать его у волчонка. И такая подачка была особенно ценна. Она почему-то казалась Белому Клыку дороже целого десятка кусков мяса, полученных от индейских женщин. Серый Бобр никогда не смотрел на него и не ласкал.
Трудно сказать, что, собственно, влияло на Белого Клыка, тяжесть ли руки Серого Бобра, или его справедливость, или сила, – а может быть, все вместе, – но несомненно только, что между ним и его суровым хозяином завязалась странная дружба.
Коварство, непонятные наказания, палки, камни и побои – это все была неволя, и она сильнее и сильнее сковывала Белого Клыка. Присущие его породе черты, заставляющие волков с давних пор подходить к кострам человека, понемногу просыпались в нем, и лагерная жизнь, полная страданий и лишений, все же начинала привлекать его. Но Белый Клык не сознавал этого. Он чувствовал только тоску по Киче, надежду на ее возвращение и острый голод по прежней, утраченной свободе.
Глава III. Отверженный
Лип-Лип так сильно отравлял жизнь Белому Клыку, что тот сделался гораздо свирепее и злее, чем судила ему сама природа. Свирепость была заложена в нем от рождения, но она развилась у него выше меры. Даже среди людей он приобрел репутацию необычайно злого животного. Где бы ни случилась драка или потасовка, шум или крик по поводу украденного мяса, можно было с уверенностью сказать, что без Белого Клыка дело не обошлось. Люди не старались разобраться в причинах его поведения. Они видели только результаты, а результаты были плохие. Белый Клык был вор и проныра, сеятель смуты и драчун; озлобленные женщины ругали его, называли волком и предсказывали ему плохой конец, а он в это время, нисколько не смущаясь, глядел на них, всегда готовый увернуться от брошенного в него камня.
Он чувствовал себя отверженным среди этого многолюдного лагеря. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком существовала какая-то разница. Может быть, они чуяли его дикую природу и инстинктивно испытывали к нему вражду, которую домашняя собака всегда чувствует к волку. Что бы там ни было, но, объединившись с Лип-Липом, они стали преследовать его и, раз объявив ему войну, уже не прекращали ее. Каждая из них время от времени знакомилась с его зубами, и нужно сознаться, что Белый Клык давал обычно больше, чем получал. Многих из них он, несомненно, одолел бы в единоборстве, но такого случая, как драка один на один, ему никогда не представлялось. Начало сражения служило сигналом для всех других собак лагеря, которые бросались на него целой сворой.
Эти преследования, однако, имели свою положительную сторону и научили его двум важным вещам: как лучше всего защищаться при нападении целой своры и как в кратчайший промежуток времени нанести наибольший вред при единоборстве. В первом случае важнее всего было удержаться на ногах, и он хорошо усвоил это. Он сделался устойчив, как кошка. Большие собаки налетали на него всем телом, пытаясь свалить его с ног; но он только отскакивал назад или вбок, то скользя по земле, то делая прыжки в воздухе, и ноги его неизменно возвращались к матери-земле.
Собираясь вступить в драку, собаки обычно начинают с того, что рычат, скалят зубы и ерошат шерсть. Но Белый Клык научился обходиться без этого. Малейшее промедление влекло за собой налет всей собачьей стаи. Его задача состояла в том, чтобы быстро сделать свое дело и удрать. И он никогда не предупреждал о своих намерениях. Он стремительно набрасывался на врага и начинал кусать его прежде, чем тот успевал опомниться. Таким образом, он научился быстро и решительно расправляться. Он оценил одновременно и значение неожиданности. Стоило броситься без предупреждения на собаку, прокусить ей плечо или разорвать ей в клочки ухо, и она была выведена из строя.
Застигнутую врасплох собаку легко можно сбить с ног, причем, падая, она неминуемо выставляла на минуту незащищенную мягкую часть шеи – самое уязвимое место, прокусив которое, можно было лишить ее жизни. Белый Клык знал эту точку. Это знание досталось ему по наследству от многих охотничьих поколений волков. Итак, Белый Клык выработал следующую систему атаки: во-первых, он старался встретить собаку одну; во-вторых, он бросался на нее неожиданно и старался сбить с ног и, в‑третьих, он вцеплялся зубами в мягкую часть ее шеи.
Челюсти его не были еще настолько развиты и сильны, чтобы укус мог стать смертельным, но много собак бродило по лагерю с рваными ранами на шее, красноречиво свидетельствовавшими о намерениях волчонка. Однажды, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он несколькими повторными укусами перервал ему большую шейную артерию, и собака истекла кровью. Поднялся невероятный шум. Проделка Белого Клыка была замечена, весть о ней дошла до хозяина убитой собаки; индейские женщины припомнили все случаи, когда он крал у них мясо, и озлобленная толпа окружила Серого Бобра. Но индеец решительно загородил вход в свою палатку, спрятав у себя виновника переполоха, и отказался выдать его соплеменникам, которые требовали мщения.
Белого Клыка возненавидели и люди, и собаки. В этот период своей жизни он не знал ни минуты покоя. Он восстановил против себя людей и животных. Собаки встречали его рычанием, люди – камнями и проклятиями. Он жил в вечном напряжении, постоянно настороже, готовый в любую минуту напасть и отразить нападение, с молниеносной быстротой вцепиться зубами или со злобным рычанием отскочить.
Что касается рычания, то он рычал громче и страшнее всех собак в лагере. Цель рычания – предостеречь и напугать, и пользоваться им нужно умеючи. Белый Клык знал, как и когда прибегнуть к этому средству. В свое рычание он вкладывал все, что было в нем злобного, страшного и грозного. С судорожно сморщенным носом, с взъерошенной шерстью, которая так и ходила волнами, с высунутым красным языком, прижатыми ушами, горящими ненавистью глазами, приподнятыми губами и обнаженными клыками, с которых стекала слюна, он мог остановить нападение любого врага. Небольшое промедление со стороны последнего давало Белому Клыку время обдумать план действий. Часто случалось, что нападающий после такой паузы совсем отказывался от борьбы. И даже от больших собак Белому Клыку, благодаря грозному рычанию, не раз удавалось уходить с честью.
Белый Клык был отверженец, но своими кровавыми приемами и выдающейся энергией он заставлял свору щенков дорого расплачиваться за те преследования, которым они подвергали его. Ему запрещалось присоединиться к своре, и он, как это ни странно, добился того, что ни один из щенков не осмеливался отделяться от своры. Белый Клык не допускал этого. Боясь его хитрости и уловок, молодые собаки, за исключением Лип-Липа, не решались бегать одни; нажив себе страшного врага, они вынуждены были держаться вместе, чтобы в случае необходимости защищать друг друга. Щенок, отважившийся появиться на берегу реки в полном одиночестве, находил там смерть или, испуская дикие вопли от страха и боли, вопли, поднимавшие на ноги весь лагерь, спасался бегством от волчонка.
Но нападения Белого Клыка не прекратились и тогда, когда щенки твердо усвоили, что им следует держаться вместе. Он нападал на них, когда они бывали одни, а они накидывались на него всей сворой. Одного вида Белого Клыка было достаточно, чтобы привести их в ярость, и в таких случаях только быстрота ног спасала его от жестокой расправы. Но горе было той собаке, которая опережала свору. Белый Клык научился неожиданно поворачиваться и успевал изувечить зарвавшегося преследователя раньше, чем свора могла добежать. Это случалось часто, потому что в пылу погони собаки не раз забывали об осторожности, тогда как Белый Клык никогда не терял головы. Оглядываясь на бегу, он готов был каждую минуту обернуться и броситься на преследователя, неосторожно опередившего свору.
Молодые собаки вообще любят резвиться, и, использовав создавшееся положение по-своему, они превратили эту войну в игру. Преследование Белого Клыка сделалось любимой забавой, если не всегда смертельной, то, во всяком случае, опасной. Белый Клык, зная быстроту своих ног, не боялся удаляться от стоянки. Тщетно ожидая возвращения своей матери, он забавлялся тем, что заманивал свору в окружавшие стоянку леса, где она каждый раз неминуемо теряла его из виду. По шуму и лаю он всегда мог определить местонахождение своры, а сам между тем неслышной, мягкой поступью, унаследованной от родителей, тихо скользил между деревьями. Кроме того, связь между ним и природой была ближе и непосредственнее, и он лучше их знал все ее тайны. Любимой его проделкой было переплыть речку, сбив таким образом свору со следа, и залечь в соседней чаще, прислушиваясь к ее громкому взволнованному лаю.
Ненавидимый собаками и людьми, неукротимый, вечно занятый борьбой, волчонок развивался быстро, но односторонне. На этой почве не могла развиться ласковость или расцвести привязанность. О таких вещах он не имел никакого понятия. Его правилом было: слушаться сильных и обижать слабых. Серый Бобр был бог, и бог сильный, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки моложе и меньше его были слабы и их следовало уничтожать. Развитие его шло в направлении силы. Под вечной угрозой увечья и даже смерти его хищнические и оборонительные способности развились гораздо больше, чем полагалось. Он стал бегать быстрее других собак, сделался сильнее, хитрее, выносливее, злее, приобрел железные мускулы и значительно превосходил умом своих врагов. Не приобрети он этих свойств, он ни за что не выжил бы в той враждебной среде, которая окружала его.
Глава IV. Путь богов
К концу года, когда дни стали короче, а морозы сильнее, Белому Клыку представилась возможность убежать. Уже несколько дней в индейском лагере царила суматоха. Летний лагерь снимался, и племя, уложив все свое имущество, собиралось уходить на охоту. Белый Клык с интересом следил за происходившим, и, когда юрты были разобраны и скарб уложен в пироги, он все понял. Пироги начали уже отчаливать, и часть их скрылась за поворотом реки.
Он совершенно сознательно отстал и, выждав удобный случай, выскользнул из лагеря и скрылся в чаще леса. Здесь, за речкой, которая начинала покрываться льдом, он старательно замел свой след. Затем он прополз в самую гущу кустов и стал ждать. Время проходило, и он несколько раз засыпал и снова просыпался. Последний раз его разбудил голос Серого Бобра, который звал его. За ним послышались и другие голоса, и Белый Клык понял, что жена Серого Бобра и его сын Мит-Са тоже ищут его.
Белый Клык дрожал от страха, и хотя у него появилось желание вылезти из засады, он удержался от этого. Спустя некоторое время голоса стихли, и Белый Клык выполз из кустов, чтобы насладиться успехом своего предприятия. Наступили сумерки, и некоторое время он резвился в лесу, наслаждаясь свободой. Но вдруг, совершенно неожиданно, он почувствовал себя одиноким. Он сел, чтобы обдумать свое положение, растерянно прислушиваясь к лесной тишине. Окружавшее его безмолвие казалось ему зловещим. Он чувствовал вокруг себя невидимую, смутную опасность. Очертания деревьев и мрачные тени казались ему подозрительными; в них, быть может, скрывалось неизвестное.

Кроме того, было очень холодно. Близко не было теплой стенки палатки, около которой можно прикорнуть. Лапы его мерзли, и он попеременно поднимал то одну переднюю лапу, то другую. Он прикрыл их своим пушистым хвостом и погрузился в воспоминания. В этом не было ничего удивительного. В мозгу его за время пребывания с людьми запечатлелся целый ряд картин. Он мысленно представил себе лагерь, палатки и пламя костров. Он услышал резкие голоса женщин, низкие грубые голоса мужчин, рычание собак. Он был голоден и вспомнил о кусках мяса и рыбы, которые получал за ужином. Здесь не было ни мяса, ни рыбы – ничего, кроме зловещей тишины.
Неволя изнежила его, а отсутствие самостоятельности лишило его прежней силы и твердости. Он разучился заботиться о себе самом. Надвигалась ночь. Его чувства, привыкшие к шуму и движению лагеря, к непрерывной смене зрительных и слуховых впечатлений, бездействовали. Здесь нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он напрягал слух, чтобы уловить какой-нибудь звук среди окружавшего его безмолвия неподвижной природы. Но чувства его притупились от долгого бездействия и от сознания надвигающейся страшной опасности.
Он задрожал от ужаса. Какая-то темная бесформенная громада неслась прямо на него. Это была тень дерева, освещенная луной, лик которой за секунду перед тем был затемнен облаками. Успокоившись, Белый Клык стал тихонько скулить; однако он вскоре замолк, опасаясь, как бы плач его не привлек внимания невидимых врагов.
Как раз над ним громко скрипнуло от ночного холода дерево. Волчонок взвыл от страха. Охваченный паническим ужасом, он бросился бежать по направлению к лагерю. Им овладело непобедимое желание поскорее очутиться в обществе человека, отдаться под его покровительство. Ему чудились в воздухе запах дыма и человеческие голоса. Он вышел из леса на освещенную луной поляну, где не было ни мрака, ни теней. Но поселка он не увидел. Белый Клык забыл, что люди ушли.
Он замедлил свой неистовый бег – бежать было некуда. Волчонок грустно бродил по опустевшему месту стоянки, обнюхивая кучи мусора, забытые тряпки и хлам богов. В эту минуту он несказанно обрадовался бы стуку камней, брошенных какой-нибудь разозлившейся женщиной, ударам Серого Бобра и даже нападению собачьей своры с Лип-Липом во главе.
Он подошел к месту, где стояла палатка Серого Бобра, и, усевшись в центре пространства, которое она занимала, поднял морду к луне. Горло его сжали судороги, пасть открылась, и из груди вырвался жалобный стон, в котором слилось все: и страх одиночества, и тоска по Киче, и горечь прошлого, и страх перед будущими опасностями и страданиями. Это был протяжный вой волка, глубокий и заунывный, первый настоящий вой, который издал Белый Клык.
С рассветом страх его рассеялся, но чувство одиночества обострилось еще сильнее. Вид голой земли, на которой не так давно стояли палатки, только усугубил его тоску. Он не стал долго раздумывать. Войдя в лес, Белый Клык направился вниз по течению реки. Он бежал, не отдыхая, весь день, и вид у него был такой, словно он готов был так бежать вечно. Его стальные мускулы не знали усталости. А когда усталость все же появилась, наследственная выносливость дала ему силу и возможность подгонять дальше свое утомленное тело. Там, где река протекала между крутыми утесами, Белый Клык перелезал через горы; речки и притоки, вливавшиеся в главное русло, он переходил вброд или переплывал. Часто ему приходилось пробираться по тонкой ледяной коре, и он не раз проваливался сквозь нее и боролся в холодной воде за свою жизнь. При этом он неустанно искал след богов в том месте, где они должны были высадиться из лодок и углубиться в берег.
Ум Белого Клыка значительно превосходил средний уровень, присущий его породе. Однако сообразительности его не хватало на то, чтобы окинуть взглядом противоположный берег Макензи. А что, если боги высадились на той стороне? Эта простая мысль не приходила ему в голову. Позже, став старше и опытнее и узнав многое о реках и тропах, он сумел бы, пожалуй, проявить подобную догадливость. Но это было для него уделом будущего. Теперь же он все бежал прямо, ища следов только по одному берегу реки Макензи.
Всю ночь бежал Белый Клык в темноте, спотыкаясь о препятствия, которые лишь задерживали, но не останавливали его. К середине второго дня он уже бежал безостановочно тридцать часов, и его железный организм начал сдавать. Только душевная выносливость поддерживала его силы. Он не ел уже в течение сорока часов и ослабел от голода. Ледяные ванны, в которые он погружался несколько раз, также оказывали свое действие. Его красивая шкура испачкалась, из широких лап сочилась кровь. Он начал хромать, и хромота эта с каждым часом усиливалась. В довершение всего стало темнеть и пошел мягкий мокрый снег. Он таял под ногами, заволакивал всю местность и закрывал неровности почвы, что еще больше затрудняло странствие.
В эту ночь Серый Бобр собирался сделать привал по ту сторону реки Макензи, так как охотиться им предстояло на том берегу. Но незадолго до наступления ночи Клу-Куч, жена Серого Бобра, заметила оленя, пришедшего напиться по эту сторону реки. Если бы олень не пришел напиться и Клу-Куч не заметила его, если бы Мит-Са не свернул с пути из-за снега, если бы, наконец, Серый Бобр не убил оленя удачным выстрелом из ружья – все последующие события сложились бы иначе. Серый Бобр не сделал бы привала по эту сторону реки Макензи, и Белый Клык, пройдя мимо них, либо нашел бы смерть в лесу, либо присоединился бы к своим диким сородичам, чтобы остаться волком до конца дней своих.
Наступила ночь. Снег валил хлопьями, и Белый Клык, тихо визжа и хромая, продолжал брести дальше, как вдруг неожиданно наткнулся на свежий след на снегу. След был настолько свеж, что он тотчас же узнал его. Нетерпеливо визжа, он направился прочь от реки, продираясь между деревьями. До слуха его долетели знакомые звуки лагеря. Он увидел пламя костра, над которым стряпала Клу-Куч, и Серого Бобра, сидевшего на корточках, с куском сырого сала в руке. По-видимому, в лагере было свежее мясо.
Белый Клык был уверен, что его побьют. При мысли об этом он сжался и слегка взъерошил шерсть. Потом снова двинулся дальше. Он боялся побоев, которые, по его мнению, были неминуемы, но зато знал, что найдет там тепло у костра, покровительство богов и общество собак; в лагере его ждала вражда, но все же это было лучше, чем одиночество, и больше отвечало его стадным наклонностям.
Он ползком приблизился к костру. Серый Бобр заметил его и перестал жевать сало. Белый Клык подполз медленно, раболепно извиваясь и пресмыкаясь в знак своего унижения и покорности. Он полз прямо к Серому Бобру, с каждым шагом замедляя свои движения. Наконец, он очутился у ног хозяина, во власть которого он отдавался добровольно душой и телом. На этот раз он по собственной воле пришел к человеку и подчинился ему. Белый Клык дрожал, боясь наказания. Рука над ним зашевелилась. Он невольно съежился, ожидая удара, но удара не последовало. Он украдкой взглянул кверху. Серый Бобр разрывал кусок сала на две части. Серый Бобр предлагал ему половину. Белый Клык очень деликатно, но в то же время как будто недоверчиво обнюхал сало, а затем принялся есть его. Серый Бобр приказал принести ему мяса и оберегал его от других собак, пока он ел. Покончив с едой, Белый Клык, довольный и благодарный, лег у ног Серого Бобра, глядя на огонь, мигая и подремывая в тепле. Все существо его было полно приятного сознания, что завтра утром ему не придется скитаться больше в одиночестве в мрачном лесу; он проснется в лагере среди людей-богов, которым он отдался и от которых теперь всецело зависел.
Глава V. Договор
В конце декабря Серый Бобр предпринял путешествие по реке Макензи. Мит-Са и Клу-Куч сопровождали его. Одни нарты, запряженные своими и наемными собаками, он вел сам. Вторые, поменьше, вел его сын Мит-Са, и в них впряжена была свора щенков. Вторые нарты скорее походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге от того, что исполняет настоящее мужское дело. Он учился править и воспитывать собак, а щенки привыкали к упряжи. Но помимо этого, нарты приносили еще немалую пользу тем, что везли на себе около двухсот фунтов поклажи и припасов.
Белый Клык видел, как лагерные собаки не раз тащили нарты, поэтому он не очень возмутился, когда его запрягли вместе с ними. Ему надели на шею набитый мхом хомут, соединявшийся двумя ремнями с лямкой, охватывавшей его грудь и спину. К ней были привязаны постромки, за которые он тащил нарты.
В запряжке было семь молодых собак. Все они родились раньше его, каждая не моложе девяти-десяти месяцев, только Белому Клыку было восемь. Каждая собака была впряжена в нарты с помощью одного ремня. Все ремни были разной длины, и разница между длиной отдельных ремней была не менее корпуса одной собаки. Каждый ремень был привязан к кольцу в передней части нарт. Сами нарты не имели полозьев и представляли род ящика из березовой коры; передок был загнут кверху, чтобы нарты не зарывались в снег. Такое устройство способствовало более равномерному распределению тяжести нарт и поклажи на возможно большую поверхность, ибо снег в этот период зимы был еще очень рыхлым и напоминал истолченный в порошок хрусталь. Ради соблюдения того же принципа распределения тяжести собаки были прикреплены веерообразно к выступу нарт, так что ни одна из них не шла по следу другой.
Подобного рода запряжка давала еще одно преимущество. Разница в длине постромок мешала задним собакам бросаться на передних. Для того, чтобы одна собака могла напасть на другую, ей нужно было обернуться к той, которая шла за ней на более коротком ремне, но в этом случае ей пришлось бы встретиться не только с атакуемой собакой, но и с бичом погонщика. Но главная выгода подобного устройства заключалась в том, что задняя собака, стремясь напасть на переднюю, тащила нарты с максимальной быстротой, а чем быстрее бежали нарты, тем быстрее могла бежать преследуемая собака. Таким образом, задняя собака никогда не могла догнать переднюю. Чем скорее та бежала, тем скорее бежала следовавшая за ней, и тем скорее неслись нарты. Вот к каким хитрым приспособлениям прибегал человек, чтобы использовать подвластных ему животных.
Мит-Са очень походил на своего отца, в особенности умом. Он давно замечал, что Лип-Лип преследует Белого Клыка, но в то время Лип-Лип принадлежал другому хозяину, и Мит-Са ограничивался тем, что изредка осторожно кидал в него камнями. Теперь же Лип-Лип был собственностью Мит-Са, и, решив отомстить ему, юноша привязал его к концу самого длинного ремня. Лип-Лип сделался таким образом вожаком, место само по себе почетное, но в сущности сильно ронявшее его достоинство; вместо того, чтобы задирать других собак и заправлять всей сворой, он сам очутился в положении ненавистного и преследуемого сворой передового.
Поскольку его ремень был длиннее всех остальных, собакам постоянно казалось, что Лип-Лип убегает от них. Они видели перед собой один только пушистый хвост и задние лапы вожака, а это пугало их меньше, чем его взъерошенная шерсть и острые клыки. Помимо того, вид убегающего животного или человека всегда вызывает у собак желание бежать следом, ибо в их сознании тотчас же возникает мысль, что от них хотят скрыться. То же самое повторилось и по отношению к Лип-Липу.
С той минуты, как нарты трогались с места, собаки пускались преследовать Лип-Липа, и эта погоня продолжалась целый день. Вначале, озлобленный и оскорбленный в своем достоинстве, щенок пробовал оборачиваться к своим преследователям, но в этих случаях Мит-Са ударял его по морде тридцатифутовым бичом из оленьей жилы, заставляя поворачиваться и бежать дальше. Лип-Лип мог глядеть в лицо своре, но зрелища бича выдержать не мог, и ему ничего не оставалось делать, как, натянув свой длинный ремень, нестись впереди, спасаясь от зубов товарищей.
Но индеец придумал еще более коварный способ мести. Желая обострить ненависть собак к вожаку, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, а отличия эти возбуждали в них ревность и ненависть. Мит-Са на их глазах кормил его мясом, не давая ничего другим. Это доводило всю остальную упряжку до бешенства. Они злобно ходили вокруг Лип-Липа, не решаясь подойти близко, так как кнут в руках Мит-Са удерживал их на почтительном расстоянии. Когда же мяса не было, Мит-Са отгонял подальше всю упряжку и делал вид, что кормит Лип-Липа мясом.
Белый Клык охотно принялся за работу. Приняв закон богов, он проделал несравненно большую эволюцию, чем все остальные собаки, и твердо проникся сознанием, что желания их должны исполняться беспрекословно. К тому же преследования, которым он неоднократно подвергался со стороны собак, заставили его сильнее привязаться к человеку. Он не чувствовал потребности в обществе себе подобных. Кича была почти забыта, и весь запас оставшегося в нем чувства вылился в преданность богам, которых он сам избрал себе хозяевами. Поэтому работал он ревностно и быстро привык к дисциплине. Таковы отличительные черты волка и дикой собаки, сделавшихся ручными, и эти черты были необычайно сильно развиты в Белом Клыке.
Между Белым Клыком и другими собаками царила постоянная вражда. Он так и не научился никогда играть с ними. Он умел только драться и дрался с ними всласть, платя им сторицей за все обиды и удары, нанесенные ему тогда, когда Лип-Лип был вожаком всей своры. Но Лип-Лип ведь не был вожаком, за исключением тех часов, когда мчался, натянув ремень, впереди остальных, таща за собой нарты. Во время стоянок он держался вблизи Мит-Са, Серого Бобра или Клу-Куч. Он не решался отойти от них, зная, что острые клыки всей своры направлены против него. Он испытывал теперь то же, что пришлось испытать некогда Белому Клыку.
С падением Лип-Липа Белый Клык мог легко сделаться вожаком своры, но для этого он был слишком мрачным и замкнутым существом. Он или бил своих товарищей по упряжке, или совершенно игнорировал их. Они убегали, когда замечали его приближение; даже самая смелая из них не решалась стащить у него кусок мяса. Наоборот, все они спешили поскорее съесть свою порцию из боязни, чтобы он не отнял у них последнего куска. Белый Клык хорошо изучил закон: притеснять слабых и повиноваться сильным. Он съедал свою порцию с невероятной быстротой, и горе было той собаке, которая не успевала вовремя проглотить свою. Рычание, лязг зубов – и собаке этой оставалось только жаловаться равнодушным звездам, пока Белый Клык доедал ее порцию.
Время от времени, однако, та или другая собака пробовала возмутиться и нападала на Белого Клыка; тогда последний быстро усмирял строптивую. Таким образом, он тренировался и не терял привычки к борьбе. Он ревниво сберегал то обособленное положение, которое занял в своре, и часто дрался за его сохранение. Но такие драки продолжались недолго. Белый Клык значительно превосходил своих врагов в силе и ловкости. Миг – и собака уже лежала окровавленная, не успев еще по-настоящему вступить в бой.
Такую же дисциплину, какая существовала в пути между богами, Белый Клык поддерживал и между собаками. Он никогда не разрешал им никакой вольности и требовал полного к себе уважения. Между собой они могли вести себя как хотели: это его не касалось. Но ему они должны были уступить дорогу, когда он появлялся среди них; должны были уважать его одиночество и признавать его главенство. Намек на недовольство с их стороны, обнаженные клыки, взъерошенная шерсть – и он бросался на собаку, беспощадный и жестокий, и быстро заставлял ее раскаяться в своей ошибке.
Он был чудовищным тираном и требовал железной дисциплины. Слабые не знали пощады. Недаром же с первых месяцев своей жизни он познал жестокую борьбу за существование, когда скитался вдвоем со своей матерью по суровой пустыне, недаром научился бесшумно красться, чуя близость врага. Он притеснял слабых, но уважал сильных. И за все время долгого путешествия с Серым Бобром он вел себя очень осторожно со взрослыми собаками, встречавшимися ему по пути, в лагерях этих странных животных-людей.
Прошло несколько месяцев, а Серый Бобр двигался все дальше и дальше. Силы Белого Клыка развились под влиянием долгой дороги и упорной, постоянной работы, а умственное его развитие можно было считать почти законченным. Он прекрасно изучил тот мир, в котором вращался, и усвоил себе мрачный взгляд на вещи. Мир казался ему жестоким и грубым; в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанности, ни духовной прелести.
Белый Клык не любил Серого Бобра. Правда, он был богом, но богом жестоким. Белый Клык с радостью признавал его власть, но власть эта основывалась на грубой силе и превосходстве ума. В Белом Клыке от природы было заложено нечто, заставлявшее его желать этой власти – иначе он не вернулся бы из лесу, чтобы изъявить покорность своему господину. В его натуре были какие-то неисследованные глубины, которых никто еще не касался. Доброе слово и ласка со стороны Серого Бобра могли бы осветить эти бездны. Но Серый Бобр никогда никого не ласкал и не говорил добрых слов. Это было чуждо ему. Это был грубый дикарь; он чинил правосудие дубиной, наказывал за проступки ударами и награждал заслуги не добром, а только тем, что воздерживался от ударов.
Итак, Белый Клык ничего не знал о том счастье, которое может дать человеческая рука. Он не любил ее и всегда относился к ней с некоторым недоверием. Правда, руки эти давали иногда мясо, но чаще всего они причиняли боль. Их следовало избегать. Они бросали камни, замахивались палками, дубинами и бичами и раздавали удары, а если прикасались к нему, то только для того, чтобы ущипнуть или дернуть. Во встречных поселках он познакомился с детскими руками и узнал, что они тоже умеют причинять боль. Однажды он чуть не лишился глаза из-за крошечного мальчишки. С тех пор он подозрительно относился ко всем папузам [папуз — ребенок по-индейски]. Он не выносил их. Когда они приближались к нему со своими зловещими руками, он поднимался и уходил.
Как-то раз в поселке, на берегу Большого Невольничьего озера, Белый Клык, убедившись лишний раз в злокозненности человеческих рук, изменил правилу, которому научил его Серый Бобр, а именно: что укусить бога – непростительное преступление. В этом поселке, по обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пропитания. По пути он набрел на мальчишку, рубившего топором мясо, обрезки которого разлетались по снегу. Белый Клык остановился и стал подбирать эти обрезки. Он увидел, что мальчик отложил в сторону топор и вооружился толстой дубиной. Белый Клык отскочил как раз вовремя, чтобы избежать направленного на него удара. Мальчик пустился за ним вдогонку, и Белый Клык, не зная местности, бросился в проход между двумя юртами и оказался припертым к высокому валу.
Бежать было некуда. Единственный путь между двумя юртами был загорожен мальчиком. Высоко подняв дубину, он подошел к пойманному в ловушку зверю. Белый Клык пришел в ярость. Он смотрел на мальчика, рыча и ероша шерсть; его чувство справедливости было возмущено. Он хорошо знал закон фуражировки. Всякие мясные отбросы, вроде мороженых обрезков, принадлежали собаке, нашедшей их. Он не сделал никому зла, не нарушил закона, а этот мальчишка собирался бить его. Белый Клык едва ли сознавал, что делает. Он был вне себя от ярости, и нападение произошло так стремительно, что мальчик тоже ничего не понял. Он почувствовал только, что лежит на снегу и что рука его, державшая дубину, насквозь прокушена зубами Белого Клыка.
Но Белый Клык знал, что он преступил закон богов. Он вонзил свои зубы в священное мясо одного из них и должен был ожидать страшного наказания. Он убежал к Серому Бобру и спрятался у него под ногами, когда мальчик со всей семьей явился требовать мщения. Но они ушли ни с чем. Серый Бобр вступился за свою собаку, и его поддержали Мит-Са и Клу-Куч. Белый Клык, прислушиваясь к словесной распре и следя за возбужденными движениями, понял, что его поступок оправдан. Тут он впервые уразумел, что боги бывают разные. Существовали его боги и другие боги, но между ними была огромная разница. От своих он должен был терпеливо сносить все – и справедливость и несправедливость, но чужим богам он имел право мстить за обиды зубами. Это тоже был закон богов.
В тот же день Белому Клыку пришлось узнать еще кое-что об этом законе. Мит-Са, собирая сучья в лесу, встретил укушенного мальчика. С ним были его товарищи. Произошла ссора, и все мальчики бросились на Мит-Са. Ему пришлось плохо: удары сыпались на него со всех сторон. Сначала Белый Клык равнодушно следил за побоищем. Ведь дрались боги, это было их дело, а не его. Но вскоре он сообразил, что Мит-Са, одного из его собственных богов, обижают чужие боги. Однако не доводы разума, а дикий прилив злобы заставил Белого Клыка броситься на сражающихся. Пять минут спустя поляна покрылась разбегавшимися во все стороны мальчиками, причем на снегу оставались следы крови, доказывавшие, что зубы Белого Клыка недурно поработали. Когда Мит-Са рассказал в лагере о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса, и Белый Клык, лежа у костра, сытый и сонный, понял, что его поступок получил должную оценку.
На этом опыте Белый Клык познакомился с законом собственности и усвоил себе, что защита этой собственности является его долгом. От защиты самого бога до защиты его имущества был только один шаг, и этот шаг он сделал. Все принадлежавшее его богу он обязан был защищать против целого света, не останавливаясь даже перед тем, чтобы кусать чужих богов. Правда, такая дерзость казалась ему святотатством и была, кроме того, сопряжена с опасностью. Ведь боги были всемогущи, и собака не могла бороться с ними, но Белый Клык научился смело и безбоязненно смотреть им в глаза. Долг был выше страха, и вороватые боги скоро отучились посягать на имущество Серого Бобра.
Белый Клык быстро заметил, что вороватые боги бывают обыкновенно трусливы и быстро убегают при первой тревоге. Он понял также, что стоит ему подать голос, и Серый Бобр явится к нему на помощь. Это значило, что вор боится не его, а Серого Бобра. Белый Клык не поднимал тревоги лаем – он вообще не умел лаять, – а обычно сразу бросался на непрошеного гостя, стараясь по возможности вцепиться в него зубами. Благодаря своему мрачному и замкнутому нраву, заставлявшему его чуждаться других собак, он был необыкновенно пригоден для роли сторожа, а Серый Бобр всячески старался развить в нем эти особенности. В результате Белый Клык сделался еще злее и страшнее прежнего.
Проходили месяцы, все сильнее скрепляя договор между человеком и собакой. Это был тот же прежний договор, заключенный между первым волком и человеком. И как делали это все другие волки и дикие собаки до и после него, Белый Клык сам выработал для себя его условия. Они были просты. За то, чтобы приобрести собственного бога из плоти и крови, он отдавал свою свободу. От бога он получал пищу, тепло и покровительство. Взамен этого он обязывался стеречь имущество бога, защищать его, работать на него и повиноваться ему.
Обладание богом обязывает к служению ему. Белый Клык служил из чувства долга и благоговения, но не из любви. Он не знал, что такое любовь. Кичу он почти забыл. К тому же он понимал, что, отдавшись по доброй воле в руки своего бога, он не только отказался от воли и своей породы; он знал, что даже при встрече с Кичей он не покинет своего бога ради нее. Его преданность человеку была выше любви к свободе, к семье и породе.
Глава VI. Голод
К весне Серый Бобр окончил свое далекое путешествие. Стоял апрель, и Белому Клыку шел уже второй год, когда он, наконец, добрался до родного поселка, и Мит-Са снял с него хомут. Хотя Белый Клык далеко еще не достиг полного развития, но после Лип-Липа он был одним из самых больших годовалых щенят. От волка-отца и от Кичи он унаследовал крупное сложение и силу и мог уже равняться с взрослыми собаками. Но его телу не хватало еще компактности. Он был худой и поджарый, и сила его объяснялась скорее натренированностью мускулов, чем их массивностью. Шерсть у него была серая, настоящая волчья, и видом своим он полностью походил на волка. Доля собачьей крови, унаследованная им от Кичи, ни капли не отразилась на его внешнем облике, но зато оказала сильное влияние на склад его ума.
Он бродил по деревням и с чувством удовлетворения узнавал различных богов, которых знал до путешествия. Тут были также щенки, подобные ему, и взрослые собаки, казавшиеся ему теперь уже не такими большими и страшными, какими они сохранились у него в памяти. Он боялся их гораздо меньше прежнего и разгуливал между ними с небрежной уверенностью; это было для него столь же ново, сколь и приятно.
Был тут и старый Бэсик, которому в прежнее время стоило только оскалить зубы, чтобы заставить Белого Клыка съежиться и обратиться в бегство. Из-за него Белому Клыку не раз приходилось чувствовать свое ничтожество; теперь же благодаря ему же он узнал о происшедшей в нем громадной перемене. В то время как Бэсик слабел от старости, Белый Клык с каждым днем набирался сил.
О перемене, происшедшей в его отношениях к собачьему миру, Белый Клык узнал однажды при дележе свежеубитого оленя. На его долю досталось копыто и часть голени, к которой пристал порядочный кусок хорошего мяса. Спрятавшись за кустами от других собак, он пожирал свой лакомый кусок, когда Бэсик накинулся на него. Но Белый Клык, сам не сознавая, что делает, два раза укусил его и отскочил в сторону. Бэсик был ошеломлен его смелостью и быстротой нападения. Он стоял, бессмысленно уставившись на Белого Клыка и на лежавшую между ними окровавленную кость.
Бэсик был стар, и ему не раз уже случалось убеждаться, что собаки, которых он раньше беспощадно преследовал, теперь оказывались сильнее его. Как ни горько было это сознание, приходилось мириться с ним, и он призвал на помощь всю свою мудрость и долголетний опыт, чтобы как-нибудь поддержать свой престиж. В прежнее время он с яростью бросился бы на Белого Клыка, но теперь сознание собственной слабости не позволяло ему отважиться на этот рискованный шаг. Он взъерошил шерсть и устремил грозный взгляд на своего врага, и волк, охваченный вдруг прежним страхом, весь съежился и стал лихорадочно придумывать способ, как бы убраться без большого позора.
И тут Бэсик сделал огромный промах. Продолжай он рычать и злобно смотреть на Белого Клыка, все было бы хорошо, и Белый Клык в силу привычки, наверное, отступил бы, оставив ему мясо. Но Бэсик не стал ждать. Считая победу обеспеченной, он приблизился к мясу и принялся его обнюхивать. Белый Клык слегка насторожился. Бэсик и тут мог бы еще спасти положение. Если бы он остался стоять, наклонившись над мясом, но не прикасаясь к нему, Белый Клык несомненно убежал бы; но запах мяса сильно раздражал аппетит Бэсика, и жадность заставила его взяться за кость.
Этого Белый Клык не мог перенести. Он еще слишком живо помнил о том, как безраздельно он царил над сворой, и не мог спокойно смотреть, как другая собака ест принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению, он кинулся без предупреждения. При первом же столкновении правое ухо Бэсика оказалось разорванным в клочья. Он был поражен молниеносной быстротой нападения. Но тотчас же произошло нечто еще более неожиданное: он был сбит с ног и укушен в горло. Пока он силился встать на ноги, Белый Клык дважды укусил его в плечо. Он действовал с головокружительной быстротой. Бэсик сделал бесплодную попытку броситься на Белого Клыка, но зубы его громко щелкнули в воздухе, и в следующую минуту он, шатаясь, отступал с прокушенным носом.
Положение совершенно изменилось. Белый Клык стоял теперь над мясом, ероша шерсть и рыча, а Бэсик держался в отдалении, раздумывая, как бы улепетнуть. Он не решался вступить в борьбу с этим молодым молниеносным врагом и снова, на этот раз с еще большей горечью, ощутил дыхание надвигающейся старости. Однако в попытке его сохранить свое достоинство было что-то героическое. Спокойно повернувшись спиной к врагу и кости, как будто оба они были недостойны его внимания и не существовали для него, он важно удалился и, только отойдя на значительное расстояние, где Белый Клык уже не мог его видеть, принялся зализывать свои раны.
Эта победа придала Белому Клыку больше веры в себя и заставила его возгордиться. Он стал держаться свободнее в отношении других взрослых собак. Он не искал с ними ссоры, но требовал к себе уважения. Он считал, что другие обязаны уступать ему дорогу, но сам не уступал ее никому. С ним следовало считаться, вот и все. Он не допускал больше по отношению к себе невнимания и небрежности, которые выпадали на долю других щенков, в том числе и его бывших товарищей по упряжке. Эти уступали дорогу взрослым собакам и, подчиняясь насилию, отдавали им свое мясо, но к Белому Клыку, одинокому, мрачному, страшному, необщительному и чужому, взрослые собаки в полном недоумении стали относиться как к равному. Они научились не трогать его и отказались от всяких попыток вступать с ним в драку или завязать дружеские отношения. Когда они оставляли его в покое, он тоже не трогал их, и обе стороны после нескольких стычек убедились, что такое положение дел их больше всего устраивает.
В середине лета с Белым Клыком произошел странный случай. Отправившись в одиночестве осмотреть новую юрту, выстроенную на краю поселка за то время, что он уходил с охотниками на оленей, он вплотную столкнулся с Кичей. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил ее, правда, смутно, но все же помнил, чего нельзя было сказать о ней. Она обнажила клыки и зарычала на него, и тут память его прояснилась. Забытое детство, так тесно связанное с этим знакомым рычанием, тотчас воскресло в памяти волчонка. Ведь до знакомства с богами мать была для него центром вселенной. Прежние чувства охватили его. Он радостно бросился к ней, а она встретила его обнаженными клыками и раскроила ему щеку до самой кости. Он был озадачен и отскочил, испуганный и удивленный.
Но Кича не была виновата. Волчица-мать не способна помнить своих взрослых щенят, и Кича забыла Белого Клыка. Для нее он был теперь чужой, и ее нынешний выводок давал ей право гнать всех чужих и незнакомых.
Один из щенков подполз к Белому Клыку: они были почти братьями, но не знали об этом. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка; Кича при этом вторично укусила его в морду. Он отступил еще дальше. Все нахлынувшие воспоминания растаяли и снова ушли в могилу, откуда они воскресли на миг. Белый Клык взглянул на рычавшую, облизывавшую своего щенка Кичу. Она утратила в его глазах всякое значение. Он уже научился обходиться без нее. Влияние ее было забыто. Она не существовала больше для него, так же как и он не существовал для нее.
Он все еще в полном недоумении стоял на месте, когда Кича в третий раз бросилась на него, чтобы отогнать его прочь. И Белый Клык не сопротивлялся. Это была самка его породы, а между волками существует закон, воспрещающий самцам нападать на самок. Он ничего не знал об этом законе, ибо это не было обобщение, явившееся следствием умственного процесса или жизненного опыта: он просто почувствовал тайное внушение, услыхал голос инстинкта, того же инстинкта, который заставлял его выть на луну по ночам и бояться смерти и неизвестного.
Проходили месяцы. Белый Клык рос, становился больше и сильнее, а характер его развивался сообразно условиям жизни и наследственности. Наследственность эта была подобна глине, из нее можно было вылепить что угодно, придать ей любую форму. Если бы Белый Клык так и не подошел никогда к костру человека, жизнь в пустыне сделала бы из него настоящего волка. Но боги окружили его другими условиями, и он стал собакой, сильно похожей на волка, но все же собакой.
Итак, благодаря природным задаткам и влиянию окружающей его среды, характер его вылился в особую своеобразную форму. Это было неизбежно. Он становился все менее общительным, все более угрюмым, злым и мрачным. Собаки с каждым разом убеждались в том, что лучше оставлять его в покое, а Серый Бобр с каждым днем больше ценил его.
Белый Клык, отличавшийся силой во всех своих проявлениях, страдал, однако, и одной слабостью. Он не выносил, когда над ним смеялись. Человеческий смех был ему ненавистен. Если люди смеялись между собой, он относился к этому равнодушно, лишь бы смех этот не касался его. Но, почувствовав насмешку над собой, он сразу же приходил в бешеную ярость. Обыкновенно серьезный, мрачный и важный, он в таких случаях неистовствовал до смешного. Смех так оскорблял и раздражал его, что он способен был часами бушевать, словно злой дух. И горе было той собаке, которая попадалась ему в такую минуту на глаза. Белый Клык слишком хорошо знал закон, чтобы решиться излить свою злобу на Серого Бобра, за спиной которого была дубина и его божественное происхождение, но за спиной собак не было ничего, кроме пространства, и туда-то они и спасались от Белого Клыка, когда людской смех доводил его до бешенства.
На третьем году его жизни у индейцев на Макензи настал большой голод. Летом не было рыбы. Зимой олени покинули свои обычные места; лоси стали редки, кролики почти исчезли, хищники погибали. Лишенные обычной добычи, ослабевшие от голода, они пожирали друг друга. Выживали только сильные.
Боги Белого Клыка всегда были охотниками. Старики и слабые умирали от голода. В деревне стоял стон женщин и детей, которые отказывали себе во всем, отдавая последние остатки пищи истощенным охотникам, бродившим по лесам в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они стали есть кожу своих мокасинов и рукавиц, а собаки питались кожей хомутов и ремнями бичей. Собаки, кроме того, пожирали друг друга, а боги поедали собак. Сначала уничтожались псы более слабые и непригодные, а оставшиеся в живых понимали, что их ожидает. Самые смелые и умные из них покидали костры богов, превратившиеся теперь в бойни, и убегали в лес, где погибали от голода или становились добычей волков.
В это ужасное время Белый Клык тоже ушел в лес. Он лучше других был приспособлен к этой жизни, имея опыт своего детства. С особым искусством выслеживал он мелкую дичь. Он мог часами лежать притаившись и, несмотря на мучивший его голод, с неимоверным терпением следить за каждым движением сидевшей на дереве белки, пока она не спустится вниз. Но и тут он не торопился. Он выжидал удобной минуты, чтобы с уверенностью нанести удар, прежде чем белка успеет добраться до ближайшего дерева. Тогда и только тогда, с быстротой молнии, выскакивал он из засады, словно серая бомба, и без промаха набрасывался на свою жертву, которая тщетно пыталась убежать от него.
Однако охота за белками не могла утолить его голод. Их было слишком мало. Ему приходилось отыскивать и других мелких животных. Иногда голод так сильно мучил его, что он не брезгал выкапывать из земли лесных мышей. Он не останавливался даже перед нападением на ласку, такую же голодную, как и он, но гораздо более жестокую.

В самые острые минуты голода он возвращался обратно к кострам богов, но не подходил к ним близко, а бродил у опушки, стараясь остаться незамеченным, и обкрадывал капканы в тех редких случаях, когда в них попадалась дичь. Он даже обокрал капкан Серого Бобра в то время, как тот, едва волоча от слабости ноги, брел, спотыкаясь, по лесу, часто присаживаясь из-за слабости и одышки.
Раз как-то Белый Клык встретил молодого, истощенного, едва волочившего от голода ноги волка. Не будь он голоден, возможно, он ушел бы с ним и присоединился к своим братьям-волкам, но тут он погнался за своим родичем, убил его и съел.
Счастье, казалось, благоприятствовало ему. Всякий раз, как голод обострялся, он находил какую-нибудь дичь. Когда же он очень ослабевал, судьба оберегала его от встреч с более крупными хищными зверьми. Раз ему удалось основательно подкрепить свои силы, питаясь в течение двух дней убитой им рысью, и как раз в это время на него напала голодная стая волков. Это была продолжительная жестокая погоня, но он был более сыт; и ему не только удалось убежать от них, но, сделав крюк, зайти им в тыл и самому напасть на одного из отставших и убить его.
Вскоре он покинул эту местность и направился вверх к долине, где он родился. Здесь в знакомой берлоге он встретился с Кичей. Тряхнув стариной, она тоже покинула негостеприимные костры богов и вернулась в свое прежнее убежище, чтобы произвести на свет новых волчат. К приходу Белого Клыка от всего выводка оставался только один, да и этому не суждено было пережить голод.

Кича встретила своего взрослого сына далеко не приветливо. Но ему это было безразлично; он уже не нуждался в матери и, спокойно повернувшись к ней спиной, продолжал свой путь вверх по реке. Дойдя до того места, где река разветвлялась, он направился вдоль левого русла и нашел берлогу рыси, с которой он и мать его сразились когда-то. Здесь, в пустой берлоге, он отдыхал в течение целых суток.
В начале лета, когда голод был уже на исходе, Белый Клык встретил Лип-Липа, который также ушел в лес, где влачил самое жалкое существование. Белый Клык набрел на него совершенно неожиданно. Идя с двух сторон вдоль основания высокого утеса, они почти одновременно обогнули выступ скалы и столкнулись носом к носу. На минуту они остановились, подозрительно оглядывая друг друга.
Белый Клык был в прекрасном состоянии. Охота шла удачно, и он вот уже целую неделю питался досыта. Последней добычей он, пожалуй, даже немного объелся. Но, встретив Лип-Липа, он по старой привычке ощетинился и злобно зарычал. Он сделал это совершенно невольно, просто потому, что это внешнее проявление всегда сопровождало известное настроение, которое вызывал в нем своими приставаниями и преследованиями Лип-Лип. В прошлом при встрече с Лип-Липом он всегда ерошил шерсть и рычал, точно так же сделал он это автоматически и теперь. Он не стал терять времени; все произошло как-то мгновенно. Лип-Лип попытался отступить, но Белый Клык налетел на него, опрокинул на спину и перегрыз ему зубами тонкое горло. Несколько минут напряженно наблюдал он предсмертные судороги врага, затем спокойно двинулся дальше вдоль подошвы холма.
Однажды, вскоре после этой встречи, он подошел к опушке леса, где узкая открытая полоса земли полого спускалась к реке Макензи. Он бывал здесь раньше, когда поляна эта была необитаема, теперь же на ней раскинулся поселок. Спрятавшись за деревьями, Белый Клык остановился, чтобы ознакомиться с положением. Вид, звуки и запахи показались ему знакомыми. Это была его прежняя деревня, только переменившая место. Но и вид, и звуки, и запахи сильно отличались от тех, которые он оставил уходя. Теперь не слышно было ни стона, ни плача. И когда до его слуха донеслись злые голоса женщин, он понял, что эта злоба исходит от сытого желудка. В воздухе пахло рыбой. Там была пища! Голод миновал!

Он смело вышел из леса и направился прямо к юрте Серого Бобра. Хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила его радостными криками и угостила свежепойманной рыбой, и Белый Клык улегся у ее ног, ожидая возвращения Серого Бобра.
Часть четвертая
Глава I. Враг собачьего рода
Если для Белого Клыка и оставалась еще в будущем какая-либо возможность подружиться с собратьями одной с ним породы, то возможность эта безвозвратно исчезла с того момента, как его сделали вожаком запряжки. Теперь собаки возненавидели его окончательно: возненавидели его за лишние куски мяса, которые давал ему Мит-Са, и за все льготы и поблажки, выпадавшие на его долю. Они ненавидели его за то, что он вечно бежал впереди упряжки, и за то, что перед глазами у них постоянно мелькали его пушистый хвост и задние лапы, доводившие их до бешенства.
И Белый Клык платил им той же монетой. Новое положение вожака упряжки не сулило ему ничего приятного. Необходимость постоянно убегать от разъяренной своры, каждую собаку которой он в течение трех лет неоднократно избивал и унижал, выводила его из себя. Но делать было нечего, оставалось только терпеть или погибнуть, а погибать у него не было никакого желания. В ту минуту, когда Мит-Са отдавал приказание трогаться, вся свора с дикими злобными криками бросалась вперед на Белого Клыка. О защите нечего было и думать. Если он оборачивался к ним, Мит-Са концом длинного кнута ударял его по морде. Ему не оставалось ничего другого, как бежать. Он не мог защищаться хвостом и задними лапами от всей этой бешеной орды; это было плохое оружие против их беспощадных клыков. И он бежал, насилуя при каждом скачке свой самолюбивый нрав и гордость – бежал целый день.
Нельзя, однако, безнаказанно насиловать свою природу. Она непременно отомстит за себя. Это все равно, что заставить волос, которому предназначено расти наружу, переменить направление и врастать в тело; если бы такой опыт был возможен, в результате получилось бы воспаление и сильная боль. Так было и с Белым Клыком.
Всем своим существом он стремился напасть на лаявшую за его спиной свору, но боги не желали этого и подкрепляли свою волю длинным тридцатифутовым бичом из оленьей кожи. Таким образом, Белому Клыку оставалось только глубоко затаить горечь обиды и лелеять в душе ненависть и коварство, не уступающее его природной жестокости и непокорности.
Не было худшего врага собственной породы, чем Белый Клык. Он не просил пощады, но и не давал ее. Он был вечно покрыт рубцами от укусов всей своры, но и она носила на себе следы его зубов. В противоположность другим передовым собакам, которые, когда их распрягали во время привалов, жались к богам, Белый Клык никогда не искал защиты. Он смело разгуливал по лагерю, вымещая вечером на собаках снесенные за день обиды.
Пока он еще не был вожаком в запряжке, другие собаки уступали ему дорогу. Теперь дело изменилось. Возбужденные долгой погоней, находясь под обманчивым впечатлением победы над ним и собственного превосходства, которым они упивались целый день, собаки не могли заставить себя уступать ему дорогу. Стоило ему показаться, как тотчас же завязывалась драка. Появление его сопровождалось лаем, рычанием и щелканьем зубов. Воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это еще больше раздувало его собственную ненависть и злобу.
Когда Мит-Са приказывал запряжке остановиться, Белый Клык повиновался. Вначале это всегда вызывало замешательство среди собак. Все они рады были броситься на ненавистного вожака, но их останавливал Мит-Са с длинным кнутом в руках. Таким образом, собаки поняли, что, когда нарты останавливались по приказанию хозяина, накидываться на Белого Клыка не следует. Только, когда Белый Клык останавливался без приказания, всей своре разрешалось броситься на него и разорвать его в клочки, если им это удастся. После нескольких таких столкновений Белый Клык понял, что он не имеет права останавливаться по своему желанию. Он быстро усваивал подобные уроки. Сама природа вещей требовала от него сообразительности, ибо иначе он несомненно погиб бы в тех тяжелых условиях, которыми окружила его судьба.
Собаки никак не могли запомнить, что на стоянках они не должны задирать Белого Клыка. Гоняясь за ним и преследуя его, они забывали за день урок, полученный накануне вечером; и когда урок этот повторялся, они снова немедленно забывали его. К тому же ненависть их к Белому Клыку имела под собой более глубокое основание. Они чувствовали в нем враждебную породу – причина вполне достаточная, чтобы возбудить в них злобу. Подобно ему, они были прирученные волки. Но процесс этот начался для них давно, много поколений назад. Наследие пустыни было почти утрачено ими, а сама пустыня представлялась им страшной и грозной неизвестностью. Однако в облике, поступках и характере Белого Клыка сквозило тесное родство с пустыней. Он символизировал, олицетворял ее; скаля на него зубы, собаки только стремились защититься от разрушительной силы, таившейся в густой чаще леса и в темных тенях, окружавших костры.
Тем не менее одно правило свора хорошо изучила, а именно, что ей следует всегда держаться вместе. Белый Клык был слишком страшным врагом для того, чтобы можно было решиться вступить с ним в единоборство. Они встречали его всей сворой; иначе он перебил бы их всех поодиночке в одну ночь. Стоило ему сбить одну из них с ног, как сейчас же все остальные набрасывались на него, прежде чем он успевал прокусить ей горло. При первом намеке на столкновение вся свора сообща накидывалась на него. Собаки иногда ссорились между собой, но все раздоры прекращались, лишь только среди них появлялся Белый Клык.
С другой стороны, как они ни старались, им не удавалось убить Белого Клыка. Он был слишком ловок для них, слишком грозен, слишком умен. Он избегал узких мест и всегда успевал улизнуть, когда свора делала попытки окружить его. Сбить же его с ног не удавалось еще ни одной собаке. Ноги его цеплялись за землю с такой же силой, с какой сам он цеплялся за жизнь. В этом отношении жизнь и устойчивость были синонимами в вечной борьбе со сворой, и никто лучше Белого Клыка не знал этого.
Итак, он сделался врагом своей породы, этих прирученных волков, изнежившихся у костра человека, ослабевших под защитой его силы. Белый Клык был жесток и беспощаден. Таким вылепила его природа. Он объявил войну всем собакам. Даже Серый Бобр, при всей своей жестокости, нередко дивился свирепости Белого Клика. Он клялся, что никогда еще не существовало подобного зверя, и того же мнения придерживались индейцы других поселков, подсчитывая число его жертв среди своих собак.
Когда Белому Клыку исполнилось пять лет, Серый Бобр взял его с собой в новое далекое путешествие, и жители поселков вдоль реки Макензи на перевале через Скалистые горы и от Дикобразовой реки до Юкона долго помнили опустошение, произведенное Белым Клыком среди их собак. Он наслаждался мщением, убивая своих ближних. Это были все самые обыкновенные доверчивые собаки. Они не были подготовлены к быстроте его натиска и не ожидали атаки без предупреждения. Они не подозревали, что он похож на молнию, убивающую на месте. Они подходили к нему, вызывающе ероша шерсть, а он, не теряя времени на предупреждение, бросался на них и перегрызал им горло, раньше чем они успевали опомниться.
Белый Клык сделался искусным борцом. Он экономил силы, никогда не тратил их зря и не ввязывался в длительную борьбу. Он нападал быстро, а если нападение не удавалось, он так же быстро отскакивал. Подобно всем волкам, он не выносил длительного прикосновения к чужому телу. Это грозило опасностью и приводило его в бешенство. Он должен был чувствовать себя на свободе, на ногах и не касаться ничего живого. В этом сказывалось еще влияние пустыни, утверждавшейся через него. Инстинкт этот еще усилился в нем от одинокой жизни, которую он вел с детства. В соприкосновении таилась опасность. Это был капкан, страх перед которым глубоко сидел в нем, вплетался в каждую фибру его существа.
Вот почему чужие собаки, встречавшиеся ему, не в состоянии были с ним бороться. Он избегал их клыков и либо убивал их, либо уходил от них невредимый. Бывали, конечно, исключения. Случалось, что несколько собак бросались на него и успевали задать ему трепку; иногда и одинокой собаке удавалось свести с ним счеты. Но то были лишь редкие случаи. В общем, он сделался таким искусным борцом, что все сходило ему безнаказанно. На его стороне было еще одно преимущество: он умел правильно определять время и пространство. Не то чтобы он делал это сознательно или умел рассчитывать. Нет! Процесс этот совершался в нем чисто механически. Зрение у него было превосходное, и его нервы быстро и точно передавали зрительное впечатление мозгу. Все его члены были лучше развиты, чем у обыкновенных собак, и весь организм работал глаже и напряженнее. Нервами, умом и силой мышц он превосходил всех своих собратьев. Когда глаза его передавали мозгу подвижное изображение действия, мозг его без особых усилий определял границы этого действия в пространстве и время, необходимое для его выполнения. Таким путем он легко мог уклониться от прыжка другой собаки или удара ее клыков и при этом определить кратчайшее время, нужное ему для успешного нападения. Тело его и мозг представляли совершенный механизм. За это он не заслуживал похвал; природа оказалась к нему щедрее, чем к другим, вот и все.
Стояло уже лето, когда Белый Клык прибыл в форт Юкон. Серый Бобр перевалил зимой через большой хребет, отделявший Макензи от Юкона, и провел весну, охотясь на западных отрогах Скалистых гор. Затем, когда на Дикобразовой реке стаял лед, он построил пирогу и поплыл вниз до слияния ее с Юконом у самого Полярного круга. Здесь стоял форт старого Общества Гудзонова Залива; тут было много индейцев, много пищи и царило необыкновенное оживление. Это было лето 1898 года, и тысячи золотоискателей направлялись вверх по Юкону в Даусон и Клондайк. Хотя до цели оставались еще сотни миль, многие из них были в пути уже целый год; некоторые, чтобы добраться сюда, прошли более пяти тысяч миль, а были и такие, что явились с края света.
Здесь Серый Бобр остановился. Шум золотого потока достиг его ушей, и он приехал сюда с несколькими тюками мехов, рукавиц и мокасинов. Он не решился бы на такое продолжительное путешествие, если бы не рассчитывал на хорошие барыши. Но действительность далеко превзошла все его ожидания. Самые смелые мечты Серого Бобра не простирались дальше ста процентов прибыли, а он нажил тысячу процентов. И, как настоящий индеец, он обосновался там надолго, чтобы как можно выгоднее и не торопясь распродать свой товар, хотя бы для этого пришлось остаться на все лето и часть зимы.
В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Сравнив их с индейцами, он понял, что это какие-то особенные существа, высшие боги. Ему казалось, что они обладают большей силой, а в силе, по его мнению, и сказывалась божественность. Белый Клык дошел до этого сознания не разумом, а чувством; он не сделал вывода, что белые боги потому-то и потому-то могущественнее индейцев, а просто почувствовал это всем своим существом.
Когда он был еще щенком, громадные юрты индейцев поразили его как проявление неслыханной мощи; теперь же он изумлялся при виде домов и фортов, выстроенных из массивных бревен. В этом он видел могущество, следовательно, белые боги были могущественнее. Они обладали большей властью над предметами, чем боги, которых он знал до сих пор, в том числе и самый сильный из них Серый Бобр. Теперь Серый Бобр казался ему маленьким божком в сравнении с этими белокожими богами.
Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это, а не сознавал. Но животное по большей части руководствуется чутьем, а не разумом, и каждый поступок Белого Клыка основывался теперь на чувстве, что белые люди – высшие боги. Вначале он относился к ним очень подозрительно. Ведь нельзя было знать, какие неизвестные ужасы они способны придумать и какую боль они могут причинить. Он с любопытством следил за ними, стараясь сам оставаться незамеченным. Первое время он довольствовался тем, что наблюдал за ними издали, но, заметив, что новые боги не причиняли никакого зла вертевшимся поблизости собакам, он отважился подойти к ним ближе.
В свою очередь он возбуждал в белых людях любопытство. Его волчий облик привлекал их внимание, и они указывали на него друг другу пальцами. Это не нравилось Белому Клыку, и, когда они старались подойти к нему, он скалил зубы и убегал. Ни одному из них не удалось дотронуться до него рукой, и это было счастьем для них.
Белый Клык вскоре понял, что только немногие из этих богов, не более полудесятка, постоянно живут здесь. Каждые два-три дня к берегу подходил пароход (новое бесспорное доказательство их могущества) и останавливался там на несколько часов. Белые люди сходили с этих пароходов и вновь исчезали на них. Казалось, что их было невероятное количество. В первые же дни он увидел гораздо больше белых богов, чем видел индейцев за всю свою жизнь, и каждый день они прибывали с низовьев реки, останавливались и снова продолжали путь вверх по реке.
Но если белые боги были всемогущи, то собаки их немногого стоили. В этом Белый Клык скоро убедился, потолкавшись среди тех, которые сходили на берег вместе с хозяевами. Они были самого различного вида и роста. У одних были слишком короткие ноги, у других – слишком длинные. У одних были волосы вместо шерсти, а у некоторых этих волос было очень мало – и ни одна из них не умела драться.
В качестве отъявленного врага собачьей породы Белый Клык считал своим долгом вступать с ними в драку. Так он и делал и вскоре преисполнился к ним глубокого презрения. Они были слабы и беспомощны, поднимали отчаянную возню и старались брать силой там, где нужна была быстрота и хитрость. Они с лаем бросались на него, а он ловко отскакивал от них, и пока они соображали, куда он делся, он бросался на них, опрокидывал на землю и перегрызал им горло.
Иногда нападение бывало удачно, и смертельно раненная собака летела в грязь, где ее немедленно разрывала караулившая ее свора индейских собак. Белый Клык был хитер. Он давно уже знал, что боги сердятся, когда убивают их собак. Белые люди в этом не составляли исключения. Поэтому Белый Клык был всегда очень доволен, когда, сбив собаку с ног и перервав ей горло, он успевал удрать, предоставив прикончить собаку своре. Тут обыкновенно прибегали белые люди и жестоко вымещали свою злобу на своре, а Белый Клык оставался невредим. Он стоял в стороне и смотрел, как камни и удары дубин сыпались на его собратьев. Он был очень хитер.
Но собаки индейской своры тоже развивались в некотором отношении, и вместе с ними умнел и Белый Клык. Они поняли, что забавы можно ожидать только в тот момент, когда причаливает к берегу пароход. После того, как им удавалось растерзать двух или трех собак, белые люди обычно задерживали остальных собак на пароходе и жестоко мстили виновным. Один белый человек, сеттера которого растерзали на его глазах, вытащив револьвер и выстрелив шесть раз, уложил шесть собак из своры. Это еще больше убедило Белого Клыка в могуществе белых людей.
Белый Клык наслаждался всем этим, так как не любил своих собратьев, а сам был достаточно хитер, чтобы избегать наказания. Вначале убивать собак белых людей было для него развлечением. Позже это стало его обычным занятием. Делать ему было нечего. Серый Бобр был занят торговлей и богател, а Белый Клык в ожидании пароходов катался около пристани со сворой индейских собак. Не успевал пароход причалить, как начиналась потеха. Через несколько минут, прежде чем белые люди успевали опомниться, свора разбегалась до появления следующего парохода, когда потеха возобновлялась.
Белому Клыку не стоило особого труда затевать эти ссоры. Ему достаточно было только показаться в тот момент, когда чужие собаки сходили на берег, чтобы они немедленно бросились на него. Ими руководил инстинкт. Он являлся в их глазах олицетворением пустыни, загадочной и полной ужасов, вечной угрозой, таившейся в темноте за пределами костров первобытного человека, в то время как они, сидя у этих костров, приучались бояться этой пустыни, которую они навсегда покинули и предали. Этот страх все сильнее внедрялся в них в каждом поколении. Веками привыкли они считать все исходившее из этой пустыни ужасным и разрушительным. И в течение всего этого времени они пользовались полученным от хозяев правом убивать всякого обитателя этой пустыни. Поступая так, они защищали себя и своих богов, покровительством которых они пользовались.
И этим собакам, привезенным с мягкого Юга и спускавшимся по сходням на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы их немедленно охватывало желание броситься на него и разорвать его. Многие из них выросли в городе, но их инстинктивный страх перед хищниками был от этого не меньше. Не только своими глазами видели они в этот момент среди белого дня волка. Нет, они видели его, кроме того, глазами своих предков и в силу наследственной памяти узнавали в нем волка и вспоминали вековую вражду.
Все это наполняло дни Белого Клыка развлечениями. Стоило ему показаться, как чужие собаки бросались на него – на радость ему и на горе себе. Они смотрели на него как на законную добычу; так же смотрел на них и он.
Недаром же он увидел свет в мрачной берлоге и сражался в ранней молодости с птармиганом, лаской и рысью, и недаром Лип-Лип и вся свора так усердно отравляли ему жизнь. Если бы все сложилось иначе, он мог бы стать другим. Не будь Лип-Липа, он провел бы свои детские годы с другими щенками, стал бы более похож на собаку и сроднился бы с ними. Если бы Серый Бобр понимал, что такое любовь и привязанность, он сумел бы проникнуть в душевные глубины Белого Клыка и открыть в нем хорошие качества. Но среда, в которой он находился, сделала его таким, каким он был в описываемое нами время: мрачным и одиноким, свирепым и бездушным, врагом всей собачьей породы.
Глава II. Сумасшедший бог
Лишь небольшое количество белых людей постоянно проживало в форте Юкон. Эти люди уже давно обосновались в этой стране; они называли себя “кислым тестом” и очень гордились этим названием. Ко всем вновь прибывшим они относились с глубоким презрением. Новички были известны под кличкой чечако и пекли себе хлеб с помощью порошка для печенья. В этом заключалась основная разница между ними и теми, кто называл себя “кислым тестом”; последние в самом деле пекли свой хлеб на закваске, за неимением такого порошка.
Жители форта презирали новых пришельцев и всегда радовались, когда с ними случалась какая-либо неприятность. Особенное удовольствие доставляли им налеты Белого Клыка и его своры на собак новичков. При появлении парохода жители форта никогда не упускали случая выйти на берег и насладиться потехой. Они ожидали ее с таким же нетерпением, как и индейская свора, и вскоре оценили ту роль, которую играл здесь Белый Клык благодаря своей силе и хитрости.
Но особенно увлекался этим спортом один человек. При первом свистке парохода он со всех ног мчался к берегу, а когда драка кончалась и Белый Клык со своей сворой убегали, он медленно с грустным видом возвращался обратно в форт. Иногда, когда какая-нибудь породистая южная собака падала, издавая жалобный предсмертный стон под зубами своры, человек этот приходил в состояние экстаза и подпрыгивал, испуская восторженные крики. При этом он не спускал жадных глаз с Белого Клыка.
Человек этот носил в форте кличку Красавчик. Никто не знал его христианского имени, и все называли его просто Красавчик Смит. Однако его меньше всего можно было назвать красивым. Это просто было иронией, потому что он был редким уродом. Природа поскупилась на него. Маленького роста, с тщедушной фигуркой, на которой сидела еще более тщедушная голова, с макушкой, похожей на острие, он еще в детстве, до того как его прозвали Красавчиком, носил кличку Булавочная Головка.
Сзади, начиная от макушки, голова его спускалась как-то косо к шее и спереди вытягивалась в низкий и необычайно широкий лоб. И тут, как бы раскаявшись в своей скупости, природа щедрой рукой вылепила черты его лица. Глаза у него были большие, а в промежутке между ними могла свободно поместиться еще одна пара глаз. По сравнению с остальным туловищем лицо его казалось огромным: широкая, выдающаяся вперед нижняя челюсть спускалась почти до самой груди. Быть может, это только казалось так, ибо трудно было представить себе, чтобы такая тонкая, худая шея могла выдержать подобную тяжесть.
Челюсть эта придавала ему свирепый и решительный вид. Но чего-то не хватало для полноты впечатления, быть может, пропорции были чересчур гиперболичны или сама челюсть слишком велика. Во всяком случае, впечатление не соответствовало действительности, потому что Красавчик Смит был известен во всей округе как самый слабый и жалкий трус. В довершение всего его большие желтые зубы торчали наподобие клыков. Глаза у него были желтые и мутные, как будто у природы не хватило на них красок и она смешала вместе остатки из всех трубочек. То же можно было сказать о его редких и неровных грязно-желтых волосах, росших пучками на голове и лице наподобие спутанной и выветрившейся соломы.
Короче говоря, Красавчик Смит был уродом, но вины его в этом не было. Таким вылепила его природа, и он не мог отвечать за ее грехи. В форте он исполнял обязанности повара, мыл посуду и делал всякую грязную работу. Жители форта не презирали его; они относились к нему скорее снисходительно, по-человечески, как к существу, обиженному судьбой. Кроме того, они боялись его. Его трусливый и слабый нрав заставлял их опасаться выстрела в спину или подсыпанного в кофе яда. Но кто-нибудь должен был готовить пищу, а Красавчик Смит, при всех своих недостатках, умел стряпать.
Вот каков был человек, смотревший восхищенными глазами на Белого Клыка и горевший желанием завладеть им. С первого же дня он стал перед ним заискивать. Вначале Белый Клык игнорировал его. Позже, когда заигрывания Красавчика Смита сделались настойчивее, Белый Клык начал ерошить шерсть, показывать зубы и убегать от него. Ему не нравился этот человек, сердце его не лежало к нему. Он чутьем угадывал его зловредность и не доверял его ласково протянутой руке и вкрадчивой речи. Он ненавидел его.
Простые существа всегда понимают добро и зло просто. Добром они считают то, что дает удобство, удовлетворение и прекращает страдания, вот почему добро им нравится. Зло есть то, что причиняет страдание, боль и неприятности, и потому все его ненавидят. Белый Клык чуял присутствие этого зла в Красавчике Смите. От уродливого тела и извращенного ума этого человека исходили, как из зараженного лихорадкой болота, нездоровые испарения. Не путем рассуждения, не с помощью пяти чувств, а другим, более глубоким и неуловимым путем понял Белый Клык, что человек этот исполнен зла и порока и что его следует ненавидеть.
Белый Клык находился на стоянке Серого Бобра, когда Красавчик Смит явился туда впервые. При первом звуке отдаленных шагов, еще не видя его, Белый Клык угадал, кто идет, и злобно ощетинился. Он лежал, спокойно наслаждаясь отдыхом, но как только Красавчик Смит показался на пороге, он с настоящей волчьей повадкой выскользнул из комнаты и ушел на край стоянки. Он видел, как Красавчик Смит разговаривал с Серым Бобром, но не знал, о чем идет речь. Раз Красавчик Смит пальцем указал на него, и Белый Клык зарычал, как будто бы рука Красавчика Смита, находившаяся в действительности в пятидесяти ярдах от него, могла его коснуться. Увидя это, Красавчик Смит засмеялся, а Белый Клык убежал в лес, украдкой оглядываясь на бегу.
Серый Бобр отказался продать своего пса. Он разбогател от торговли и не нуждался ни в чем. Помимо того, Белый Клык был лучшей упряжной собакой, какую он когда-либо имел и какую можно было найти вдоль берегов рек Макензи и Юкона. Он умел играться. Он так же легко убивал собаку, как человек комара. (При этих словах индейца Красавчик Смит жадно облизал свои тонкие губы.) Нет, Белый Клык не продажный! Ни за какие деньги. Но Красавчик Смит знал нравы индейцев. Он часто навещал Серого Бобра и всегда приносил с собой пару черных бутылок. Одно из свойств виски – разжигать жажду. Серый Бобр испытал это. Его воспаленные слизистые оболочки и обожженный желудок требовали все больше и больше жгучей влаги, тогда как мозг, затуманенный этим возбуждающим напитком, толкал на все, лишь бы добыть его. Деньги, вырученные им от продажи мехов, рукавиц и мокасинов, начали таять. Они таяли все быстрее и быстрее, и чем меньше их становилось, тем больше усиливалось озлобление Серого Бобра.
В конце концов все деньги, имущество и злое настроение – все пошло прахом. Осталась одна жажда, неутолимая и растущая с каждым трезвым дыханием. Тут Красавчик Смит снова заговорил с ним о продаже собаки, но на этот раз он предложил заплатить за нее не долларами, а бутылками, и Серый Бобр стал слушать охотнее.
– Если ты поймаешь собаку, можешь взять ее, – были его последние слова.
Бутылки были доставлены, но через два дня Красавчик Смит потребовал от Серого Бобра, чтобы тот поймал собаку сам.
Однажды вечером Белый Клык пробрался из лесу к стоянке и испустил вздох облегчения. Грозный белый бог отсутствовал. Уже несколько дней он делал настойчивые попытки наложить руки на Белого Клыка, и последний вынужден был скрываться. Он не знал, каким злом угрожают ему эти руки, но чувствовал, что от них нечего ждать добра и что лучше их избегать.
Но не успел он улечься, как Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал вокруг его шеи ремень. Он сел рядом с ним, держа в одной руке конец ремня, в другой индеец держал бутылку, которую он время от времени опрокидывал себе в горло.
Прошел час, и шум шагов возвестил их о чьем-то приходе. Белый Клык первый услышал эти шаги и ощетинился; Серый Бобр бессмысленно тряс головой. Белый Клык попробовал осторожно вытащить ремень из рук хозяина, но пальцы крепко сжимали ремень, и Серый Бобр очнулся.
Красавчик Смит вошел и остановился над Белым Клыком. Тот тихо зарычал на страшное существо, следя за движением его рук. Одна рука вытянулась и повисла над Белым Клыком; рычание его усилилось. Рука продолжала медленно опускаться над его головой, а Белый Клык весь съежился и исподлобья глядел на руку, рыча все громче и громче по мере того как она приближалась к нему. Вдруг он раскрыл пасть и кинулся на Красавчика, как змея. Рука отдернулась, и зубы его щелкнули в воздухе. Смит испугался и обозлился. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот послушно улегся на землю.

Однако он продолжал с подозрением следить за движениями людей. Он увидел, как Смит вышел и вернулся с толстой дубиной. Затем Серый Бобр передал ему конец ремня. Смит собрался уходить; ремень натянулся; Белый Клык упирался. Тогда Серый Бобр несколькими ударами дубины заставил его подняться. Он повиновался, но, вскочив, бросился на человека, собиравшегося увести его. Красавчик Смит не отскочил; он ожидал этого. Он сильно ударил его, задержав прыжок на полпути, и заставил волка лечь на землю. Серый Бобр засмеялся и одобрительно кивнул головой. Смит снова потянул ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, прихрамывая потащился за ним.
Он не повторил нападения; одного удара дубины было достаточно, чтобы убедить его в том, что боги знают свое дело, и он был слишком умен, чтобы бороться с неизбежным. Поэтому он мрачно последовал за Красавчиком Смитом, поджав хвост и слабо рыча. Красавчик Смит напряженно следил за ним, держа дубину наготове.
Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и пошел спать. Белый Клык прождал целый час, потом пустил в ход свои зубы, через десять секунд перегрыз ремень и очутился на свободе. Зубы его работали на славу. Он перегрыз кожу поперек так чисто, что можно было подумать, будто ее перерезали ножом. Белый Клык взглянул на форт, злобно зарычал и, повернувшись, побежал обратно к стоянке. Он не обязан был подчиняться этому чужому, злобному богу. Он покорился Серому Бобру и принадлежал только ему.
Но то, что произошло в первый раз, повторилось снова, хотя и с некоторой разницей. Серый Бобр снова привязал его ремнем и передал его наутро Красавчику Смиту. И вот тут-то сказалась разница. Красавчик Смит избил его. Крепко привязанному Белому Клыку не оставалось ничего другого, как только бессильно злиться и терпеть. В дело пошли и дубина, и кнут; за всю жизнь он не испытывал такой трепки! Даже трепка, заданная ему когда-то Серым Бобром, была ничто в сравнении с этой.
Красавчик Смит восторгался своей работой и плавал в блаженстве. Он упивался видом своей жертвы, и глаза его загорались тусклым огнем, когда он прислушивался к жалобным стонам и беспомощному рычанию Белого Клыка, ибо Красавчик Смит был жесток, как все трусы. Унижаясь и пресмыкаясь перед сильными, он охотно срывал свою злобу на слабых. Все живущее любит власть, и Красавчик Смит не был исключением. Не имея возможности властвовать над себе подобными, он отыгрывался на низших созданиях и вымещал на них свою злобу. Но Красавчик Смит не сам создал себя, и этого нельзя было ставить ему в вину. Он родился на свет с изуродованным телом и грубой душой, и свет недружелюбно встретил его.
Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр обвязал ремень вокруг его шеи и передал другой конец его Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что бог его желает, чтобы он пошел с Красавчиком Смитом. И когда Красавчик Смит привязал его у форта и ушел, он понял, что Красавчик Смит желает, чтобы он остался там. Таким образом, он нарушил волю обоих богов и понес заслуженное наказание. Ему и раньше приходилось видеть, что собаки переходили от одного хозяина к другому и также подвергались побоям, когда убегали от нового владельца.
Белый Клык был очень умен, но все же некоторые черты были развиты в нем еще сильнее ума – одной из таких черт была преданность. Он не любил Серого Бобра, но, даже наперекор его воле, зная, что он навлекает на себя его гнев, оставался верным хозяину. Тут он ничего не мог поделать. Эта преданность являлась отличительной особенностью его породы, особенностью, выделявшей его сородичей из ряда всех других животных и давшей возможность волкам и диким собакам стать друзьями человека.
Избив Белого Клыка, Красавчик Смит потащил его обратно в форт и на этот раз привязал его за палку. Но не легко отказаться от своего божества; так думал и Белый Клык. Серый Бобр был его собственным избранным богом, и Белый Клык был привязан к нему и не мог отказаться от него, даже вопреки его воле. Серый Бобр изменил ему и покинул его, но это ничуть не повлияло на Белого Клыка. Недаром он добровольно отдался Серому Бобру телом и душой, нелегко было разрушить связывавшие их узы…
Итак, ночью, когда все обитатели форта уже спали, Белый Клык снова пустил в ход свои зубы. Палка, которой его привязали, была из хорошего сухого дерева и притом находилась так близко к его шее, что он с трудом мог достать до нее зубами. Только благодаря страшному напряжению мускулов и крутому повороту головы ему удалось вцепиться в палку зубами, и понадобилось бесконечное терпение и много часов упорных усилий, чтобы наконец перегрызть ее. Не всякая собака способна на такую штуку. Но Белый Клык сумел добиться своего, и рано утром он ушел из форта, волоча за собой кусок болтавшейся на шее палки.
Он был умен, но если бы он руководствовался одним только разумом, он не вернулся бы к Серому Бобру, который дважды предал его. Верность заставила его вернуться к прежнему хозяину, и тот предал его в третий раз. И опять он смирился, когда Серый Бобр обвязал ремень вокруг его шеи. Красавчик Смит снова пришел за ним. На этот раз его избили сильнее прежнего…
Серый Бобр тупо глядел, как белый человек размахивал кнутом; он не заступился за Белого Клыка: волк больше не принадлежал ему. Когда избиение закончилось, Белый Клык почувствовал себя совсем больным. Южная собака сдохла бы от таких побоев, но он прошел суровую школу жизни и сам был скроен из крепкого материала. Чересчур сильна была в нем жизненная хватка. Все же он чувствовал себя очень скверно. Сначала он не в состоянии был двигаться, и Красавчику Смиту пришлось ждать целых полчаса, пока он немного пришел в себя, затем полуослепленный, еле держась на ногах, он поднялся и поплелся за ним.
Но теперь Красавчик Смит посадил его на цепь, которая не поддавалась зубам, и он напрасно старался вырвать кольцо, ввинченное в толстый ствол. Несколько дней спустя отрезвевший и вконец разорившийся Серый Бобр отправился в далекое путешествие вверх по Дикобразовой реке до реки Макензи. Белый Клык остался в Юконе и сделался собственностью жестокого и полусумасшедшего зверя. Но что может знать пес о сумасшествии? Для него Красавчик Смит был настоящим, хотя и свирепым божеством. В худшем случае он был сумасшедшим божеством, но Белый Клык не понимал этого; он знал только, что ему надлежит повиноваться этому новому хозяину и исполнять все его желания и прихоти.
Глава III. В царстве ненависти
Под руководством сумасшедшего бога Белый Клык превратился в настоящего демона. Его посадили на цепь в конуре позади форта, и здесь Красавчик Смит дразнил его и доводил до бешенства изощренными пытками. Человек этот вскоре обнаружил, что Белый Клык не выносит смеха, и никогда не упускал случая привести его в ярость своими насмешками. Он смеялся громким отвратительным смехом, показывая пальцем на Белого Клыка. В такие минуты разум покидал беднягу, и он становился еще безумнее своего хозяина.

Раньше Белый Клык был врагом только собачьей породы, и свирепым врагом. Теперь же он сделался врагом всего живого и стал еще свирепее прежнего. Красавчик Смит доводил его до такого состояния, что он начинал слепо и беспричинно ненавидеть все и вся. Он ненавидел цепь, которой был привязан, людей, глазевших на него через решетку конуры, собак, сопровождавших их и злорадно рычавших на него при виде его беспомощности. Он ненавидел даже дерево, из которого сделана была его конура. Но больше всех и сильнее всех он ненавидел Красавчика Смита.

Однако все, что проделывал с Белым Клыком Красавчик Смит, имело известную цель. Однажды несколько человек собралось вокруг конуры Белого Клыка. Красавчик Смит подошел к нему с дубиной в руке и снял с него цепь. Когда он вышел, Белый Клык принялся кружить по клетке, пытаясь добраться до стоявших вокруг людей. Он был великолепен в своей злобе. Имея полных пять футов длины и два с половиной вышины, он значительно превосходил весом волка соответствующего размера. От матери он унаследовал тяжелые формы собаки, так что, не имея ни одного золотника лишнего жира, он весил свыше девяноста фунтов. Он состоял из одних мускулов, костей и сухожилий – другими словами, обладал всеми данными, чтобы выйти победителем из всякой борьбы.
Дверь конуры открылась. Белый Клык замер. Готовилось что-то необыкновенное. Он ждал. Дверь отворилась шире, и в конуру вошла огромная собака, после чего дверь снова закрылась. Белый Клык никогда не видал такой собаки (это был водолаз), но ни размеры, ни свирепый вид гостьи не смутили его. Это было нечто не похожее ни на железо, ни на дерево, на чем можно было сорвать свою злость. Он налетел на водолаза с оскаленными зубами и разодрал ему шею. Водолаз мотнул головой, зарычал и бросился на Белого Клыка. Но Белый Клык с быстротой молнии мелькал то тут, то там, повсюду; он неизменно увертывался от ударов, сам нападая и вовремя отскакивая от острых зубов врага.

Люди, стоявшие за решеткой, кричали и аплодировали, а Красавчик Смит, в каком-то диком экстазе, упивался зрелищем жестокой борьбы. С самого начала было ясно, что водолазу не уцелеть. Он был слишком неповоротлив и тяжел. Кончилось тем, что Красавчик Смит принялся лупить дубиной Белого Клыка, а владелец водолаза тем временем вытащил собаку из конуры. Затем приступили к уплате пари, и в руках Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого времени Белый Клык стал нетерпеливо ждать, чтобы люди снова собрались вокруг его конуры. Это означало борьбу, а борьба открывала единственный выход запасу жизненной энергии, накопившейся в нем. Измученный, полный ненависти ко всему свету, он был лишен свободы и мог насыщать эту ненависть лишь тогда, когда хозяин находил нужным впускать к нему другую собаку.
Красавчик Смит правильно оценил боевые качества волка, ибо тот неизменно выходил победителем из борьбы. В один прекрасный день к нему поочередно впустили трех собак, в другой раз – только что пойманного в лесу рослого волка. А однажды его свели одновременно с двумя собаками. Это было для него самым тяжелым испытанием, и хотя он, в конце концов, убил обеих, сам еле остался жив.

С наступлением зимы, лишь только выпал первый снег и река покрылась салом, Красавчик Смит взял два билета – себе и Белому Клыку – на пароход, отправлявшийся вверх по Юкону до Даусона. Белый Клык успел приобрести к тому времени громкую известность. Вся округа знала его по кличке Волк-Боец, и клетку, в которой он находился на палубе во время плавания, постоянно осаждала толпа любопытных. Он то неистовствовал и рычал на них, то глядел с холодной ненавистью. Он никогда не задавал себе вопроса, за что он их ненавидит. Он не знал ничего, кроме ненависти, и она сделалась его страстью. Жизнь стала для него адом. Он не был создан для тесного заключения, которому люди обыкновенно подвергают хищников. А между тем его как раз поместили в такие условия. Люди целыми днями глазели на него, просовывали через перекладины клетки палки, чтобы заставить его зарычать, и, добившись своего, издевались над ним.
В этих условиях он день ото дня становился все свирепее и постепенно превзошел в этом отношении даже своих диких родичей. Но при этом природа наделила его умением приспособляться. Там, где другие животные давно умерли бы на его месте или сдались бы на милость победителя, он продолжал жить и не утрачивал бодрости духа. Возможно, что мучитель его и воплощенный сатана Красавчик Смит способен был сломить гордый дух Белого Клыка, но до сих пор это не удавалось ему. Если в Красавчике Смите сидел Дьявол, то в Белом Клыке несомненно обитал его родной брат, и оба они пылали друг к другу непримиримой ненавистью. В прежнее время Белый Клык умел смиряться и покоряться при виде человека с дубиной в руке, но теперь он утратил эту способность. Один вид Красавчика Смита приводил его в дикую ярость. Когда же им приходилось сталкиваться и тот отгонял его палкой, он уходил рыча и обнажая клыки. Как бы жестоко его ни били, рычание не прекращалось, и когда, наконец, Красавчик Смит уходил, Белый Клык рычал ему вслед или бросался к прутьям своей клетки, громко выражая свою ненависть.
Когда пароход пришел в Даусон, Белый Клык сошел на берег, но он продолжал жить в клетке, на виду у людей. Его показывали как Волка-Бойца, и люди платили пятьдесят центов золотого песку, чтобы поглядеть на него. Он не знал покоя. Если он ложился спать, его тотчас же будили острой палкой, чтобы зрители могли получить за свои деньги полное удовольствие. Чтобы придать зрелищу больше интереса, его постоянно поддерживали в состоянии раздражения. Но ужаснее всего была атмосфера, в которой он жил. На него смотрели как на самого страшного из хищных зверей, и отношение это передавалось ему через перекладины клетки. Каждое слово, каждое осторожное движение в толпе укрепляло в нем сознание собственной свирепости и силы. Все это лишь подливало масла в огонь его злобы. Результат мог быть только один – свирепость его, питаясь собственными соками, росла бесконечно. Это могло служить лишним доказательством его способности приспособляться к условиям окружающей среды.
Но Белого Клыка не только выставляли напоказ, из него сделали профессионального бойца. Когда намечался поединок, его уводили за несколько миль от города, чаще всего в лес. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать вмешательства канадской полиции. По истечении нескольких часов, чуть начинал брезжить свет, появлялись зрители и собака, с которой должен был драться Белый Клык. Таким образом, ему проходилось бороться с собаками различных пород и размеров. Страна и нравы были дикие, и поединок, как правило, заканчивался смертью одного из бойцов.
Понятно, что раз Белый Клык продолжал сражаться, погибали его противники. Он никогда не знал поражения. Тренировка, полученная им в раннем детстве, постоянные драки с Лип-Липом и со сворой сослужили ему хорошую службу. Главным его козырем была устойчивость, с которой он держался на ногах. Ни одна собака не могла опрокинуть его. Излюбленный прием собак волчьей породы заключался в том, чтобы броситься на врага и неожиданным ударом в плечо постараться сбить его с ног. Собаки с реки Макензи, эскимосские и лабрадорские псы – все пробовали на нем этот прием и всегда неудачно. Он никогда не падал. Люди передавали это друг другу и каждый раз с нетерпением ожидали, что это может случиться, но он постоянно разочаровывал их.
У него было еще одно достоинство – молниеносная быстрота. Она давала ему громадное преимущество перед врагами. Весь их прежний опыт сводился на нет, ибо им никогда не приходилось встречать подобной быстроты в движениях; не забудьте прибавить к этому стремительность его атак. Всякая собака, прежде чем вступить в драку, считает нужным зарычать, взъерошить шерсть и поворчать, и таких собак Белый Клык сбивал с ног и приканчивал до того, как они успевали сообразить, в чем дело. Это повторялось так часто, что впоследствии вошло в обычай удерживать Белого Клыка, пока собака не закончит всех своих приготовлений и не бросится на него первая.
Но главное преимущество Белого Клыка заключалось в его опыте. Он больше понимал в борьбе, чем любая собака, с которой ему приходилось встречаться. Он боролся тысячи раз, умел отразить всякий прием, а его собственный метод был превосходен.
С каждым днем ему приходилось бороться все реже и реже. Люди отчаялись найти ему достойного противника, и Красавчику Смиту приходилось выпускать против него волков. Индейцы ловили их капканами, и борьба между Белым Клыком и волком привлекала толпы народа. Раз его свели со взрослой рысью, и тут Белому Клыку пришлось драться не на жизнь, а на смерть. Ее быстрота не уступала его быстроте, ее злоба – его злобе, и в то время как она пускала в ход зубы и когти, он защищался одними зубами.
Но после рыси подходящего противника больше не находилось, и борьба должна была прекратиться сама собой. Поэтому зимой его только выставляли напоказ, пока на сцене не появился некий Тим Кинан. С ним вместе приехал первый бульдог, когда-либо встречавшийся в Клондайке. Встреча этого бульдога с Белым Клыком стала неизбежной, и целую неделю в некоторых кварталах только и было разговору, что о предстоящем бое.
Глава IV. В когтях смерти
Красавчик Смит снял цепь с шеи Белого Клыка и отступил.
В первый раз Белый Клык воздержался от немедленного нападения. Он стоял, неподвижно насторожив уши, и с любопытством разглядывал находившееся перед ним странное животное. Он никогда еще не видел такой собаки. Тим Кинан толкнул бульдога вперед, пробормотав: “Возьми его!” Неуклюжее, уродливое, приземистое животное проковыляло к центру арены и остановилось перед Белым Клыком, глядя на него мигающими глазами.

Из толпы раздавались голоса: “Возьми его, Чироки! Разорви его, Чироки!”
Но Чироки, казалось, не очень стремился к драке. Он обернулся к толпе и добродушно помахал обрубком хвоста. Он нисколько не боялся, ему просто было лень. Кроме того, он был не совсем уверен, что ему следует бороться со стоявшей перед ним собакой: он не привык к таким и ждал, когда ему приведут настоящую.
Тим Кинан подошел к Чироки и, наклонившись над ним, стал гладить его по спине против шерсти, делая при этом легкие подталкивающие движения. В этих пассах заключалось не только внушение: они действовали на собаку еще и раздражающим образом. Чироки тихо и глухо заворчал. Чувствовалась какая-то ритмическая связь между этим ворчанием и поглаживаниями. Ворчание усиливалось при приближении руки к голове, затем утихало и возобновлялось при новом прикосновении. Конец каждого движения напоминал ритмический акцент, рычание резко обрывалось и через мгновение раздавалось снова.

Это произвело некоторое действие и на Белого Клыка. Шерсть его на шее и на спине начала подниматься. Тим Кинан последний раз подтолкнул бульдога и отошел. После того как физическое действие толчка прекратилось, Чироки стал уже по инерции быстро двигаться из стороны в сторону. Когда Белый Клык бросился в атаку, раздались восторженные крики. Он перескочил расстояние, отделявшее его от бульдога, скорее как кошка, чем как собака, и с той же кошачьей ловкостью он вонзил в него свои клыки, рванул и отступил.
У бульдога заструилась из-за уха кровь. Он не обратил на это внимания, даже не зарычал, но повернулся и побежал за Белым Клыком. Быстрота одного противника и упорство другого вызвали сильное возбуждение среди зрителей; они начали заключать новые пари, то и дело повышая ставки. Несколько раз подряд Белый Клык бросался на бульдога, кусал его и отскакивал невредимый, а его странный противник продолжал следовать за ним не слишком быстро и не слишком медленно, но уверенно, с деловитым видом. По-видимому, его тактика имела какую-то определенную цель, цель, которую он намерен был достигнуть и от которой ничто не могло его отвлечь. Эта решительность ясно сквозила во всем его поведении и в каждом движении.
Белый Клык был озадачен: он никогда не встречал такой собаки. Тело ее не было защищено шерстью, оно было мягкое и легко давало кровь. На бульдоге не было толстой шубы, которая могла бы оказать сопротивление зубам Белого Клыка, как бывало с собаками одной с ним породы. Всякий раз, как он впивался в своего врага, зубы его уходили в мягкое податливое тело, как будто животное не способно было защищаться. Еще одно обстоятельство крайне поражало его: противник не издавал ни единого звука; этого никогда не бывало с собаками, с которыми он боролся прежде. Не считая легкого ворчания, бульдог переносил получаемые удары и не переставал идти за Белым Клыком по пятам.
Не то чтобы Чироки был очень неповоротлив. Он тоже умел быстро оборачиваться и кружиться, но Белого Клыка никогда не оказывалось на месте. Чироки был озадачен не менее своего противника. Ему никогда раньше не приходилось драться с собакой, с которой нельзя было сцепиться. Желание сцепиться всегда являлось обоюдным у противников. А тут перед ним была собака, державшаяся все время на расстоянии от него и появлявшаяся то здесь, то там, повсюду. И, вонзив в него клыки, она не вцеплялась в него, а немедленно отпускала и отскакивала назад.
Однако Белый Клык никак не мог добраться до мягкой части горла противника. Бульдог был слишком низкого роста, и его массивные челюсти служили ему хорошей защитой. Белый Клык все продолжал нападать и отскакивать, и число ран у Чироки все увеличивалось. Его шея и голова были ободраны и истерзаны в клочья. Кровь струилась обильно, но это, казалось, не смущало его. Он продолжал упорно преследовать врага и только раз на минуту остановился, обвел прищуренными глазами окружавших его людей и замахал обрубком хвоста, как бы выражая этим свою готовность продолжать бой.
В эту минуту Белый Клык опять укусил его и отскочил, унося в зубах кусок его разорванного уха. Чироки обнаружил некоторые признаки раздражения и снова принялся преследовать противника, держась внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь мертвой хваткой вцепиться ему в горло. Бульдог ошибся на волосок, и кругом раздались вопли восторга, когда Белый Клык, избежав опасности, отскочил на противоположную сторону арены.
Время шло. Белый Клык продолжал плясать, то нападая, то отступая и то и дело нанося раны противнику. А бульдог с мрачной уверенностью неотступно следовал за ним. Он знал, что рано или поздно добьется своего и, вцепившись в горло врага, одержит победу. А пока он спокойно принимал все муки, которые мог причинить ему этот враг. Уши его стали похожи на кисти, шея и спина были прокушены во многих местах, даже из губ его сочилась кровь, и все это были последствия тех молниеносных нападений, которых он не мог ни предвидеть, ни предотвратить.
Несколько раз пытался Белый Клык сбить Чироки с ног. Но между ними была чересчур большая разница в росте. Чироки был слишком приземист, слишком близок к земле. Белый Клык все же сделал попытку использовать этот испытанный прием, но неудачно. Случай представился ему в тот момент, когда он проделывал одно из своих фантастических сальто-мортале. Он уловил секунду, когда голова бульдога была повернута в другую сторону. Плечо его не было защищено. Белый Клык бросился к нему, но его собственное плечо было настолько выше плеча бульдога и толчок был настолько силен, что сила инерции перебросила его через тело противника. Впервые за всю свою боевую жизнь Белый Клык потерял равновесие. Тело его почти перекувыркнулось в воздухе, и он, наверное, упал бы на спину, если бы не перевернулся тут же в воздухе, кошачьим движением стараясь опуститься на ноги. Он тяжело упал на бок. В следующее мгновение он уже стоял на ногах, но в тот же миг зубы Чироки впились в его горло.
Мертвая хватка вышла неудачной, так как Чироки вцепился в волка слишком низко, слишком близко к груди, но он не выпустил врага. Белый Клык вскочил на ноги и стал носиться кругом, как безумный, стараясь сбросить с себя бульдога. Эта присосавшаяся, впившаяся тяжесть приводила его в бешенство. Она связывала его движения, лишала их свободы. Это было подобие капкана, и весь инстинкт его глубоко возмущался против этой пытки. На несколько минут он как бы потерял рассудок. Им овладела безумная жажда жизни, и он перестал рассуждать. Мозг его затуманился от инстинктивного стремления тела жить и двигаться без конца, ибо движение есть высшее проявление жизни.
Он носился, как бешеный, вертелся, подскакивал и делал круг за кругом, стараясь стряхнуть с себя пятидесятифунтовую тяжесть, висевшую у него на шее. Бульдог не разжимал зубов. Иногда, правда, редко, ему удавалось коснуться лапами земли и на минуту задержать движения Белого Клыка, но в следующее мгновение тот снова начинал бешено кружиться, увлекая его с собой. Чироки поступал так, как подсказывал ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, не выпуская горла противника, и минутами испытывал блаженное состояние довольства. В такие моменты, зажмурив глаза, он позволял противнику трепать во все стороны свое тело, не обращая внимания на причиняемые ему мучения. Хватка в борьбе была все, и этой хватки он держался.
Белый Клык остановился только тогда, когда почувствовал, что выбился из сил. Он ничего не мог поделать и ничего не понимал. За всю свою жизнь он не встречал ничего похожего. Собаки, с которыми ему приходилось драться, боролись иначе: он бросался на них, кусал и отскакивал.
Он лег почти на бок, тяжело дыша. Не разжимая зубов, Чироки начал напирать на него, стараясь совсем повалить его на бок. Белый Клык сопротивлялся. Он чувствовал, как челюсти бульдога, слегка сжимаясь и разжимаясь, жевательным движением подбираются все выше к его горлу. Система бульдога заключалась в том, чтобы удерживать то, что он приобрел, и стараться при малейшей возможности приобрести больше. Возможность эта являлась тогда, когда Белый Клык оставался неподвижным; когда же он боролся, Чироки довольствовался тем, что имел.
Выгнутая спина Чироки была единственным местом, до которого Белый Клык мог добраться зубами. Он впился в его мягкое тело у основания шеи, но он не был знаком с жевательными приемами борьбы, да и челюсти его не были приспособлены к ним. Он умел только наносить своими клыками рваные раны. Но тут положение противников изменилось. Бульдогу удалось, наконец, опрокинуть волка на спину, и он очутился теперь над ним, продолжая по-прежнему держать его за горло. С ловкостью кошки Белый Клык поднял задние лапы и, ударяя ими врага по животу, начал разрывать ему брюхо своими сильными когтями. У Чироки наверное вывалились бы все внутренности, но он быстро отскочил в сторону и, не выпуская горла, остановился под прямым углом к телу Белого Клыка.

От этой хватки не было спасения. Она была неумолима, как рок. Зубы врага медленно приближались к яремной вене. Белого Клыка спасала от смерти только подвижная кожа на шее и густая шерсть. Благодаря этим особенностям во рту у Чироки образовался толстый валик, задерживавший движение его зубов. Но постепенно, дюйм за дюймом, он набирал все больше и больше этой кожи и потихоньку начинал душить Белого Клыка. Бедняге с каждым мгновением становилось труднее дышать.
Было ясно, что борьба должна скоро кончиться. Поставившие на Чироки приходили в восторг и предлагали нелепые пари; сторонники Белого Клыка были в такой же мере подавлены и отказывались отвечать одним против десяти и даже двадцати. Один ловкач все же заключил пари на условии пятидесяти против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел на арену и ткнул пальцем в сторону Белого Клыка. Затем разразился презрительным смехом. Это возымело свое действие. Белый Клык пришел в бешенство. Он напряг последние силы и очутился на ногах. Но когда он снова закружился, волоча на себе пятидесятифунтового врага, злоба его перешла в панический страх. В нем снова проснулось безумное желание жить, и разум его умолк перед страстным призывом плоти. Описывая бесконечные круги, спотыкаясь, падая и снова вскакивая, поднимаясь даже на задние лапы, он тщетно прилагал все усилия, чтобы сбросить с себя цепкую смерть.
Наконец, выбившись из сил, он упал на спину; бульдог быстро стал приближаться к его горлу, забирая в рот все больше и больше пушистых складок, покрывавших шею Белого Клыка, который начинал уже задыхаться. Раздались крики одобрения и возгласы: “Чироки!” “Чироки!” – так приветствовали победителя. Чироки отвечал на аплодисменты усиленным вилянием своего обрубленного хвоста. Но знаки одобрения ни на минуту не отвлекали его от намеченной цели. Его хвост и могучие челюсти действовали совершенно самостоятельно. Хвост мог вилять, но зубы продолжали крепко сжимать горло Белого Клыка.
В эту минуту в рядах зрителей произошло замешательство. Раздался звон колокольчика и голоса погонщиков собак. Все, за исключением Красавчика Смита, с тревогой оглянулись, опасаясь появления полиции. Но вместо представителей власти они увидели двух человек, которые бежали рядом с нартами по направлению к городу, а не оттуда. Они, очевидно, возвращались после каких-либо изысканий на верховьях ручья. Увидев толпу, путешественники остановили собак и подошли ближе, разузнать, в чем дело. У погонщика были усы, но его спутник, молодой и высокого роста, был гладко выбрит, и щеки его розовели от горячей крови и бега на морозе. Белый Клык, в сущности, уже не боролся. Он, правда, делал еще судорожные движения, но они ни к чему не приводили. Он еле дышал, и с каждой секундой воздух все труднее проникал через его сдавленное горло. Несмотря на защищавшую его толстую шкуру, бульдог давно бы добрался до артерии и давно перегрыз бы ему горло, если бы он сразу не вцепился слишком низко. Ему понадобилось много времени, чтобы постепенно изменить положение челюстей, к тому же набравшиеся ему в рот шерсть и складки кожи сильно стесняли его.

Тем временем в больном мозгу Красавчика Смита проснулись звериные инстинкты, окончательно затмив то небольшое количество здравого смысла, которым он еще обладал. Заметив, что глаза Белого Клыка остекленели, он окончательно утратил всякую надежду на победу. Он подскочил к Белому Клыку и начал свирепо лягать его ногами. Из толпы поднялись крики протеста и возмущения, но никто не трогался с места. Вдруг в рядах зрителей произошло замешательство. Высокий молодой человек, работая руками и локтями, быстро пробирался через толпу. В тот момент, когда он прорвался на арену, Красавчик Смит как раз готовился лягнуть Белого Клыка. Он стоял на одной ноге, с трудом сохраняя равновесие. В ту же минуту незнакомец со всей силой ударил его кулаком по лицу. Нога, на которую опирался Красавчик Смит, отделилась от земли, и он, перекувыркнувшись в воздухе, упал на спину в снег. Тогда молодой человек обратился к толпе: “Трусы! – крикнул он. – Скоты!”

Он сам был в ярости, но ярость его имела под собой здоровую почву. Серые глаза, обращенные к толпе, сверкали стальным блеском.
Смит поднялся на ноги и, тяжело дыша, несмело подошел к нему. Незнакомец не понял. Не зная, с каким низким трусом он имеет дело, он подумал, что тот хочет драться. С криком: “Скотина!” он вторичным ударом снова опрокинул его в снег. Красавчик Смит решил, что снег, на который он свалился, является для него в данный момент самым безопасным убежищем, и больше не делал попыток встать.
– Иди сюда, Мат, помоги мне, – обратился незнакомец к погонщику, который последовал за ним на арену.
Оба они наклонились над собаками. Мат схватил Белого Клыка, чтобы оттащить его, лишь только удастся разжать челюсти Чироки. Молодой человек попытался сделать это, сжав челюсти бульдога и стараясь руками раскрыть ему пасть. Но попытка эта ни к чему не привела. Дергая, разжимая, выворачивая эти челюсти, он то и дело приговаривал: “Скоты!”
Толпа заволновалась, со всех сторон раздались возгласы протеста: с какой стати им мешают развлекаться? Но эти возгласы немедленно стихли, когда молодой человек, на минуту оторвавшись от своего занятия, поднял на них злобные глаза:
– Проклятые скоты! – выкрикнул он наконец и снова занялся своим делом.
– Это бесполезно, мистер Скотт, вы никогда не разожмете их таким образом, – сказал Мат.
Оба с минуту молча смотрели на сцепившуюся пару собак.
– Кровь только сочится, – заметил Мат, – он еще не добрался до артерии.
– Но он может добраться до нее каждую секунду, – возразил Скотт.
Опасения молодого человека за судьбу Белого Клыка росли с каждой минутой. Он несколько раз сильно ударил Чироки по голове, но тот не разжал челюстей. Бульдог только помахал обрубком хвоста, как бы говоря этим, что он прекрасно понимает, чего от него требуют, но не желает отказаться от своего права и намерен выполнить свой долг до конца.
– Неужели никто из вас не может помочь? – с отчаянием обратился молодой человек к толпе.
Но никто не предложил своей помощи. Вместо этого из толпы послышались насмешки и посыпались самые невероятные советы.
– Придется сделать рычаг, – сказал Мат.

Молодой человек вынул из кобуры револьвер и попытался просунуть его ствол между челюстями бульдога. Он проталкивал его с такой силой, что до толпы отчетливо донесся стук стали о стиснутые зубы собаки. Вдруг Тим Кинан появился на арене. Он остановился около Скотта и, тронув его за плечо, грозно сказал:
– Слушайте, незнакомец, не сломайте ему зубы!
– В таком случае я сломаю ему шею, – возразил Скотт, продолжая проталкивать ствол револьвера.
– Повторяю вам, не вздумайте сломать ему зубы, – повторил Тим, на этот раз еще более внушительно.
Но его грозное замечание не возымело никакого действия. Скотт ни на минуту не прекратил своей работы; он холодно взглянул на Кинана и спросил:
– Ваша собака?
Кинан утвердительно кивнул.
– В таком случае подойдите сюда и разожмите ей челюсти.
– Знаете что, – раздраженно ответил тот, – не я выдумал бульдожью хватку, и я не имею понятия, как с ней справиться.
– Тогда убирайтесь вон и не мешайте мне, – последовал ответ, – я занят.
Тим Кинан продолжал стоять, но Скотт больше не обращал на него внимания. Ему удалось всунуть дуло револьвера с одной стороны, и он всячески старался, чтобы оно вышло с другой. Добившись этого, он понемногу начал нажимать на рычаг, осторожно раздвигая челюсти, а Мат так же осторожно стал освобождать искалеченную шею Белого Клыка.
– Приготовьтесь взять вашу собаку, – резко приказал Скотт владельцу Чироки.
Тим Кинан послушно нагнулся и схватил бульдога.
– Теперь тащите, – крикнул Скотт, в последний раз нажимая револьвером.
Собак разъединили, причем Чироки отчаянно сопротивлялся.
– Уведите его, – скомандовал Скотт, и Тим Кинан вместе с Чироки скрылся в толпе.
Белый Клык сделал несколько безрезультатных попыток встать. Наконец ему удалось приподняться, но ноги его были слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть тела, и он вновь опустился на снег. Глаза его были почти закрыты и стали совсем стеклянными. Из разинутой пасти свешивался язык. Казалось, что он мертв. Мат внимательно осмотрел его.
– Еще немного, и был бы ему каюк, – сказал он, – но дышит он хорошо.
Красавчик Смит тем временем поднялся на ноги и подошел посмотреть на Белого Клыка.
– Мат, сколько стоит хорошая упряжная собака? – спросил Скотт.

Погонщик все еще стоял на коленях, наклонившись над Белым Клыком, и минуту соображал.
– Триста долларов, – сказал он.
– А сколько можно дать за изуродованную, вот как эта? – спросил Скотт, касаясь ногой Белого Клыка.
– Половину, – решил погонщик.
Скотт обернулся к Смиту:
– Вы слышали, господин подлец? Я возьму вашу собаку и дам вам за нее сто пятьдесят долларов.
Он вынул бумажник и отсчитал деньги.
Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги.
– Я не продаю собаки, – сказал он.

– А я говорю вам, что продаете, – убедительно сказал молодой человек. – То есть я покупаю ее. Вот ваши деньги. Собака моя.
Красавчик Смит, все еще держа руки за спиной, начал отступать.
Скотт бросился к нему с поднятым кулаком. Красавчик Смит весь съежился в ожидании удара.
– Я имею на нее право, – промычал он.
– Вы потеряли всякое право на эту собаку, – был ответ. – Возьмете вы деньги или мне придется ударить вас?
– Хорошо, – испуганно проговорил Красавчик Смит. – Но имейте в виду, что я подчиняюсь насилию, – добавил он. – Эта собака – золото, и я не допущу, чтобы меня грабили. У всякого человека есть свои права.
– Правильно, – ответил Скотт, передавая ему деньги. – У всякого человека есть свои права, но вы не человек, а скотина.
– Дайте мне только добраться до Даусона, – с угрозой произнес Красавчик Смит. – Уж я найду там на вас управу.
– Если вы только посмеете заикнуться об этом в Даусоне, я велю выгнать вас из города. Поняли?
Красавчик Смит проворчал что-то.
– Поняли? – злобно прогремел Скотт.
– Да, – пробормотал, отвернувшись, Смит.
– Что да?
– Да, сэр, – буркнул Смит.
– Берегитесь, он укусит, – крикнул кто-то, и громкий хохот огласил воздух.
Скотт повернулся к нему спиной и подошел к Мату, который продолжал возиться около Белого Клыка.
Часть зрителей начала расходиться; другие разделились на группы, обмениваясь впечатлениями. Тим Канан приблизился к одной из них.
– Кто эта рожа? – спросил он.
– Это Видон Скотт, – ответил кто-то.
– А кто же этот Видон Скотт, черт возьми? – продолжал Тим.
– О, инженер, один из первых специалистов по золотому делу! Он в лучших отношениях с самыми большими тузами. Если хочешь избежать неприятностей, вот тебе мой совет: держись от него подальше. Он на короткой ноге со всеми важными шишками. Сам комиссар по золотым делам ему первый друг.
– Я сразу понял, что он важная птица, – заявил Кинан, – и только потому не расправился с ним по-свойски.
Глава V. Неукротимый
– Это безнадежно, – заявил Видон Скотт.
Он сидел на ступеньках своей хижины и глядел на погонщика собак, который с таким же безнадежным видом пожимал плечами.
Оба они взглянули на Белого Клыка, который сидел на цепи, ощетинившись, рыча и всеми силами стараясь добраться до упряжных собак. Получив от Мата несколько основательных уроков дубиной, собаки приучились не трогать Белого Клыка; в эту минуту они лежали в стороне, как будто забыв о его существовании.
– Это настоящий волк, и нет никакой надежды приручить его, – повторил Видон Скотт.
– Я не сказал бы этого, – возразил Мат. – Возможно, что в нем много собачьей крови. Но одно я знаю достоверно – и этого не вычеркнешь.
Погонщик умолк и глубокомысленно кивнул головой в сторону Оленьей Горы.
– Да ну же, что ты знаешь? – нетерпеливо сказал Скотт после короткого молчания. – Выкладывай. В чем дело?
Погонщик движением большого пальца через плечо указал на Белого Клыка.
– Волк он или собака – это не важно; дело в том, что он уже был когда-то ручным.
– Не может быть!
– Говорю вам, что так. Он носил хомут. Взгляните-ка. Разве вы не видите следов у него на груди?
– Ты прав, Мат. Он был упряжной собакой, перед тем как попал к Красавчику Смиту.
– И я не вижу причины, почему бы он не мог снова сделаться упряжной собакой.
– Ты думаешь? – радостно спросил Скотт. Но надежда тотчас же погасла в его глазах, и он с сомнением покачал головой.
– Вот уже две недели, как он у нас, а между тем он чуть ли не злее, чем был раньше.
– Подождите, дайте время, – советовал Мат. – Спустите его с цепи.
Скотт посмотрел на него недоверчиво.
– Да, – продолжал Мат, – я знаю, что вы уже пробовали, но вы не пускали в ход дубины.
– В таком случае попробуй сам.
Погонщик достал дубину и подошел к сидевшему на цепи зверю. Белый Клык следил за дубиной, подобно тому как посаженный в клетку лев смотрит на хлыст укротителя.
– Вы видите, как он не сводит глаз с дубины. Это хороший признак, – сказал Мат. – Он не глуп и не бросится на меня, пока я держу дубину. Он далеко не сумасшедший.
Когда рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он съежился, ощетинился и зарычал. Но, следя за движением руки человека, он в то же время не спускал глаз с поднятой над ним дубины. Мат снял с него цепь и отошел.
Белый Клык едва мог поверить, что он на свободе. Много месяцев прошло с тех пор, как он попал к Красавчику Смиту, и за все это время он не знал ни минуты свободы, за исключением тех часов, когда дрался с собаками. Но сразу же после окончания борьбы он снова попадал в неволю.
Он не знал, что ему делать с этой вновь обретенной свободой. Может быть, боги задумали какой-нибудь новый дьявольский план? Он прошелся медленно и осторожно, каждую минуту ожидая нападения. Все это было настолько ново, что он не знал, какую ему избрать тактику. Он решил держаться подальше от двух глядевших на него богов и осторожно отошел к дальнему углу хижины. Однако ничего не произошло. Он был настолько озадачен, что вернулся назад и, остановившись в двенадцати шагах, стал пристально глядеть на них.
– А он не убежит? – спросил его новый владелец.
Мат пожал плечами:
– Нужно рискнуть. Единственный способ убедиться – это испытать его.
– Бедняга, – с состраданием промолвил Скотт. – Ему нужнее всего человеческая ласка, – добавил он, поворачиваясь к входу в хижину. Он вышел оттуда с куском мяса и бросил его Белому Клыку. Пес отскочил и стал издали подозрительно рассматривать подачку.
– Прочь, Майор! – закричал Мат.
Но было уже поздно! Майор бросился на мясо. В тот момент, как он схватил его зубами, Белый Клык кинулся на Майора. Тот упал. Мат устремился на помощь, но Белый Клык был быстрее его. Майор встал, шатаясь, на ноги, но кровь, хлынувшая из его горла, широким пятном обагрила снег.
– Очень жаль, но он получил поделом, – быстро проговорил Скотт.
Но Мат успел уже ударить Белого Клыка ногой. Прыжок, щелкнули зубы, и резкий крик огласил воздух. Белый Клык с злобным рычанием отскочил на несколько ярдов, а Мат нагнулся, чтобы исследовать свою ногу.

– Здорово разукрасил, – он указал на разорванные штаны и нижнее белье и растущее кровавое пятно.
– Я говорил тебе, Мат, что это безнадежно, – промолвил упавшим голосом Скотт. – Я много думал об этом и вижу, что остается только одно средство, к нему и придется прибегнуть.
С этими словами он вынул револьвер, открыл барабан и удостоверился в том, что он заряжен.
– Слушайте, мистер Скотт, – сказал Мат, – эта собака слишком долго жарилась в аду, чтобы так сразу превратиться в ангела. Дайте ей время.
– Взгляни на Майора, – возразил хозяин.
Погонщик посмотрел на раненую собаку. Она лежала на снегу в большой луже крови, при последнем издыхании.
– Поделом ей. Вы сами это сказали, мистер Скотт. Она хотела украсть мясо у Белого Клыка и за это поплатилась. Иначе и быть не могло. Я сам не дал бы ни одного гроша за собаку, которая не сумела бы защитить своего куска мяса.
– Но посмотри на себя, Мат. Все это ничего, когда дело идет о собаках, но ведь есть границы…
– И мне поделом, – упрямо сказал Мат. – Зачем я ударил его? Вы сами сказали, что он был прав; следовательно, я не имел права его бить.
– Самое лучшее, что можно для него сделать, это убить его, – сказал мистер Скотт. – Приручить его невозможно.
– Послушайте, мистер Скотт, дайте бедняге опомниться. Он еще не имел этой возможности. Он только что вышел из ада и в первый раз почуял свободу. Имейте терпение, и если он не исправится, я сам пристрелю его. Вот!
– Бог свидетель, что я вовсе не хочу убивать его, – ответил Скотт, пряча револьвер. – Мы оставим его на свободе и посмотрим, чего можно будет добиться от этого волка добром. Я сейчас сделаю опыт.
Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним ласково и мягко.
– Вооружитесь лучше дубиной, – посоветовал Мат.
Белый Клык насторожился: что-то грозило ему. Он убил собаку своего бога, укусил его товарища, и ему не оставалось ждать ничего другого, как страшного наказания. Но он и не думал смиряться. Он ощетинился, обнажил зубы, глаза его заблестели, и все тело напружинилось, готовясь к нападению. У бога не было в руках дубины, и Белый Клык позволил ему подойти совсем близко. Рука бога протянулась и начала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и насторожился. Тут-то и таилась опасность – предательство или что-нибудь в этом роде. Он хорошо знал, до чего властны и хитры человеческие руки. Кроме того, он не выносил прикосновения. Он зарычал еще более грозно и еще больше съежился, но рука продолжала опускаться. Он не хотел укусить эту руку и сносил приближение ее до тех пор, пока пробудившийся инстинкт не опьянил его ненасытной жаждой жизни.
Видон Скотт полагал, что всегда сумеет избегнуть укуса, но ему пришлось познакомиться на деле с необычайной быстротой Белого Клыка, который нападал с уверенностью и проворством свернувшейся змеи.
Скотт вскрикнул от боли и зажал здоровой рукой насквозь прокушенную кисть. Мат крепко выругался и подбежал к нему. Белый Клык попятился, скаля зубы и грозно глядя на людей. Теперь он мог ожидать еще худших побоев, чем те, которыми награждал его Красавчик Смит.
– Стой! Что ты собираешься делать? – вдруг крикнул Скотт, увидев, что Мат вбежал в хижину и выскочил оттуда с ружьем.
– Ничего, – тихо ответил тот с кажущимся равнодушием, – я только собираюсь сдержать данное вам обещание. Должен же я его убить, раз сказал, что убью?
– Нет, не должен…
– Должен! Вот посмотрите!..
Так же, как заступился Мат за Белого Клыка, когда тот укусил его, так вступился за него теперь Скотт.
– Ты говорил, что надо дать ему возможность исправиться. Так дай же ее. Мы только что принялись за него; нельзя же сразу ожидать результатов. На этот раз и мне поделом. А теперь взгляни на него.
Белый Клык, прижавшись к углу хижины, в сорока шагах от них, злобно рычал, но не на Скотта, а на погонщика.
– Вот тебе на! – выразил погонщик свое удивление.
– Посмотри, какой он умный, – быстро продолжал Скотт. – Он так же хорошо понимает значение огнестрельного оружия, как и мы. Он удивительно умен, и надо дать возможность развиться этому уму. Положи ружье.
– Хорошо, – согласился Мат и прислонил ружье к лежавшим рядом дровам.
– Что вы на это скажете? – воскликнул он в следующее мгновение.
Белый Клык улегся и перестал рычать.
– Это надо расследовать. Посмотрим.
Мат схватился за ружье; в ту же минуту Белый Клык снова зарычал. Погонщик отставил ружье в сторону, и пес смолк и спрятал клыки.
– А теперь, шутки ради!..
Мат взял в руки ружье и стал медленно поднимать его кверху. При этом движении снова раздалось рычание Белого Клыка, которое усиливалось по мере приближения ружья к плечу. Но раньше, чем Мат успел прицелиться, пес отскочил за угол хижины. Мат удивленно смотрел на опустевшее на снегу место.
Погонщик торжественно поставил ружье на землю и, обернувшись к своему хозяину, сказал:
– Я согласен с вами, мистер Скотт: эта собака слишком умна для того, чтобы убивать ее.
Глава VI. Любимый хозяин
Когда Белый Клык заметил приближение Видона Скотта, он ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не допустит наказания. Двадцать четыре часа прошло с тех пор, как он прокусил руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи. У Белого Клыка сохранились от прежнего времени воспоминания об отсроченных наказаниях, и он боялся, что именно это его ожидает. Как могло быть иначе? Он совершил то, что сам считал святотатством: он вцепился клыками в священную руку бога, да еще вдобавок высшего, белого бога. Считаясь с порядком вещей и взаимоотношениями, существовавшими между богами и животными, ему следовало ожидать самого страшного наказания.
Бог уселся в нескольких шагах от него. Белый Клык не мог усмотреть в этом никакой опасности. Когда боги чинили расправу, они стояли на ногах. К тому же у этого бога не было в руках ни дубины, ни кнута, ни оружия. А главное, он сам был на свободе. Его не удерживали ни цепь, ни палка. Он всегда мог убежать, если бы бог вскочил на ноги. Пока же он решил ждать и смотреть.
Бог оставался спокойным и не двигался; рычание Белого Клыка постепенно перешло в легкое ворчание и, наконец, смолкло. И тут бог заговорил. При первом звуке его голоса шерсть на шее Белого Клыка поднялась, и рычание подступило к горлу. Но бог не сделал никакого враждебного движения и продолжал спокойно говорить. Некоторое время Белый Клык рычал в унисон с человеческим голосом, но бог говорил без конца. Он говорил с Белым Клыком так, как никто еще не говорил с ним до этих пор. Он говорил мягко и тихо, с глубокой нежностью, которая как-то и где-то находила отклик в Белом Клыке. Наперекор своему инстинкту и вопреки желанию Белый Клык почувствовал доверие к своему богу. Несмотря на весь его горький опыт, чувство безопасности охватило его.
Прошло несколько времени, прежде чем бог поднялся и вошел в хижину. Белый Клык подозрительно взглянул на него, когда он снова вышел оттуда. В руках у него не было ни дубины, ни кнута, ни другого оружия. Здоровая рука его не была заложена за спину, а это означало, что он ничего не прячет в ней. Он снова уселся на прежнее место, в нескольких шагах от волка, и протянул ему маленький кусочек мяса. Белый Клык насторожился и подозрительно осмотрел его, следя одновременно и за мясом, и за движениями бога, готовый немедленно отскочить при первых признаках враждебного намерения.
Но наказание все еще не приходило. Бог просто держал у самого его носа кусочек мяса, в котором, казалось, не было ничего необыкновенного. Но Белый Клык продолжал относиться недоверчиво к подачке, и хотя рука, державшая мясо, протягивалась к нему вполне дружелюбно, он не трогал его. Он знал, что боги необычайно изобретательны, и кто знает, какой обман мог скрываться в этом безобидном на вид куске мяса? По прежнему его опыту, в особенности когда ему приходилось иметь дело с индейскими женщинами, мясо и наказание часто следовали одно за другим.

В конце концов, бог бросил мясо в снег к лапам Белого Клыка. Пес тщательно обнюхал мясо, ни на минуту не спуская глаз с бога. Ничего, однако, не случилось. Он схватил мясо и проглотил. И опять ничего не произошло; только бог предлагал ему другой кусок мяса. Он снова отказался взять его из рук, и кусок был брошен к его ногам. Это повторилось несколько раз. Но настал момент, когда бог отказался бросить ему кусок; он держал его в руке, настойчиво предлагая Белому Клыку лакомство.
Мясо было вкусное, а Белый Клык голоден. Шаг за шагом, осторожно приблизился он к богу. Наконец он решился взять мясо из рук. При этом он не спускал глаз с бога, голова его была вытянута вперед, уши прижаты, а шерсть так и ходила ходуном. Глухое ворчание, вырывавшееся из его горла, служило как бы предупреждением, что он не позволит шутить над собой. Он съел мясо и с удивлением убедился, что ничего не произошло. Наказание, по-видимому, откладывалось. Он облизался и стал ждать. Бог заговорил. В его голосе слышны были ласковые ноты, о которых Белый Клык не имел до этого времени никакого понятия. И при звуке этого голоса в нем зашевелились какие-то новые ощущения, о которых он ничего не знал раньше. Он почувствовал что-то вроде удовольствия, смутного удовлетворения, точно какая-то пустота заполнилась вдруг в его душе, насытилась какая-то потребность. Но тут в нем снова заговорил инстинкт, подсказывавший ему опасаться богов, которые умели всякими путями добиваться своих целей.
Ага, он так и думал! Над его головой снова появилась рука бога, умеющая причинять боль. Но бог продолжал говорить. Голос его звучал ласково и мягко. Несмотря на грозную руку, голос внушал доверие, а несмотря на успокоительно действующий голос, рука внушала опасения. В Белом Клыке боролись самые противоположные чувства. Ему казалось, что душа его разорвется, настолько велики были в нем борьба и те усилия, которые ему приходилось делать, чтобы не дать проявиться ни одному из этих чувств.
Он пошел на компромисс. Он рычал, ерошил шерсть, прижимал назад уши, но не кусался и не отскакивал. Рука опускалась все ниже и ниже. Наконец она коснулась его взъерошенной шерсти. Он съежился. Рука плотнее прижалась к нему; дрожа и ежась, он все же старался сдерживать себя. Прикосновения этой руки были для него мучением. Он не мог в один день забыть все зло, причиненное ему человеческими руками. Но такова была воля нового бога, и он старался подчиниться ей.
Рука поднималась и опускалась, гладя и лаская его. Это продолжалось некоторое время, и всякий раз, как поднималась рука, за ней поднималась и шерсть. И каждый раз, как рука опускалась, уши прижимались, и из горла Белого Клыка вылетало глухое ворчание. Это было предостережением. Таким образом он заявлял, что готов мстить за всякое зло, которое может быть ему причинено. Никто не мог знать, когда могут вдруг проявиться скрытые намерения бога. В любую минуту этот мягкий, внушающий доверие голос мог перейти в злобный крик, а ласкающая рука – превратиться в жестокие тиски и подвергнуть его суровому наказанию.
Но бог продолжал ласково говорить, и рука продолжала гладить, не выказывая никаких враждебных намерений. Белый Клык испытывал двойное чувство: прикосновение руки было ненавистно ему, так как шло наперекор его инстинкту, связывало его, обращало его собственную волю против стремления к личной свободе. С другой стороны, оно не причиняло ему физической боли, и даже наоборот, скорее было ему приятно. Ласкающее движение руки понемногу сменилось легким почесыванием за ушами, отчего приятное ощущение еще усилилось. И все-таки страх не покидал его, и он держался настороже, ожидая нападения и испытывая попеременно то наслаждение, то муки, в зависимости от того, какое из двух чувств брало верх в его душе.
– Вот тебе раз! – воскликнул Мат, выходя из хижины с засученными рукавами и тазом с грязной водой в руках; при виде того, как Видон Скотт гладил Белого Клыка, он остановился пораженный.

Услыхав его голос, Белый Клык с рычанием отскочил. Мат неодобрительно взглянул на своего хозяина.
– Если вы разрешите мне высказать свое мнение, мистер Скотт, то я скажу вам, что вы круглый дурак, если только не идиот.
Видон Скотт самодовольно улыбнулся, встал и подошел к Белому Клыку. Он ласково заговорил с ним и начал гладить его по голове. Белый Клык не протестовал, подозрительно поглядывая, но не на человека, гладившего его, а на стоящего в дверях.
– Вы один из лучших знатоков золотого дела, это несомненно, – заявил погонщик собак, – но вы наверняка проворонили свое призвание, если не догадались еще мальчишкой убежать из дому и поступить в цирк.
Белый Клык снова зарычал при звуках его голоса, но на этот раз не выскочил из-под руки, гладившей его по голове и шее.
Для Белого Клыка это было началом конца, конца прежней жизни в царстве ненависти; наступила новая, непонятная, прекрасная эра. Со стороны Видона Скотта потребовалось немало ума и бесконечное терпение, чтобы добиться желанных результатов. А для Белого Клыка это был полный переворот. Ему пришлось подавить в себе требования и побуждения инстинкта и рассудка, пренебречь своим прежним опытом и как бы изобличить во лжи самую жизнь.
В той жизни, которую он знал до этих пор, просто не было места для многого из того, что он делал теперь; наоборот, все прежние его побуждения находились в полном противоречии с настоящими. Короче говоря, ориентироваться в этой новой среде и приспособиться к ней было много труднее для Белого Клыка, чем тогда, когда он добровольно ушел из первобытной пустыни и отдался в руки Серого Бобра. В то время он был еще щенком, с неустановившимся характером, готовым принять какой угодно облик в зависимости от окружающих его жизненных условий. Теперь было не то. Жестокая среда слишком хорошо сделала свое дело. Она превратила его в Волка-Бойца, свирепого и беспощадного, ненавидящего и ненавидимого. Чтобы измениться совсем, ему надо было переродиться. А между тем в это время юношеской гибкости уже не было, мускулы сделались жесткими и узловатыми; уток и основа его существования успели выткать из него непроницаемую ткань, твердую и негнущуюся; воля его превратилась в железо, а все инстинкты и задатки выкристаллизовались в установившиеся навыки, опасения, антипатии и желания.
И опять условия жизни стали оказывать на него свое действие, смягчая то, что очерствело, и придавая ему более совершенную форму. Видон Скотт воистину олицетворял в этом случае перст судьбы. Он добрался до самых глубин души Белого Клыка и лаской вызвал к жизни те способности, которые дремали там и уже почти погибли. Одной из таких способностей была любовь. Она заняла место простой симпатии, выше которой Белый Клык ничего не испытал со дня своего знакомства с богами.
Но любовь эта не пришла в один день. Она началась с симпатии и стала понемногу развиваться. Имея возможность убежать, Белый Клык не сделал этого, потому что ему нравился его новый бог. Эту новую жизнь нельзя было сравнить с жизнью в клетке Красавчика Смита, а Белому Клыку необходимо было иметь какого-нибудь бога. Его природа требовала подчинения божеству. Печать зависимости от человека легла на него в тот день, когда он повернулся спиной к пустыне и подполз к ногам Серого Бобра, ожидая от него побоев. Зависимость эта еще усилилась, когда после голода он вторично оставил пустыню и вернулся в селение к Серому Бобру, который накормил его рыбой.
И так как Белый Клык нуждался в боге, а Видон Скотт нравился ему больше Красавчика Смита, он остался у него. Чтобы доказать свою преданность, он взял на себя обязанность сторожить имущество своего хозяина. Он прогуливался перед хижиной, пока упряжные собаки спали, и первому вечернему посетителю пришлось отбиваться от него дубиной, пока на помощь не подоспел Видон Скотт. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей по наружному виду и походке. Человека, идущего смелой походкой прямо к двери хижины, он не трогал, хотя напряженно следил за ним до тех пор, пока дверь не открывалась и хозяин не впускал гостя внутрь. Но человеку, который приближался крадучись, осторожно, поглядывая по сторонам, не было пощады, и спасти его могло только быстрое и позорное бегство.
Видон Скотт задался целью исправить Белого Клыка или, вернее, исправить то зло, которое причинило ему человечество. Он считал это делом принципа и совести. Он чувствовал, что зло, причиненное Белому Клыку, – это долг, сделанный человеком, и долг этот необходимо было уплатить. Вот почему он старался выказывать особенную доброту к Белому Клыку. Каждый день он ласкал и гладил его.
Сначала Белый Клык относился к ласкам подозрительно и враждебно, но вскоре полюбил их. Однако он никак не мог отделаться от ворчания. Все время, пока хозяин гладил его, он ворчал. Но зато в этом ворчании появилась новая нотка. Чужой человек не отличил бы этой ноты и счел бы это ворчание просто за проявление первобытной дикости и злобы. Горло Белого Клыка навсегда огрубело от тех свирепых звуков, которые он издавал в течение многих лет подряд, начиная с того дня, когда совсем еще маленьким щенком в первый раз зарычал в своей берлоге. Он не умел смягчить звука своего голоса, чтобы выразить ощущаемую им нежность. Тем не менее слух и чутье Видона Скотта были достаточно тонки, чтобы уловить новую ноту в этом свирепом рычании, – ноту, в которой чувствовался слабый намек на довольное мурлыканье и которую не удавалось расслышать никому, кроме него.
Дни шли за днями, и переход от симпатии к любви совершался быстро. Белый Клык сам начал замечать это, хотя, разумеется, не имел никакого представления о том, что такое любовь. Любовь проявлялась в нем ощущением какой-то голодной, болезненной, гнетущей пустоты, которая требовала заполнения. Она причиняла страдание и беспокойство, которые облегчались только присутствием нового бога. В такие минуты любовь была для него удовлетворением, дикой, бешеной радостью. Но вдали от бога им снова овладевали беспокойство и страдание; его давило ощущение пустоты и голода, который не переставал грызть его.
Белый Клык начинал познавать самого себя. Несмотря на зрелый возраст и суровую оболочку, которую создали ему условия жизни, его истинная природа только теперь начинала распускаться. В нем просыпались незнакомые чувства и непроизвольные побуждения. Его прежние вкусы и поведение совершенно изменились. В прошлой своей жизни он любил удобства и отсутствие страдания, ненавидел неудобства и боль и сообразно с этим поступал. Теперь это было не так. Руководимый новыми чувствами, он часто выбирал неудобства и страдания из любви к своему богу. Так, рано утром, вместо того, чтобы бродить и искать пищу или лежать в уютном защищенном месте, он часами ждал на пороге хижины, чтобы увидеть своего бога. Вечером, когда хозяин его возвращался, он покидал теплое место, вырытое им в снегу, чтобы услышать слово привета и получить дружескую ласку. Он отказался даже от мяса, чтобы побыть со своим богом, заслужить от него ласку или отправиться с ним в город.
Симпатия сменилась любовью. Любовь проникла в самую глубину его души, куда никогда не проникала симпатия, и со дна души в ответ поднялось новое чувство. За то, что он получал, он платил тем же. Наконец-то перед ним был настоящий бог, добрый, лучезарный, под влиянием которого природа его расцветала, как расцветает цветок под лучами солнца.
Но Белый Клык не умел открыто проявлять свои чувства. Он был слишком стар, и характер его успел уже настолько сложиться, что новые пути в этой области были для него закрыты. Постоянное одиночество, сдержанность, мрачность наложили на него свой отпечаток. Он никогда в жизни не лаял и не мог уже научиться выражать лаем свою радость при приближении своего бога. Он никогда не бросался ему навстречу, никогда не выражал своей любви экспансивным или смешным способом. Он ждал его на почтительном расстоянии, но ждал его всегда и всегда был тут. Любовь его граничила с обожанием, безмолвным, немым обожанием. Только преданным взглядом своих глаз, напряженно следивших за каждым движением хозяина, выражал он свою любовь. Временами, когда бог смотрел на него и говорил с ним, он ощущал какую-то неловкость, происходившую от желания проявить свою любовь и чисто физической неспособности сделать это.

Вскоре он приспособился к своей новой жизни. Он понял, что не следует трогать других собак своего хозяина. Все же его властолюбивый характер сказался и тут, и он, основательно проучив их, заставил уважать себя и признать свое главенство. Достигнув этого, он успокоился. При встрече они уступали ему дорогу и беспрекословно исполняли его волю.
Точно так же он научился терпимо относиться к Мату как к собственности своего хозяина. Последний реже кормил его. Это входило в обязанности Мата, но Белый Клык понимал, что он ест пищу хозяина, который кормит его при посредстве другого лица. Мат однажды попробовал надеть на него хомут и заставить его тащить нарты с другими собаками. Но опыт не удался. Только когда Видон Скотт сам запряг его, Белый Клык понял, что это воля хозяина, чтобы Мат правил им и погонял наравне с другими собаками.
Клондайкские нарты, на полозьях, отличались от тех, которыми пользовались на реке Макензи. Собаки впрягались по-иному, не веером, а гуськом, так что в Клондайке передовая собака являлась действительным вожаком. Вожак был самым умным и сильным псом, и другие повиновались ему и боялись его. Белый Клык неизбежно должен был стать головной собакой. Он не мог удовольствоваться меньшим, и Мат вскоре понял это. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мату не оставалось ничего другого, как выругаться и согласиться. Несмотря на то что Белый Клык работал целыми днями, это не мешало ему сторожить ночью имущество своего хозяина; без отдыха, верой и правдой служил он ему и по праву стал считаться самой лучшей его собакой.
– Давно уже у меня язык чешется сказать вам, – начал в один прекрасный день Мат, – что вы сделали выгодное дело, купив за сто пятьдесят долларов эту собаку. Вы здорово надули Красавчика Смита, не считая того, что отделали ему физиономию.
Гнев сверкнул в серых глазах Скотта при воспоминании об этом, и он злобно пробормотал:
– Скотина!..
В конце осени Белого Клыка постигло великое несчастье. Его любимый хозяин вдруг совершенно неожиданно исчез. Правда, этому предшествовали некоторые обстоятельства, но Белый Клык по неопытности не понял, что означает укладка чемодана. Только потом он вспомнил, что эта укладка предшествовала исчезновению хозяина, но в момент приготовления к отъезду в голове его не возникало ни малейшего подозрения. В полночь резкий холодный ветер заставил его укрыться позади хижины. Он задремал, насторожив уши, чтобы услышать знакомые шаги. Но в два часа ночи усилившееся беспокойство заставило его снова выйти на холод, и, съежившись на крыльце хижины, он стал ждать.
Хозяин не возвращался. Утром дверь хижины открылась, и оттуда вышел Мат. Белый Клык жалобно посмотрел на него. Между ними не существовало общего языка, с помощью которого он мог бы узнать от погонщика о том, что так интересовало его. Дни шли за днями, а хозяина все не было. Белый Клык, не знавший до сих пор, что значит хворать, вдруг заболел, и настолько сильно, что Мату пришлось взять его в хижину. В следующем письме к своему хозяину он посвятил Белому Клыку целую приписку.
Видон Скотт, читая это письмо в Серкл-Сити, наткнулся на следующую фразу: “Этот проклятый волк не хочет работать. Ничего не ест. Окончательно потерял энергию. Все собаки задирают его. Он хочет знать, что случилось с вами, но я не знаю, как объяснить ему это. Похоже на то, что он скоро сдохнет”.
Мат говорил правду. Белый Клык перестал есть, упал духом и позволял всем упряжным собакам кусать себя. Он лежал в хижине, на полу, около печки, не интересуясь ни пищей, ни Матом, ни жизнью. Обращался ли к нему Мат с ласковыми словами или громко ругался, он одинаково равнодушно смотрел на него тусклыми глазами и снова привычным движением опускал голову на вытянутые передние лапы.
Однажды ночью, когда Мат сидел и читал что-то вполголоса, его поразил тихий визг Белого Клыка: пес вскочил и, насторожив уши, внимательно прислушивался. Через минуту Мат услыхал чьи-то шаги. Дверь открылась, и вошел Видон Скотт. Мужчины пожали друг другу руку, после чего Скотт оглянулся.
– А где же волк? – спросил он. Белый Клык стоял у печки на том же месте, где он лежал перед этим. Он не бросился навстречу, как это делают другие собаки, а спокойно ждал, не сводя глаз с хозяина.
– Святая яичница! – воскликнул Мат. – Да он машет хвостом!
Видон Скотт прошел до середины комнаты и позвал Белого Клыка. Тот приблизился к нему, но не скачками, а быстрым шагом. Волнение делало его неуклюжим, но когда он подошел к хозяину, в глазах его появилось странное выражение. Какая-то непередаваемая глубина чувств засветилась в них.
– Он никогда не смотрел на меня так, пока вас не было, – заметил Мат.
Но Видон Скотт не слушал его. Присев на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его, почесывая за ушами, гладил его по плечам и шее и похлопывал по спине. И Белый Клык ворчал в ответ, и в голосе его отчетливо слышались мурлыкающие нежные ноты.
Но это было не все. Стремясь как-нибудь проявить охватившую его радость и безграничную любовь, волк придумал, наконец, подходящий способ. Он просунул вдруг морду между телом и рукой хозяина, и тут, в этом надежном убежище, скрытый от человеческих глаз, он перестал рычать и начал ласкаться и прижиматься к нему.
Мужчины переглянулись. Глаза Скотта блестели.
– Каково! – благоговейно произнес Мат.
Через минуту, придя в себя, он добавил:
– Я всегда говорил, что этот волк – собака. Взгляните на него!
С возвращением любимого хозяина Белый Клык стал быстро поправляться. Две ночи и день он провел в хижине, затем вышел на воздух. Упряжные собаки успели забыть его прежнюю доблесть… Они помнили только его слабость и понесенные им за последние дни поражения. Увидев, что он выходит из хижины, они бросились на него.
– Задай им хорошенько! – весело закричал Мат, останавливаясь на пороге хижины. – Так, так! Ай да волк! А ну еще!
Но Белый Клык не нуждался в поощрении. Ему достаточно было возвращения любимого хозяина. Жизнь снова залила его могучим, неукротимым потоком. Он весело вступил в борьбу, находя в ней выход тому чувству, которого он не мог выразить речью. Конец мог быть только один. Вся свора пустилась в позорное бегство, и только с наступлением темноты собаки стали возвращаться поодиночке, кротостью и смирением выражая свою покорность Белому Клыку.
Выучившись ласкаться к хозяину, Белый Клык стал проделывать это часто. Это было высшим выражением любви. Дальше пойти он не мог. Он всегда ревниво оберегал свою голову и не выносил, чтобы до нее дотрагивались. Это был наследственный страх перед капканом, заставлявший его панически бояться всякого прикосновения. А теперь, с появлением любимого хозяина, он сам добровольно ставил себя в положение полнейшей беспомощности; он выражал этим свое безграничное доверие к нему, полную покорность, как будто хотел сказать: “Я отдаю себя целиком в твои руки; делай со мной что хочешь”.
Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт предложил Мату сыграть перед сном партию в криббедж.
– Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре: итого я выиграл шесть, – подсчитал Мат, когда со двора раздался вдруг крик и послышалось громкое рычание. Мужчины, переглянувшись, вскочили на ноги.
– Наш волк поймал кого-то, – сказал Мат.
Дикий крик ужаса, огласивший воздух, заставил их броситься к выходу.
– Принеси огня, – закричал Скотт, выскакивая наружу.
Мат быстро принес лампу, и при ее свете они увидели лежавшего на спине человека. Руки его были сложены одна на другую, и он старался защитить ими свое лицо и горло от зубов Белого Клыка. Последний, в припадке дикой злобы, стремился добраться до самого уязвимого места. Рукав, синяя фланелевая рубашка и белье были разодраны в клочья от плеча до кисти скрещенных рук, сами же руки были прокусаны в нескольких местах, и из них сильно текла кровь.
Все это Скотт и Мат увидели в один миг. В следующее мгновение Видон Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил его. Последний делал попытки вырваться и продолжал рычать, но уже не пробовал кусаться и при первом резком слове хозяина совершенно успокоился.
Мат помог человеку подняться, и, когда тот опустил свои руки, они увидели перед собой гнусную физиономию Красавчика Смита. Погонщик тотчас же отскочил от него, словно прикоснулся к раскаленным угольям. Глаза Красавчика Смита мигали от света лампы, и он озирался по сторонам. Когда взгляд его упал на Белого Клыка, лицо его выразило ужас.
В ту же минуту Мат увидал на снегу два предмета. Приблизив к ним лампу, он ногой указал на них своему хозяину; это была стальная собачья цепь и здоровая дубина.
Видон Скотт посмотрел в свою очередь и кивнул головой, никто из них не проронил ни слова. Мат взял Красавчика Смита за плечи и повернул его направо кругом. Слова были излишни. Красавчик Смит понял и зашагал прочь.
Тем временем любимый хозяин гладил Белого Клыка, приговаривая:
– Он хотел украсть тебя. А! Тебе это не улыбалось? Да, да, он немного ошибся. Не так ли?
– Он думал, что поймает его! Как же! Сто тысяч чертей! – засмеялся погонщик.
А Белый Клык, все еще взволнованный, с ощетинившейся шерстью, ворчал и ворчал, но в голосе его уже смутно слышались мурлыкающие ноты.
Часть пятая
Глава I. Далекий путь
Это носилось в воздухе. Белый Клык почуял надвигавшееся несчастье раньше, чем появились какие-либо ощутимые признаки его. В нем смутно зародилось предчувствие готовящейся перемены. Он не знал ни как, ни откуда оно появилось. Сами того не сознавая, боги выдали свои намерения собаке-волку, и та, проводя все свое время во дворе под навесом и никогда не входя в хижину, догадалась о том, что происходило у них в голове.
– Вот, не угодно ли! Послушайте, – воскликнул однажды за ужином погонщик.
Видон Скотт прислушался. Через закрытую дверь доносился тихий вой, похожий на сдавленное рыдание. Затем они услышали, как Белый Клык обнюхивал дверь, точно желая удостовериться, что бог его еще здесь, а не исчез таинственным образом.
– Я уверен, что этот волк все понял, – проговорил погонщик.
Видон Скотт взглянул на него почти молящим взором, хотя последовавшие затем слова противоречили его взгляду.
– На кой черт нужен мне волк в Калифорнии? – спросил он.
– Я того же мнения, – ответил Мат. – На кой черт вам волк в Калифорнии?
Но это не удовлетворило Скотта. В голосе погонщика ему почудился упрек.
– Собаки там не уживутся с ним. Он при первой встрече загрызет их. Если даже он не разорит меня штрафами, то власти все равно отберут его у меня и электрокутируют.
– Я того же мнения – он отъявленный убийца, – заметил погонщик.
Видон Скотт подозрительно взглянул на него.
– Это совершенно невозможно, – сказал он решительно.
– Да, это невозможно, – согласился погонщик. – Вам пришлось бы взять специального человека, чтобы ходить за ним.
Подозрения Скотта улеглись, и он с облегчением кивнул головой. В тишине за дверью ясно слышно было визжание и затем долгое тревожное обнюхивание.
– А он все беспокоится о вас, ей-ей!
Скотт взглянул на погонщика злобным взглядом.
– К черту! Я сам знаю, что мне делать.
– Я согласен с вами, только…
– Что только? – прервал Скотт.
– Только… – тихо начал погонщик и затем, как бы передумав, возвысил голос. – Да чего вы собственно кипятитесь? По вашему виду можно подумать, что вы сами не знаете, на что решиться!
Видон Скотт минуту боролся с собой, затем более спокойно сказал:
– Ты прав, Мат. Я сам не знаю, как поступить. В этом-то вся и беда.
– Тащить этого пса за собой было бы непростительной глупостью, – проговорил он после паузы.
– Я согласен с вами, – ответил Мат, и опять хозяин недовольно посмотрел на него.
– Но во имя всех морских чертей и сорока дьяволов объясните мне, каким образом этот пес пронюхал о вашем отъезде? – с невинным видом спросил погонщик.
– Понять не могу, – ответил Скотт, грустно качая головой.

Наступил день, когда Белый Клык увидел на полу через открытую дверь роковой чемодан, в который его любимый хозяин укладывал свои вещи. Постоянное хождение взад и вперед нарушало обычно спокойную атмосферу хижины. Очевидно, предстояла перемена. Белый Клык чувствовал это давно, но теперь он стал рассуждать. Его бог, очевидно, собирался вторично исчезнуть. И раз он не взял его с собой в первый раз, то и теперь, по всей вероятности, оставит его здесь.
В эту ночь он выл настоящим, пронзительным волчьим воем, как выл в ту ночь, когда, будучи еще щенком, вернулся из леса на место, где был поселок, и нашел там вместо палатки Серого Бобра только кучу тряпок и хлама. Так и теперь, подняв морду к звездам, он изливал им свое горе.
В хижине люди только что легли спать.
– Он опять перестал есть, – заметил со своей койки Мат.
С койки Видона Скотта послышалось ворчание и шорох одеяла.
– Судя по тому, как он тосковал в прошлый ваш отъезд, я не удивлюсь, если на этот раз он сдохнет.
На другой койке снова послышался сильный шорох.
– Да замолчишь ли ты наконец! – прикрикнул Скотт в темноте. – Каркаешь хуже старой бабы.
– Совершенно согласен с вами, – ответил погонщик, и Скотт так и не понял, смеется тот над ним или говорит серьезно.
На следующий день волнение и беспокойство Белого Клыка еще больше возросли. Он ходил по пятам за своим хозяином и караулил его под навесом, когда тот входил в хижину. Через открытую дверь он видел лежавший на полу багаж. Около чемодана стояли сундук и два дорожных мешка. Мат заворачивал одеяла и шубу хозяина в брезент. Белый Клык жалобно выл, следя за этой операцией.
Немного спустя явились два индейца. Он следил за ними, когда они, взвалив на плечи багаж, отправились вниз по холму в сопровождении Мата, несшего постельные принадлежности и чемодан. Белый Клык не пошел за ними. Хозяин все еще находился в хижине. Через несколько времени Мат вернулся. Хозяин подошел к двери и позвал Белого Клыка.
– Бедный ты мой, – сказал он ласково, почесывая у него за ушами и гладя его по спине. – Я отправляюсь в далекий путь, старина, и ты не можешь следовать за мной. Ну, поворчи же теперь, поворчи хорошенько на прощание.
Но Белый Клык отказывался ворчать. Вместо того, бросив на хозяина задумчивый испытующий взгляд, он нырнул между его рукой и телом и спрятал там свою голову.
– Вот он чудит, – воскликнул Мат. С Юкона послышался хриплый рев подходившего парохода. – Прощайтесь скорей! Закройте хорошенько дверь на крыльцо – я выйду через заднюю. Да поживее!
Обе двери закрылись одновременно, и Видон Скотт, подойдя к крыльцу, стал ждать появления Мата. Изнутри раздавался тихий, жалобный вой, затем послышалось тяжелое сопение.
– Береги его, Мат, – сказал Скотт, когда они спускались по холму. – Пиши и сообщай мне, как он поживает.
– Непременно, – ответил погонщик, – но постойте, не хотите ли дослушать?

Оба остановились. Белый Клык выл, как воют собаки, когда умирает их хозяин. В этом вое слышались душераздирающие звуки, стихавшие до жалобного стона и снова переходившие во взрывы отчаяния.
“Аврора” была первым пароходом, отходившим в этом году на юг. На палубе его толпились разбогатевшие и разорившиеся золотоискатели, стремившиеся теперь на родину с таким же нетерпением, с каким они в свое время стремились в Клондайк. Стоя у сходней, Скотт пожимал руку Мату, собиравшемуся сойти с парохода. Но рука Мата вдруг застыла в воздухе, и он тупо уставился на что-то, находящееся позади Скотта. Тот обернулся. На палубе, в нескольких шагах от него, сидел Белый Клык, задумчиво глядя на своего хозяина.
Погонщик тихо выругался. Видон Скотт смотрел, ничего не понимая.
– Вы заперли дверь на крыльцо? – спросил Мат.
Тот кивнул головой и, в свою очередь, спросил:
– А черный ход?
– Разумеется, запер, – уверенно ответил Мат.
Белый Клык покорно прижал уши, но продолжал сидеть, не делая попытки приблизиться.
– Мне придется взять его с собой на берег.

Мат сделал несколько шагов по направлению к Белому Клыку, но пес ускользнул от него. Погонщик кинулся за ним, но он проскочил между ногами пассажиров. Увертываясь, ныряя и то и дело меняя направление, он скользил по палубе, ловко избегая рук Мата.
Но когда любимый хозяин позвал его, он немедленно покорно подошел к нему.
– Ишь ты, и разговаривать не желает с человеком, который ежедневно кормил его, – пробормотал обиженно погонщик. – А вы – вы ни разу не кормили его, если не считать первых дней знакомства. Черт меня подери, если я понимаю, каким образом он догадался, что хозяин вы!
Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг указал на свежие порезы на его морде и между глазами.
Мат наклонился и провел рукой по брюху Белого Клыка.
– Мы совершенно забыли про окно. Он весь изрезан и поранен внизу. Он проскочил через стекло, ей-ей!
Но Видон Скотт не слушал его. Он быстро соображал.
Раздался последний свисток “Авроры”, извещавший об отходе. Люди спешили сойти на берег.
Мат снял свой шейный платок, чтобы обвязать его вокруг шеи Белого Клыка. Скотт схватил его за руку.
– Прощай, Мат, старина! Что касается волка, то тебе не придется писать о нем. Ты видишь, я…
– Что? – воскликнул погонщик. – Вы хотите сказать, что…
– Вот именно, убери свой платок. Я напишу тебе о нем.
Дойдя до середины сходен, Мат остановился.
– Он не выдержит климата! – закричал он, оборачиваясь назад. – Остригите его, когда наступит жара.
Сходни втащили на палубу, и “Аврора” отчалила. Видон Скотт махнул рукой на прощание. Затем он обернулся и наклонился к стоявшему рядом с ним Белому Клыку.
– Да ворчи же теперь, черт возьми, ворчи! – сказал он, гладя его покорную голову и почесывая прижатые уши.

Глава II. На юге
Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был поражен. Совершенно бессознательно, не рассуждая об этом, он постоянно отождествлял могущество с божественностью. И никогда еще белые люди не казались ему такими могущественными богами, как теперь, когда он шел по грязным улицам Сан-Франциско. Знакомые ему бревенчатые срубы сменились громадными постройками. Улицы так и кишели опасностями: повозки, экипажи, автомобили, огромные лошади, тащившие нагруженные лотовые телеги, сновали взад и вперед, а чудовищные электрические трамваи, несшиеся с шумом и грохотом посреди улиц, издавали резкие звуки, напоминавшие ему крик рыси в северных лесах.
Все это было проявлением могущества. И над всем этим стоял человек, наблюдая и управляя по своему усмотрению этим сложным миром и, как всегда, утверждая свою власть над неодушевленными предметами. Все это произвело на Белого Клыка ошеломляющее впечатление. Он был поражен. Страх овладел им. Как в былое время, будучи еще маленьким щенком, он почувствовал всю свою слабость и ничтожество, наткнувшись в лесу на палатку Серого Бобра, так и теперь, в полном расцвете сил, он снова проникся сознанием своей беспомощности. И богов здесь было такое множество! У него кружилась голова от сновавшей вокруг него толпы. Шум улиц оглушал его. Этот грохот и непрерывное движение приводили его в неописуемое изумление. Теперь больше, чем когда-нибудь, он чувствовал свою зависимость от хозяина, за которым шел по пятам, ни на секунду не теряя его из виду.
Белому Клыку довелось только мельком увидать шумный город, но он сохранил о нем тяжелое воспоминание, преследовавшее его по ночам как страшный кошмар. Затем хозяин посадил его на цепь в товарном вагоне, среди ящиков и сундуков. Здесь распоряжался коренастый смуглый бог, бросавший с большим шумом во все стороны чемоданы и сундуки. Он втаскивал их через открытую дверь и складывал в кучу или выкидывал тем же путем другим белым богам, ожидавшим свои вещи снаружи.
И тут, среди этого багажа, хозяин покинул Белого Клыка. По крайней мере, так он думал, пока не разыскал чутьем два его брезентовых мешка; тогда, сразу успокоившись, он принялся сторожить их.
– Хорошо, что вы пришли, – проворчал бог товарного вагона, когда час спустя Видон Скотт появился у дверей. – Ваша собака не позволяет мне прикоснуться к вашим вещам.
Белый Клык вышел из вагона. Он был поражен. Кошмарный город исчез. Вагон был для него не более как комнатой в доме, и когда он входил туда, вокруг него расстилался город. За этот промежуток времени город исчез. Городской шум больше не тревожил его ушей. Перед ним раскинулся веселый деревенский пейзаж, залитый солнцем и дышащий миром и спокойствием. Но ему некогда было долго раздумывать над этой переменой, и он принял ее, как принимал до сих пор все непонятные ему проявления могущества богов. Таковы были их пути.
На вокзале ждал экипаж. Мужчина и женщина подошли к хозяину. Руки женщины обвились вокруг его шеи, это было очевидно враждебное действие. В следующее мгновение Видон Скотт вырвался из объятий и схватил Белого Клыка, моментально превратившегося в злобного демона.
– Ничего, мама, – говорил Скотт, крепко держа Белого Клыка и успокаивая его. – Он решил, что вы хотите меня обидеть, а этого он не мог допустить. Ничего! Ничего! Он скоро поймет.
– А пока мне будет позволено любить моего сына только в отсутствие его собаки, – засмеялась мать, заметно побледнев от страха.
Она взглянула на ощетинившегося Белого Клыка, который враждебно рычал и злобно смотрел на нее.
– Ему придется научиться, как вести себя, и притом немедленно, – сказал Скотт. Он ласково заговорил с собакой, пока та не успокоилась, и затем крикнул властно: – Ложись! Слышишь? Ложись!
Он прошел уже с хозяином эту науку и, хотя неохотно, но все же повиновался.
– Теперь подойдите, мама.
Скотт раскрыл ей свои объятия, но не спускал глаз с Белого Клыка.
– Лежать, – крикнул он, – смирно!
Белый Клык, ощетинившись, молча наблюдал за повторением странной церемонии, готовый каждую секунду вскочить. Но от объятий женщины никакого вреда для его хозяина не произошло, так же как и от объятий другого чужого бога. Затем чемоданы были отнесены в коляску; за ними последовали чужие боги и, наконец, сам любимый хозяин. Белый Клык бежал за коляской, то отставая немного, то бросаясь к лошадям, чтобы напомнить им, что он тут – на страже интересов своего бога, которого они так быстро несли по земле.
Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по обсаженной с обеих сторон ореховыми деревьями аллее. По бокам ее раскинулись лужайки, на которых там и сям росли крепкие ветвистые дубы. Невдалеке, резко отличаясь от яркой зелени молодой травы, виднелись обожженные солнцем золотисто-желтые скошенные луга, а позади высились холмы с раскинувшимися на их склонах пастбищами. В конце аллеи на пригорке стоял дом с многочисленными окнами и широким крыльцом.
Белому Клыку не представилось возможности осмотреть все это. Не успела коляска въехать в аллею, как на него накинулась охваченная справедливым возмущением остроносая широкоглазая овчарка. Она встала между ним и хозяином, загораживая ему дорогу. Белый Клык ощетинился и без всякого предупреждения бросился в атаку, но тотчас же остановился. Он остановился так резко и неожиданно, что почти присел на задние ноги. Овчарка была сукой, а закон волков не позволяет самцам нападать на сук. Он не мог кинуться на нее иначе, как насилуя свой инстинкт.
Но овчарка смотрела на дело по-иному. Будучи сукой, она не обладала таким инстинктом, и, наоборот, ее порода заставляла ее испытывать особенно сильную ненависть к волкам. Белый Клык был для нее волком, наследственным хищником, нападающим на стада с тех пор, как выгнанные на пастбища овцы были впервые поручены присмотру одного из ее предков. И поэтому, когда он отскочил от нее, избегая столкновения, она кинулась на него. Он невольно зарычал, почувствовав ее зубы на своем плече, но не сделал никаких попыток причинить ей вред. Он отскочил в сторону, стараясь увильнуть от нее. Он нырял во все стороны, то поворачиваясь, то отбегая, но все напрасно. Овчарка неизменно торчала перед ним, загораживая ему путь.
– Колли, сюда! – раздался окрик чужого человека из коляски.
Видон Скотт засмеялся.
– Оставьте, папа! Это хорошая дисциплина. Белому Клыку придется многому научиться, и лучше всего, если он начнет учиться сразу. Он скорее привыкнет.
Карета продолжала катиться, а Колли по-прежнему загораживала дорогу Белому Клыку. Он пробовал обойти ее, отстав от коляски и пустившись бежать по лугам, но она бежала по внутреннему меньшему кругу и везде встречала его двумя рядами оскаленных белых зубов. Он перебежал дорогу, стараясь обогнать ее с другой стороны, но она снова опередила его.
Коляска между тем уносила хозяина. Белый Клык видел, как она мелькала между деревьями. Положение становилось критическим. Он еще раз попробовал догнать коляску кружным путем, но Колли не отставала от него. Вдруг он обернулся и, прибегнув к своему старому боевому приему, ударом плеча сбил овчарку с ног. Опрокинутая на полном бегу овчарка покатилась кубарем по земле, цепляясь когтями за гравий, чтобы удержаться, и громким лаем выражая свое возмущение и негодование.
Белый Клык не стал ждать. Дорога была свободна, а это было все, чего он добивался. Колли погналась за ним, продолжая лаять. Но теперь он имел возможность нестись по прямому направлению, а что касается бега, то тут Белый Клык мог кое-чему научить ее. Она бежала, как сумасшедшая, почти в истерике, напрягаясь изо всех сил, предупреждая о каждом прыжке негодующим лаем, а он летел перед ней бесшумно, легко, скользя по земле, точно дух.
Обогнув дом, он наткнулся у входа на коляску, из которой выходил его хозяин. Но в ту же минуту, еще на полном бегу, Белый Клык подвергся нападению с фланга. На него налетела охотничья собака. Он попробовал встретить ее грудью. Но он бежал слишком быстро, а собака была уже чересчур близко. Она толкнула его в бок, и Белый Клык от неожиданности, в силу инерции опрокинулся и покатился по земле. Он сейчас же поднялся на ноги. Вид у него был грозный; с прижатыми ушами, обнаженными клыками и сжатыми ноздрями он кинулся на врага и чуть было не прокусил ему горло.
Хозяин бросился к нему, но он находился далеко, и только вмешательство Колли спасло жизнь охотничьей собаке. В тот момент, как Белый Клык собирался нанести смертельный укус, Колли нагнала его. Ее одурачили, опередили, опрокинули на песок, и она примчалась, как ураган, оскорбленная, охваченная злобой и инстинктивной ненавистью к первобытному хищнику. Она налетела на Белого Клыка сбоку в ту минуту, когда он собирался прыгнуть, и, в свою очередь, сбила его с ног.
Тут подбежал хозяин и схватил Белого Клыка, пока отец его отзывал собак.
– Нечего сказать, теплый прием оказали здесь бедному одинокому северному волку, – сказал Скотт, стараясь ласковым поглаживанием успокоить Белого Клыка. – За всю свою жизнь он только один раз был сбит с ног, а тут его повалили два раза в какие-нибудь тридцать секунд.
Коляска тем временем отъехала, и из дома вышли новые боги. Некоторые из них держались почтительно, на расстоянии, но две женщины снова совершили враждебный акт, обвив своими руками шею хозяина. Белый Клык начинал привыкать к этому, так как видел, что хозяин его от этого не страдает, и в звуках, которые производили при этом боги, не было ничего угрожающего. Они сделали попытку приласкать и его, но он предупредил их рычанием, а хозяин сделал то же самое словами. В такие тревожные минуты Белый Клык прижимался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, гладя по голове.
Охотничий пес, получив приказание: “Дик, ложись!”, растянулся на ступеньках крыльца и продолжал рычать, злобно посматривая на незваного гостя. Одна из женщин занялась Колли, обнимая и лаская ее, но собака продолжала визжать и выражала беспокойство; она была оскорблена присутствием волка и убеждена, что боги делают большую ошибку, допуская его в дом.
Когда боги начали подниматься по ступенькам крыльца, Белый Клык пошел по пятам своего хозяина. Дик на террасе заворчал, а Белый Клык ответил ему тем же.
– Возьми Колли в дом и оставь обоих псов снаружи, – посоветовал Скотт-отец. – Они подерутся, а потом станут лучшими друзьями.
– В таком случае Белому Клыку придется в знак своей дружбы быть первым лицом на похоронах Дика, – засмеялся хозяин.
Скотт-отец недоверчиво посмотрел на Белого Клыка, затем на Дика и, наконец, на своего сына.
– Ты хочешь сказать, что…
Видон кивнул головой:
– Я хочу сказать, что Дик был бы мертв через минуту, самое большее через две, – он обернулся к Белому Клыку: – Идем, волк. Нам придется держать тебя в доме.
Белый Клык поднялся по ступенькам, распушив хвост и не спуская глаз с Дика на случай новой атаки. В то же время он готовился достойно встретить всевозможные проявления неизвестного, которые могли ожидать его там, внутри этого дома. Но все было спокойно, и как он ни оглядывался, войдя в дом, ничего угрожающего не нашел там. Тогда со вздохом облегчения он улегся у ног хозяина, следя за всем происходящим, каждую минуту готовый вскочить на ноги и защитить свою жизнь от тех ужасов, которые, казалось ему, должны были скрываться под крышей-капканом этого спокойного жилища.
Глава III. Владения бога
Белый Клык был от природы наделен большой гибкостью, а кроме того, он много путешествовал и понимал, как важно уметь приноравливаться к обстоятельствам. В Сиерра Виста (так называлось имение судьи Скотта) Белый Клык скоро почувствовал себя как дома. Столкновения с собаками прекратились. Они прекрасно знали нравы и обычаи южных богов, и, видя, что Белого Клыка впускают в дом, они перестали смотреть на него как на врага. Правда, это был волк, но раз боги допускали его присутствие, то им, как собакам этих богов, не оставалось ничего другого, как подчиниться воле своих хозяев.
Дик после нескольких формальностей совершенно примирился с присутствием Белого Клыка, и, если бы это зависело от него, охотно подружился бы с ним, но Белый Клык не признавал дружбы с собаками. Он требовал от них только одного: чтобы они не приставали к нему. Всю свою жизнь он держался в стороне от них и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Заигрывания Дика докучали ему, и он отвергал их рычанием. На Севере он усвоил себе правило не задирать собак своего хозяина и свято продолжал блюсти его. Но он упорно оберегал свое одиночество и настолько игнорировал Дика, что этот добродушный пес в конце концов оставил его в покое и совершенно перестал им интересоваться.
Не так относилась к нему Колли. Повинуясь воле богов, она примирилась с его присутствием, но отнюдь не желала оставлять его в покое. В памяти ее ярко жили бесконечные преступления, совершенные волками по отношению к ее предкам. Этого нельзя было забыть в один день. Все это побуждало ее мстить ему. Она не могла нападать на него в присутствии хозяев, но это не мешало ей отравлять ему жизнь всякими другими способами. Их разделяла вековая вражда, и она постоянно напоминала ему об этом.
Итак, Колли, пользуясь преимуществами своего пола, обижала его. Его инстинкт не позволял ему трогать суку, а ее настойчивость побуждала ее постоянно теребить его. Когда она бросалась на него, он подставлял ей покрытое густой шерстью плечо и с достоинством удалялся. Если она слишком наседала на него, он уходил от нее, описывая круги, подставлял ей плечо и отворачивал голову, глядя перед собой терпеливым скучающим взглядом. Случалось иногда, что укус в заднюю ногу заставлял его искать спасения в позорном бегстве. Но в общем ему почти всегда удавалось с честью выйти из неприятного положения. По возможности он игнорировал ее присутствие и старался избегать встречи с ней. Завидя ее, он поднимался и уходил.
Белому Клыку приходилось, кроме того, учиться еще многому другому. Жизнь на Севере была необыкновенно примитивна по сравнению со сложной жизнью на Сиерра Виста. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Отчасти он был подготовлен к этому. Подобно тому, как Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру и делили с ним пищу и кров, точно так же и в Сиерра Виста все домочадцы принадлежали любимому хозяину. Но между теми и другими существовала разница, и разница большая. Сиерра Виста была куда обширнее палатки Серого Бобра. И здесь было гораздо больше народу. Тут были судья Скотт и его жена, две сестры хозяина, Бэт и Мэри, его жена Алиса и двое детей, Видон и Мод, четырех и шести лет. Не было никакой возможности объяснить Белому Клыку степени родства, связывавшего всех этих лиц, да он и вообще не имел о родстве никакого понятия. Но все же он быстро сообразил, что все они принадлежали хозяину. Путем наблюдения, изучая при каждом удобном случае их поступки и слова, а также по интонации их голосов он постепенно научился отличать, кто из них ближе всего сердцу хозяина. И по этому признаку Белый Клык установил свое отношение к ним. То, что ценил хозяин, ценил и он; то, что любил хозяин, становилось предметом его особой заботливости.
Это относилось, главным образом, к обоим детям. Всю свою жизнь он не любил детей. Он ненавидел и боялся их рук, которые причиняли ему немало страданий в те дни, когда он жил среди индейцев. Когда Видон и Мод впервые подошли к нему, он встретил их злобным ворчанием. Шлепок и резкий окрик хозяина заставили его вынести ласки детей, но все же он не переставал ворчать под прикосновением крошечных рук, и в голосе его не слышалось мурлыкающих нот.
Позже он понял, что мальчик и девочка представляли большую ценность для хозяина, и уже не требовалось ни шлепка, ни резкого окрика, чтобы он позволил им гладить себя.
Однако Белый Клык никогда шумно не проявлял своей привязанности. Он покорился детям хозяина и научился переносить их ласки, как переносят болезненную операцию. Когда это становилось ему невмоготу, он вставал и уходил. Позднее он даже полюбил детей, но продолжал относиться к ним с той же сдержанностью. Он не бросался к ним навстречу, а ждал, чтобы они подошли к нему. С течением времени в его глазах даже стала проявляться радость при их приближении и сожаление, когда они покидали его ради других развлечений.
Развитие его совершалось постепенно и потребовало немало времени. Следующее место в сердце Белого Клыка занимал судья Скотт и, вероятно, по двум причинам. Во-первых, его очень ценил хозяин, а во-вторых, он был крайне сдержанным человеком. Белый Клык любил лежать, растянувшись у его ног на крыльце, в то время когда тот читал газеты и изредка награждал волка ласковым взглядом или словом, как бы давая этим понять, что он не забыл о его существовании. Но все это имело для него значение только в отсутствие хозяина. С появлением Видона весь мир переставал существовать для волка.
Белый Клык позволял всем членам семьи баловать и ласкать себя, но никогда не относился к ним так, как к хозяину. Никакая ласка с их стороны не могла вызвать нежного мурлыканья в его горле, и как они ни старались, никому не удалось убедить его прижаться к нему головой. Это выражение абсолютного доверия и преданности он берег только для любимого хозяина. В сущности, он смотрел на всех остальных членов семьи исключительно как на собственность своего бога.
Белый Клык очень быстро научился отличать членов семьи от домашней челяди. Слуги боялись его, хотя он никогда не нападал на них, считая, что они тоже принадлежат хозяину. Между обеими сторонами установились нейтральные отношения. Они стряпали для хозяина, мыли грязную посуду и делали все то, что в Клондайке делал Мат; словом, они принадлежали дому.
Но и вне дома Белому Клыку пришлось многому научиться. Владения бога были очень обширны, но все же они имели границы, за которыми начиналась общая собственность богов – дороги и улицы. Места, огороженные заборами, составляли владения других богов. Все это управлялось множеством законов и, не зная языка богов, Белый Клык мог усвоить их только на опыте. Он повиновался своим природным инстинктам до тех пор, пока они не заставляли его нарушить какой-либо из законов. После того, как это повторялось несколько раз, он запоминал закон и действовал согласно ему.
Однако ничто так сильно не влияло на него, как шлепки и укоризненные слова хозяина; шлепок, который давал ему хозяин, значил для него больше, чем все побои, полученные им когда-либо от Серого Бобра или Красавчика Смита. Те уязвляли только его тело, дух же его под внешней оболочкой оставался свободным и непобедимым. Удары хозяина были слишком слабы, чтобы причинить боль, но они действовали глубже. Они показывали, что хозяин недоволен им, и от этого страдала его душа.
Вообще же шлепки были очень редки; достаточно было одного слова хозяина, и Белый Клык тотчас же улавливал по звуку его голоса, поступил ли он хорошо или дурно. К нему он приноравливал свое поведение и по нему соразмерял свои действия. Это был его компас, по которому он учился ориентироваться в чужой стране. На Севере единственным домашним животным была собака. Все остальные звери жили в лесу и были законной добычей каждой собаки. Всю свою жизнь Белый Клык добывал себе пропитание среди живых существ, обитающих в лесу. Он не представлял себе, что на Юге дело обстоит иначе. В этом ему пришлось скоро убедиться в долине Санта-Клара.
Прогуливаясь как-то рано утром около дома, он наткнулся на цыпленка, убежавшего из курятника. Естественным побуждением Белого Клыка было съесть его. Быстрый прыжок, щелканье зубов, отчаянный писк – и несчастный птенец исчез в его пасти. Цыпленок был откормленный и нежный, и Белый Клык, облизывая губы, решил, что это недурное блюдо.
Несколько позже в тот же день он опять встретил цыпленка около конюшни. Один из конюхов бросился на выручку. Он не знал характера Белого Клыка и для защиты вооружился легким хлыстом. При первом ударе хлыста Белый Клык оставил цыпленка и бросился на человека. Дубина могла остановить Белого Клыка, но не хлыст. Спокойно, не увертываясь, принял он второй удар кнута и сделал прыжок, намереваясь вцепиться нападавшему в горло. Конюх успел только крикнуть: “Помогите!” и, выронив кнут, защитил свое горло руками. В результате кисть руки оказалась у него прокушенной до кости.
Конюх страшно испугался: не столько подействовала на него свирепость Белого Клыка, сколько неожиданность, с которой тот напал на него. Продолжая закрывать свое горло раненой и окровавленной рукой, он поспешно отступил к сараю. Но ему пришлось бы плохо, не появись тут на сцену Колли. Так же как она спасла Дика, она спасла и конюха, бросившись на Белого Клыка с бешеной злобой. Она была права и не обманулась, как эти наивные боги. Все подозрения ее оправдались: Белый Клык был хищником. Знает она эту волчью повадку!
Конюх скрылся в конюшне, а Белый Клык отступил перед острыми зубами Колли, подставляя ей плечо и описывая круг за кругом. Но Колли не оставляла его в покое, как она это делала обычно; наоборот, с каждой минутой злоба ее росла, и Белый Клык, забыв всякую гордость, убежал от нее прямо в поле.
– Он научится не трогать цыплят, – заявил хозяин, – но я не могу дать ему урок, пока не поймаю его на месте преступления.
Два дня спустя преступление повторилось, но в более грандиозном масштабе, чем ожидал этого хозяин. Белый Клык тщательно наблюдал за курятником и внимательно изучал привычки цыплят. Ночью, когда цыплята уселись на насест, он влез на кучу незадолго перед тем сложенных дров и, пробравшись оттуда на крышу курятника, спустился по желобу на землю. Через минуту он очутился в самом курятнике и началась бойня.
Наутро, когда хозяин встал и вышел на крыльцо, ему бросились в глаза пятьдесят белых итальянских кур, уложенных конюхом в ряд. Видон Скотт свистнул сначала от удивления, а затем от невольного восхищения. В глазах смотревшего на него Белого Клыка не было и тени стыда или раскаяния. Он держал себя гордо, как будто совершил что-то достойное похвалы. Он не чувствовал своей вины. Губы хозяина сжались при мысли о предстоящей расправе. Затем он резко заговорил с без вины виноватым, и в голосе его слышен был гнев. Кроме того, он ткнул Белого Клыка носом в убитых кур и несколько раз сильно ударил его.
Белый Клык больше никогда не делал набегов на курятники. Это было запрещено, и он понял это. Спустя некоторое время хозяин взял его с собой на птичий двор. Первым естественным побуждением его при виде живой дичи, бегающей перед самым носом, было броситься и схватить ее. Он чуть было не послушался этого побуждения, но голос хозяина удержал его. Они оставались там более получаса, в течение которого его несколько раз охватывало желание повиноваться своему хищному инстинкту, но тот же голос хозяина удерживал его.
Так он познал этот закон, и прежде чем они вышли из куриного царства, волк понял, что ему надо забыть о самом существовании кур.
– Никогда не удастся исправить хищника, – сказал за завтраком судья Скотт, покачивая головой. Это было ответом на рассказ сына о том, какой урок он дал только что Белому Клыку. – Раз он отведал уже вкус крови… – И судья снова покачал головой.
Но Видон Скотт не соглашался с отцом:
– Вот что я сделаю, – сказал он наконец, – я запру Белого Клыка на целый день на птичьем дворе.
– Подумай о бедных цыплятах! – возразил отец.
– Мало того, – продолжал сын, – за каждую убитую им курицу я заплачу вам по доллару штрафа.
– Но, папа, и ты должен заплатить штраф, если ты проиграешь, – заметила Бэт.
Мэри и все сидевшие за столом поддержали ее. Судья Скотт кивнул головой в знак согласия.
– Хорошо!
Видон Скотт на минуту задумался.
– А если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного цыпленка, то за каждые десять минут, проведенные им в птичнике, вы скажете ему, папа, с самым серьезным видом, как будто вы сидите в суде: “Белый Клык, ты лучше, чем я о тебе думал”.
Спрятавшись по углам, семья стала следить за представлением. Но их ожидало разочарование. Убедившись, что хозяин запер его в птичнике и покинул там, Белый Клык улегся и заснул; раз только он проснулся и подошел к корыту напиться воды. На цыплят он не обращал внимания; для него они перестали существовать. В четыре часа он с разбега вскочил на крышу курятника и, спустившись с наружной стороны, важно направился к дому. Он твердо заучил закон. А на террасе в присутствии восхищенной семьи судья Скотт, глядя прямо в глаза Белому Клыку, торжественно повторил шестнадцать раз:
– Белый Клык, ты лучше, чем я о тебе думал.
Белого Клыка сильно смущало бесчисленное множество законов, незнание которых часто навлекало на него кару. Ему пришлось также заучить, что он не должен трогать цыплят чужих богов. Кроме того, были еще кошки, кролики и индюки; им тоже не следовало причинять вреда. Позади усадьбы, на пастбище, перепел мог безнаказанно выпорхнуть из-под самого его носа. Белый Клык, весь напряженный, дрожа от желания, подавлял свой инстинкт и останавливался как вкопанный. Он повиновался воле богов.
Но однажды на том же пастбище он увидел, как Дик гонялся за кроликом. Сам хозяин присутствовал при этом и не мешал ему. Наоборот, он даже стал подзадоривать Белого Клыка принять участие в охоте. И таким образом Белый Клык узнал, что охота на дикого кролика не запрещается. В конце концов он постиг все законы. Между ним и домашними животными не должно быть вражды. Если дружба невозможна, то вместо нее лучше всего установить нейтральные отношения. Но другие животные – белки, кролики и перепела – были дикими животными, никогда не изъявлявшими покорности человеку. Они являлись законной добычей собак. Боги защищали только домашних животных, не позволяя им враждовать между собой; они оставляли за собой право жизни и смерти над своими подданными и ревниво оберегали это право.
После простоты Севера жизнь в долине Санта-Клара казалась очень сложной. Эта полная хитросплетений цивилизованная жизнь требовала прежде всего величайшего самообладания и сдержанности – нужно было в одно и то же время быть деликатнее летающей в воздухе паутины и тверже стали. Жизнь представлялась Белому Клыку тысячеликой, и он считал, что должен познакомиться с каждым из этих ликов в отдельности. Особенно ярко он чувствовал это, когда бывал в городке Сан-Хосе. Там ему приходилось бежать за коляской или просто валандаться на улице, когда коляска останавливалась; жизнь тем временем проносилась мимо него, широкая и разнообразная; она постоянно действовала на его чувства, и на каждом шагу требовалось умение приспособляться и почти всегда подавлять свои инстинкты.
Тут были мясные лавки, где висели туши мяса, но это мясо нельзя было трогать. В домах, где бывал хозяин, жили кошки, которых запрещалось задевать. И повсюду встречались собаки, рычавшие на него, а он не смел нападать на них. В довершение всего по тротуарам ходило множество людей, обращавших на него внимание. Они останавливались и глазели, указывая на него друг другу пальцами, и, что было хуже всего, гладили его по голове и спине. А он должен был выносить эти ненавистные прикосновения. Однако в конце концов он привык к ним и даже сумел преодолеть в себе неловкость и напряженность, которые неизменно вызывали в нем эти ласки. С высокомерным снисходительным видом принимал он знаки внимания, оказываемые ему чужими богами. С другой стороны, в нем было что-то, не допускавшее фамильярности. Погладив его по голове, люди спешили отойти, сами дивясь своей смелости.
Но не все давалось легко Белому Клыку. Следуя за коляской по окраинам Сан-Хосе, он неизменно встречался с мальчишками, которые бросали в него камни. Всякий раз его охватывало большое искушение, но он твердо помнил, что не имеет права поймать и наказать их. Ему приходилось подавлять в себе в этом случае инстинкт самосохранения; с каждым днем он становился более ручным и приноравливался к требованиям цивилизации.
Тем не менее Белый Клык был не совсем доволен этими порядками. У него не было отвлеченных понятий о праве. Но в самой жизни заложено понятие справедливости, и он считал, что несправедливо запрещать ему защищаться от мальчишек, бросавших в него камнями. В эту минуту он забывал, что в условия договора, заключенного им с богами, входила обязанность последних заботиться о нем и защищать его. Но в один прекрасный день хозяин выскочил из экипажа с кнутом в руках и хорошенько отодрал мальчишек, после чего они уже не бросали в него больше камни, и Белый Клык остался этим вполне удовлетворен.
Ему еще раз пришлось испытать нечто в этом роде. По дороге в город, на перекрестке около трактира, постоянно сидели три собаки, тотчас же бросавшиеся на него, как только он появлялся. Зная его смертоносные приемы борьбы, хозяин неоднократно внушал ему закон, запрещающий драться. В результате Белому Клыку приходилось делать над собой огромные усилия, чтобы спокойно миновать этот перекресток. После первой же атаки рычание Белого Клыка удерживало собак от дальнейших попыток в этом направлении, но они продолжали с лаем бежать за ним, задирая его и всячески досаждая. Так продолжалось некоторое время, причем люди, сидевшие в трактире, даже науськивали собак на Белого Клыка. В один прекрасный день они открыто натравили их на него. Хозяин остановил экипаж:
– Возьми их! – крикнул он Белому Клыку.
Но Белый Клык не верил своим ушам. Он посмотрел на хозяина, потом на собак. Затем еще раз – вопросительно и возбужденно – на хозяина. Хозяин кивнул головой:
– Возьми их, старина! Возьми!
Белый Клык не стал ждать. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Все три собаки бросились ему навстречу. Послышалось громкое ворчание, рычание и щелканье зубов. Поднявшееся на дороге облако пыли мешало наблюдать за борьбой. Но через несколько минут две собаки уже валялись на дороге, а третья спасалась бегством. Она перепрыгнула канаву, перескочила через забор и понеслась по полю. Белый Клык последовал за ней, скользя по земле быстро и бесшумно, по-волчьи, и, настигнув собаку посередине поля, убил ее.
Этим тройным убийством закончилось его столкновение с собаками. По всей долине распространился слух о его победе, и соседи сами стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к волку-бойцу.
Глава IV. Голос крови
Месяцы проходили за месяцами. На Юге было много пищи, работать совсем не приходилось, и Белый Клык жирел и блаженствовал. Для него это был не только Юг земного шара, но и юг жизни. Человеческая ласка сияла над ним, как золотой диск солнца, и он расцветал, точно посаженное на хорошую почву растение. И все же он отличался от остальных собак. Он знал законы лучше других собак, не знакомых с иной жизнью, и выполнял их в точности; но в нем все же сохранился какой-то намек на притаившуюся жестокость, как будто волк только дремал в нем.
Он никогда не вел дружбы с собаками. Одиноким прожил он свою жизнь и так же хотел жить дальше. Преследования Лип-Липа и всей своры, которым он подвергался в детстве, а позднее жизнь у Красавчика Смита вселили в него отвращение к собакам, и, отвернувшись от своих, он стал льнуть к людям.
Помимо того, все южные собаки относились к нему недоверчиво. При виде его в них просыпался враждебный страх перед хищником, и они встречали его рычанием и ненавистью. Он, в свою очередь, скоро понял, что ему незачем пускать в ход против них свои зубы: ему достаточно было сморщить нос и показать клыки, чтобы заставить съежиться любую собаку.
Но все же одно испытание жизнь послала Белому Клыку: это была Колли. Она не давала ему покоя. Она не так легко подчинялась закону, как он. Она отклоняла все попытки хозяина примирить ее с Белым Клыком, и у бедного волка постоянно звенело в ушах от ее резкого лая и нервного ворчания. Она не могла простить ему убийства цыплят и придерживалась того мнения, что он преисполнен пагубных намерений. Она считала его преступником и соответственно относилась к нему. Овчарка, словно полицейский, преследовала его по пятам – шел ли он в поле или к конюшням, и стоило ему взглянуть на голубя или цыпленка, как она тотчас же поднимала возмущенный лай. У Белого Клыка был излюбленный способ выражать ей свое презрение: он ложился, клал морду на передние лапы и притворялся спящим. Это всегда смущало ее и заставляло замолчать.
За исключением Колли, все остальное улыбалось Белому Клыку. Он изучил закон, научился владеть собой и приобрел спокойствие, степенность и снисходительность. Ему не приходилось больше жить во враждебной обстановке. Опасности, страдания и смерть не грозили ему. Время, когда страшное неизвестное вечно тяготело над ним, теперь миновало. Жизнь текла ровно и спокойно, и нигде на пути его не встречалось ни врагов, ни ужасов.
Ему недоставало снега. Если бы он мог рассуждать, он сказал бы, что лето, по его мнению, тянется слишком долго. В сильную летнюю жару, страдая от палящего солнца, он скучал по Северу, но, не умея отдать себе отчет в причинах этой скуки, бродил, не находя себе места.
Белый Клык никогда не умел ярко высказывать свои чувства. Ласковое мурлыканье в ворчании и привычка прижиматься головой к хозяину – вот единственные приемы, которыми он выражал ему свою любовь. Однако вскоре ему удалось найти еще один способ.
Он всегда был чувствителен к человеческому смеху. Смех доводил его до бешенства. Но он не мог сердиться на любимого хозяина, и когда тот иногда весело и добродушно смеялся над ним, он приходил в полное замешательство. Он чувствовал, как в нем поднималось прежнее озлобление, но оно тотчас же встречало противодействие в чувстве любви. Нет, злиться он не мог, но все-таки надо было что-нибудь делать. Сначала он попробовал напускать на себя важность, но это только сильнее смешило хозяина, и чем напыщеннее он становился, тем громче звучал смех бога.
Наконец однажды веселость хозяина заразила Белого Клыка, челюсти его слегка разжались, губы чуть-чуть поднялись, и смешливое выражение, в котором было больше любви, чем юмора, появилось в его глазах. Он научился смеяться.
Таким же образом он научился возиться с хозяином, кувыркаться и кататься по полу, подвергаясь шуточным нападениям. В свою очередь он притворялся разъяренным, ерошил шерсть и сердито рычал, злобно щелкая зубами и выказывая самые злостные намерения. Но он никогда не забывался. Зубы его всегда щелкали в воздухе. В конце такой возни, когда шлепки, рычание и щелканье зубов достигали особенного ожесточения, оба внезапно останавливались на расстоянии нескольких шагов друг от друга и обменивались взглядом. И вдруг, так же неожиданно, как солнце над бурным морем, они начинали смеяться. Все это обыкновенно кончалось тем, что хозяин обнимал шею Белого Клыка, а тот в ответ мурлыкал ему свою песнь любви.
Но никто другой не смел возиться с Белым Клыком; он не допускал этого. Он оберегал свое достоинство, и стоило кому-нибудь сделать такую попытку, как его рычание и взъерошенная шерсть тотчас же изгоняли всякую мысль о добродушной возне. Если он разрешал всевозможные вольности своему хозяину, то это отнюдь не значило, что он, наподобие простой собаки, способен расточать свою любовь всем и каждому: он отдал свое сердце целиком одному человеку и не желал разменивать ни себя, ни своей любви.
Хозяин часто ездил верхом, и сопровождать его в этих поездках было одной из главных обязанностей Белого Клыка. На Севере он мог доказать свою верность, работая в хомуте; здесь, на Юге, не было нарт, и собаки не таскали тяжестей. Поэтому Белый Клык доказывал свою верность тем, что неотступно следовал за лошадью хозяина. Самая продолжительная прогулка никогда не утомляла его. Он обладал волчьей, легкой, бесшумной, ровной походкой и после пятидесятиверстной прогулки бодро являлся домой впереди лошади.
Верховая езда дала Белому Клыку повод проявить новый талант, и этот талант был замечателен тем, что он проявил его только дважды в жизни. В первый раз это случилось при следующих обстоятельствах. Однажды хозяин пытался приучить горячую чистокровную лошадь открывать и закрывать ворота без того, чтобы всадник слезал с седла. Несколько раз он подъезжал к воротам, стараясь заставить лошадь закрыть их, и каждый раз она пугалась и пятилась назад. Когда же он вонзал в нее шпоры, она падала на передние ноги и начинала усиленно лягаться. Белый Клык с волнением следил за происходившим, но наконец потерял терпение и, кинувшись к голове лошади, громко залаял.
Хотя впоследствии он часто пытался лаять и хозяин поощрял его в этом, удалось ему это еще только раз, и то в отсутствие хозяина. Бешеная скачка хозяина верхом по полю, неожиданно выскочивший из-под ног заяц, испуг и падение лошади вместе с хозяином и полученный последним перелом ноги послужили поводом к этому. Белый Клык бросился было в порыве яростной злобы к горлу лошади, но голос хозяина остановил его.
– Домой, иди домой! – приказал он ему, осмотрев свою ногу. Но Белый Клык не имел намерения покидать его. Хозяин хотел написать записку, но при нем не оказалось ни карандаша, ни бумаги. Он снова приказал Белому Клыку идти домой.
Тот посмотрел на него разумным взглядом, отошел на несколько шагов и вернулся, тихо визжа. Хозяин заговорил с ним ласково, но серьезно, и он, насторожив уши, мучительно старался понять, что от него требуется.
– Не беспокойся, дружище, – говорил бог, – беги домой и расскажи там, что со мной случилось. Домой! Волк, домой!
Белый Клык понимал слово “домой”, и хотя смысл остальной речи хозяина остался ему непонятен, он сообразил, что хозяин желает, чтобы он шел домой. Он повернулся и неохотно побежал, затем снова нерешительно остановился и оглянулся.
– Иди домой! – раздалось резкое приказание, и на этот раз он повиновался.
Вся семья сидела на террасе, наслаждаясь вечерней прохладой, когда прибежал запыхавшийся и весь покрытый пылью Белый Клык.
– Видон вернулся, – заявила мать.
Дети встретили Белого Клыка радостными криками и бросились к нему навстречу. Ускользнув от них, он вскочил на террасу, но тут они снова поймали его, загородив ему дорогу стулом. Он зарычал, стараясь пройти. Мать с беспокойством посмотрела в ту сторону.
– Признаюсь, я всегда нервничаю, когда он около детей, – сказала она, – я боюсь, что в один прекрасный день он неожиданно бросится на них.
Злобно зарычав, Белый Клык выскочил из засады, опрокинув мальчика и девочку. Мать позвала их и стала утешать, уговаривая не трогать Белого Клыка.
– Волк всегда останется волком, – заметил судья Скотт, – и доверять ему нельзя.
– Но он не совсем волк, – возразила Бэт, защищая любимца своего брата.
– Это личное мнение Видона, – ответил судья. – Он только предполагает, что в Белом Клыке есть частица собачьей крови, но сам признается, что наверняка он этого не знает. Что же касается его внешнего вида…
Он не успел окончить своей фразы. Белый Клык остановился перед ним, свирепо рыча.
– Убирайся! Извольте лечь, сэр! – приказал судья Скотт.
Белый Клык подошел к жене любимого хозяина. Она вскрикнула от испуга, когда он схватил ее зубами за платье и стал дергать его, пока тонкая материя не разорвалась. К этому времени он успел привлечь к себе всеобщее внимание. Он перестал рычать и стоял, подняв голову и глядя всем в глаза. Горло его судорожно сжималось, не издавая ни звука; он дрожал всем телом от усилий выразить то, что наполняло все его существо.
– Я надеюсь, что он не собирается взбеситься, – сказала мать Видона, – я уже говорила Видону, что боюсь, как бы жаркий климат не оказал вредного влияния на обитателя Севера.
– Уверяю вас, что он старается заговорить, – вдруг объявила Бэт.
В ту же минуту Белый Клык, как бы обретя дар речи, вдруг громко залаял.
– Что-то случилось с Видоном, – решительно заявила его жена.
Все разом поднялись, а Белый Клык сбежал с крыльца, оборачиваясь на бегу, чтобы удостовериться, что за ним следуют. Во второй и последний раз в жизни он залаял, и его поняли.
После этого случая все жители Сиерра Виста стали относиться к Белому Клыку с гораздо большей симпатией, и даже конюх, которому он прокусил руку, уверял, что он очень умный пес, хотя и волчьей породы. Судья Скотт придерживался того же мнения и доказывал ко всеобщему неудовольствию, что Белый Клык несомненно чистокровный волк, подкрепляя свою мысль измерениями и описаниями, которые он черпал из энциклопедических словарей и книг по естественной истории.
Время шло, а солнце продолжало согревать своими лучами долину Санта-Клара. Но когда дни стали короче и началась вторая зима, Белый Клык сделал странное открытие. Зубы Колли стали менее острыми. В ее игривых укусах чувствовалась какая-то мягкость, они перестали вызывать боль. Он забыл, что она отравляла ему жизнь, и когда она заигрывала с ним, он старался ответить ей тем же, что делало его только смешным.
В один прекрасный день, гоняясь за Белым Клыком по пастбищу, она завлекла его до самого леса. Это было в тот самый час, когда его хозяин собирался ехать верхом. И Белый Клык знал об этом. Оседланная лошадь стояла у крыльца. Белый Клык остановился в нерешительности. Но вдруг его охватило нечто более сильное, чем все выученные им законы и все усвоенные привычки, это нечто оказалось даже сильнее любви к хозяину, сильнее склонности к одиночеству, и когда, в момент его нерешительности, Колли ущипнула его и отбежала, он повернулся и последовал за ней. В этот день хозяин его катался один. А в лесу рядышком бежали Белый Клык и Колли, как много лет назад мать его Кича бежала со старым Одноглазом по молчаливому северному лесу.
Глава V. Дремлющий волк
Приблизительно в описываемое нами время все газеты были полны подробностей о смелом побеге преступника из Сан-Квентинской тюрьмы. Это был ужасный человек. Он родился чудовищем, а общество не позаботилось о том, чтобы исправить его. У общества тяжелая, грубая рука, и этот человек мог служить прекрасным доказательством этого. Это был зверь в образе человека, и такой страшный, что его справедливее было бы причислить к хищникам.
В тюрьме он оказался неисправим. Никакими наказаниями нельзя было сломить его злую волю. Он готов был скорее умереть, борясь до последнего вздоха, чем жить, подвергаясь побоям. Чем свирепее он становился, тем более жестоко поступало с ним общество, а это еще больше увеличивало его свирепость. Смирительная рубашка и побои были неподходящими средствами для исправления Джима Холла, но именно это обращение применялось к нему всегда, начиная с того времени, когда он еще маленьким мальчиком слонялся на окраинах Сан-Франциско и представлял собою мягкую глину, которой окружающая его среда могла придать любую форму.
Во время третьего своего заключения Джим Холл столкнулся с надзирателем, который был почти таким же зверем, как и он. Надзиратель обращался с ним бесчеловечно, донимал начальство ложными доносами на него и постоянно его преследовал. Разница между ними заключалась в том, что у надзирателя была связка ключей и револьвер, а у Джима Холла – только руки и зубы. Однажды он бросился на надзирателя и вцепился в его горло зубами, как хищный зверь.
После этого Джима поместили в отделение для неисправимых. Он оставался там три года. Пол, стены и потолок камеры были железные. Он никогда не покидал камеры, не видел неба и солнечного света. День был для него сумерками, а ночь – черной тишиной. Он был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не слышал человеческого голоса. Когда ему просовывали пищу в окошечко камеры, он рычал, как зверь. Он ненавидел весь мир. Обычно он целыми сутками изрыгал в проклятиях свою злобу ко всей вселенной, но иногда неделями и месяцами не издавал ни звука, прислушиваясь к тому, как тишина въедалась в его душу. Это было страшилище, которое может представиться только больному воображению.
И вдруг ночью он убежал. Начальство тюрьмы отказывалось верить этому; однако камера его была пуста, и на пороге ее лежало тело убитого надзирателя. Путь беглеца по тюрьме был отмечен еще двумя мертвыми телами сторожей, которых он, во избежание шума, задушил руками.
Он снял оружие с убитых им надзирателей и, вооруженный с головы до ног, бежал в горы. Голова его была оценена очень высоко, и жадные фермеры вышли на него с ружьями, потому что ценой его крови можно было освободить землю от залога или послать сына в университет. Добровольцы из городских жителей присоединились к ним. По окровавленным следам его бежала, таким образом, целая свора. А кроме того, за ним гнались кровавые псы, которых общество содержало для своей защиты, – полицейские и детективы. К их услугам был весь аппарат власти – телеграф, телефон и специальные поезда.
Иногда они сталкивались с ним и дрались или удирали от него через затянутые колючей проволокой изгороди – и то и другое к удовольствию людей, читавших отчеты об этом в утренних газетах. Раненые и убитые, доставлявшиеся в город после таких столкновений, сменялись новыми любителями охоты на человека.
Но вдруг Джим Холл пропал, точно в воду канул. Сыщики тщетно старались напасть на его след. Вооруженные люди задерживали безобидных фермеров, и тем приходилось потом доказывать, кто они такие, а люди, желавшие во что бы то ни стало получить кровавую премию, несколько раз находили тело Джима Холла.
В Сиерра Виста газеты читались скорее с беспокойством, чем с интересом. Женщины были напуганы. Судья Скотт подсмеивался над ними, но напрасно, так как Джим Холл сидел на скамье подсудимых как раз в последние дни службы Скотта и был приговорен именно им. А Джим Холл во всеуслышание поклялся в зале суда, что настанет день, когда он отомстит судье, приговорившему его.
На сей раз Джим Холл был прав. Он был неповинен в том преступлении, за которое его теперь осудили. Это был “оговор”. Он был оговорен и посажен в тюрьму за преступление, которого он не совершил. Приняв во внимание его прежнюю двукратную судимость, судья Скотт осудил его и на этот раз: он приговорил его на пятьдесят лет.
Судья Скотт не мог знать всех обстоятельств и не подозревал, что он невольно принимал участие в полицейской интриге, что свидетелями обвинения были подставные лица и что Джим Холл был невиновен в приписываемом ему преступлении. А Джим Холл не знал, что судья Скотт не был посвящен в эту тайну. Он думал, что тот действовал заодно с полицией, когда совершалась эта чудовищная несправедливость. И вот, когда судья Скотт приговорил его к пятидесяти годам тюремного заключения, Джим Холл, полный ненависти к несправедливо отвергшему его обществу, стал так неистовствовать, что потребовалась помощь нескольких полисменов, чтобы успокоить его. Судья Скотт был для него воплощением несправедливости, и на судью он излил все проклятия и угрозы своей будущей мести. Затем он отправился в свою живую могилу… и исчез из нее.
Обо всем этом Белый Клык не имел ни малейшего представления. Но между ним и Алисой, женой хозяина, существовала тайна. Каждую ночь, после того как все в Сиерра Виста ложились спать, она вставала и впускала Белого Клыка в огромную переднюю. Белый Клык не был комнатной собакой, и ему не разрешалось ночевать в доме, а потому рано утром, пока все еще спали, она приходила и выпускала его во двор.
Однажды, в тихую ночь, когда все спали, Белый Клык проснулся и остался спокойно лежать. Медленно втянув воздух, он почувствовал чужого бога. До ушей его долетал шум от движений этого бога. Белый Клык не издал злобного рычания. Это было не в его привычке. Чужой бог двигался бесшумно, но Белый Клык следовал за ним еще бесшумнее; ведь на нем не было одежды, трение которой о тело могло производить шорох. Он шел совершенно тихо. В лесах, где он охотился за пугливой дичью, он изучил все преимущества неожиданного нападения.
Чужой бог остановился у самой лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер в ожидании. Лестница эта вела к любимому хозяину и к самым дорогим его сердцу существам. Белый Клык ощетинился и ждал. Нога чужого бога поднялась, и он начал взбираться по лестнице.
И тут Белый Клык бросился на него, без рычания и без предупреждения. Сильным прыжком он отделился от земли и вскочил на спину чужому богу: упираясь передними ногами в его плечи, он в то же время вцепился зубами в его затылок. Он провисел на нем с минуту и успел оттащить его назад, после чего оба с грохотом покатились на пол. Белый Клык отскочил, но когда чужой бог попробовал встать, он опять бросился на него. Вся Сиерра Виста проснулась в ужасе. Судя по шуму, доносившемуся снизу, можно было предположить, что дерется, по меньшей мере, несколько десятков чертей. Послышались револьверные выстрелы, раздался раздирающий душу человеческий крик, бешеное рычание, треск сломанной мебели и звон разбитого стекла.
Потом все стихло. Борьба продолжалась не более трех минут. Наверху лестницы столпились все обитатели дома. Снизу, как из темной пропасти, доносилось странное бульканье, напоминавшее звук лопающихся на поверхности воды пузырей воздуха. Иногда это бульканье сменялось шипением, но вскоре и оно смолкло. Никакого шума не доходило больше из темноты, за исключением тяжелого дыхания какого-то существа, жадно ловившего воздух. Видон Скотт повернул выключатель, и яркий свет залил лестницу и переднюю. Затем он и судья Скотт с револьверами в руках осторожно спустились вниз. Но осторожность была уже излишней. Белый Клык сделал свое дело. Посреди обломков мебели, закрыв лицо рукой, лежал на боку человек. Видон Скотт наклонился над ним, отвел руку и повернул лицо к свету. Огромная рана на горле ясно говорила о том, как он был убит.
– Джим Холл, – сказал судья Скотт, и отец с сыном переглянулись.
Затем они подошли к Белому Клыку. Он тоже лежал на боку. Глаза его были закрыты, но он чуть-чуть приподнял веки, чтобы взглянуть на хозяина, когда тот наклонился к нему, и слегка пошевелил хвостом, тщетно стараясь помахать им. Видон Скотт погладил его, и из горла собаки вырвалось ласковое ворчание, но это было чуть слышное ворчание, которое скоро смолкло. Веки Белого Клыка закрылись, и тело вытянулось на полу.
– Кончается, бедняга, – пробормотал хозяин.
– Это мы еще посмотрим, – заявил судья, бросаясь к телефону.
– Откровенно говоря, на выздоровление у него один шанс против тысячи, – объявил хирург, провозившись над Белым Клыком добрых полтора часа.
Начинался рассвет, и от пробивавшейся в окно зари электрический свет потускнел. За исключением детей, вся семья была в сборе в ожидании приговора врача.
– Одна задняя лапа сломана, – говорил он. – Три ребра также, и одно из них пробило легкое. Очень сильная потеря крови. Весьма возможны внутренние повреждения. На него наверное вскочили ногами, я не говорю уже о трех огнестрельных ранах. Я был оптимистом, когда сказал, что на выздоровление есть один шанс против тысячи; один против десяти тысяч, так будет правильнее.
– Но мы должны сделать все, чтобы помочь ему использовать этот шанс! – воскликнул судья Скотт. – Не стесняйтесь с расходами. Используйте для него рентгеновские лучи, делайте что хотите. Видон, телеграфируй немедленно в Сан-Франциско доктору Никольсу; вы понимаете, я не хочу вас обидеть, но необходимо сделать все.
Хирург снисходительно улыбнулся.
– Разумеется, я понимаю. Он заслуживает самых тщательных забот. Он вполне достоин того, чтобы за ним ухаживали, как за больным ребенком. И не забывайте того, что я вам сказал относительно температуры. Я зайду в десять часов.
За Белым Клыком установили прекрасный уход. Предложение судьи нанять для него сиделку было с негодованием отвергнуто сестрами Видона, взявшими на себя эту роль.
И Белый Клык выиграл у судьбы ставку, опираясь на единственный шанс против десяти тысяч, как выразился хирург.
Врач заблуждался вполне добросовестно. Всю свою жизнь он имел дело с изнеженными цивилизованными существами, потомками таких же изнеженных и цивилизованных поколений. По сравнению с Белым Клыком это были хрупкие слабые создания, не умевшие цепляться за жизнь. Белый Клык вышел прямо из пустыни, где все слабые погибают рано и где никому нет пощады. Ни отец, ни мать, ни все предыдущие поколения не знали слабости. Железное сложение и кипучая жажда жизни, за которую он цеплялся всеми своими физическими и духовными силами, – вот какое наследие получил Белый Клык.
Прикованный к одному месту и лишенный возможности двигаться из-за опутавших его повязок и бинтов, он провел несколько недель в непрерывном сне. В уме его проносился целый ряд картин прежней жизни на Севере. Все прошлое воскресло в его памяти. Ему казалось, что он снова живет в берлоге с Кичей, изъявляет покорность Серому Бобру и спасается от Липа-Липа и своры щенков.
Вот он бежит один по лесу, охотясь за дичью во время долгих месяцев голодовки; вот он несется впереди запряжки, погоняемой Мит-Са, и слышит голос Серого Бобра, кричащего: “Pa, Pa!”, когда в узком проходе запряжке приходится складываться наподобие веера. Вот он опять у Красавчика Смита, борется со всевозможными собаками. В такие минуты он визжал и ворчал, и окружающие понимали, что он видит тяжелые сны.
Но особенно настойчиво преследовал его один кошмар: стучащие и грохочущие чудовища – электрические трамваи, рев которых напоминал ему крик огромных рысей. Ему казалось, что он лежит в кустах, ожидая, когда спустится с дерева белка. И когда он кидался к ней, она превращалась в вагон электрического трамвая, грозный и жуткий, поднимавшийся над ним, как гора, со стуком и грохотом извергая снопы света. То же было и с коршуном, которого он заманивал из небесной синевы. Спускаясь к нему, он тоже превращался в вездесущий вагон трамвая. Или еще: он видел себя в клетке у Красавчика Смита. Кругом стояли люди, пришедшие поглядеть на борьбу. Он не спускал глаз с двери, ожидая появления противника. И вдруг на него снова надвигался трамвайный вагон. Это повторялось тысячи раз, и каждый раз этот кошмар одинаково пугал его.
Настал, наконец, день, когда все бинты и повязки были сняты. Это был радостный день для всех обитателей Сиерра Виста, собравшихся вокруг больного пса. Хозяин потрепал уши Белого Клыка, а тот ответил ему привычным ласковым ворчанием. Жена хозяина назвала его Святым Волком, и это имя с восторгом встречено было всеми женщинами.
Он попробовал было встать на ноги, но после нескольких неудачных попыток свалился от слабости. Он пролежал так долго, что мускулы его совсем утратили упругость. Он немного стыдился своей слабости, как будто считал, что наносит этим какой-то ущерб своим хозяевам. Вот почему, сделав героические усилия, он наконец поднялся на ноги, качаясь из стороны в сторону.
– Святой Волк! – в один голос воскликнули женщины.
Судья Скотт торжествующе взглянул на них.
– Вы сами подтверждаете мои слова. Я ни минуты не сомневался в этом. Никакая собака не могла бы сделать того, что сделал он. Он – волк.
– Святой Волк, – поправила его жена.
– Да, Святой Волк, – согласился судья, – и отныне я буду называть его так.
– Ему придется снова учиться ходить, – заметил хирург. – Пусть начнет сейчас же. Это не повредит ему. Выведите его во двор.
И Белый Клык вышел, как король, окруженный всеми обитателями Сиерра Виста. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, прилег отдохнуть.
Затем все шествие двинулось дальше. Понемногу мускулы Белого Клыка приобретали утраченную гибкость и силу, и кровь все энергичнее приливала к ним. Так дошли до конюшни: здесь лежала Колли, а вокруг нее резвились, нежась на солнце, несколько толстых щенков.
Белый Клык удивленно взглянул на них. Колли зарычала на него, и он остановился на почтительном расстоянии. Хозяин подтолкнул к нему носком сапога одного из ползавших щенят. Волк подозрительно ощетинился, но хозяин дал ему понять, что опасаться нечего. Колли, придерживаемая одной из женщин, ревниво глядела на Белого Клыка и рычала: она, в свою очередь, предупреждала, что страхи его не напрасны.
Щенок подполз к Белому Клыку. Тот насторожил уши и с любопытством взглянул на него. Затем носы их встретились, и он почувствовал на своей губе маленький тепленький язычок щенка. Белый Клык, сам не зная почему, вдруг высунул язык и лизнул морду щенка.
Крики одобрения богов и аплодисменты приветствовали это проявление отцовской нежности. Волк был изумлен и обвел их вопросительным взглядом. Но тут слабость снова одолела его, и он прилег на бок, склонив голову и по-прежнему наблюдая за щенком. Остальные щенки, к ужасу Колли, тоже подползли к нему, и он разрешил им влезть на себя и покувыркаться. Вначале, смущенный аплодисментами, он держался несколько напряженно и натянуто, как это бывало с ним раньше, но вскоре, под влиянием веселья щенков, резвившихся вокруг него, эта неловкость исчезла, и он продолжал лежать, с терпеливым видом полузакрыв глаза и греясь на солнце.
Иллюстратор Никольский Г.















