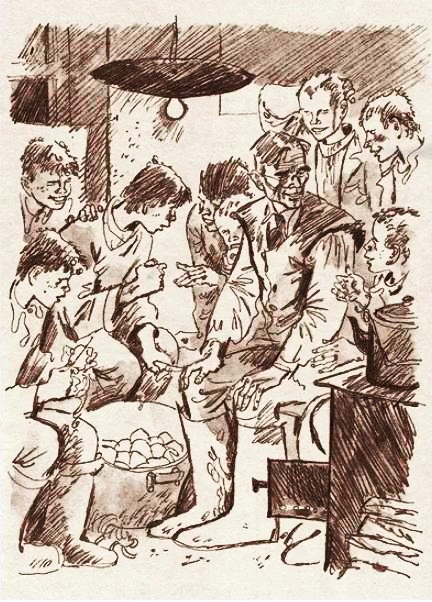
Глава 1
Ночью умер Гошка Воробьев.
Обнаружилось это не сразу, а после побудки. Но и побудка произошла не сразу. Сначала в мутных сумерках на стене зашуршал, как мышь под обоями, репродуктор, затем в нем прокашлялись, и лишь после этого диктор по фамилии Ширшун красивым голосом сказала: «Внимание!» — и замолкла. А все детдомовские ребятишки, и в четвертой комнате и в других, насторожили уши и спали уже вполглаза, ожидая, что скажет Ширшун, которая из-за мелодического голоса казалась не только ребятам, но и всем жителям города Краесветска женщиной молодой и очень красивой.
Ширшун еще пошуршала на стене, повторила снова:
«Внимание!» — и без обычной бодрости сонно сообщила, что сегодня пятница, а число восьмое апреля, а год одна тысяча девятьсот тридцать девятый. И дальше уже бодрее заговорила, проснулась, стало быть, окончательно. Про лесокомбинат говорила, много чего-то там перевыполнили и отличились какие-то рамщики и откатчики. Ребята слушали все без особого интереса, в проценты лесопилок не вникали. Они ждали сводку погоды. И дождались. В заключение утренней программы Ширшун весело так прочитала о том, что потепление, накатившее с юга, в ближайшие дни сохранится и, мало того, тронется дальше на север, и пока неизвестно, куда оно дойдет и что из этого получится. Ширшун и еще что-то там бормотала про погоду, цифры разные называла, прогнозы на ближайшее время, но ребята уже не слушали ее.
Они были удручены и раздосадованы. Вот зимою, бывало, совсем другое дело. Ширшун как скажет «минус сорок» — и сразу весь дом потрясет криком «ура!». Сорок — это значит в школу не идти. Это значит весь день можно ваньку валять, делать чего хочешь. А сейчас потепление…
Кому от этого польза? Да и потепление-то только на градуснике, а в комнате все равно хоть чертей морозь — выстыло.
Дежурные по детдому уже не раз грохали в дверь и кричали: «Подъем!» Но ребята, угревшиеся под одеялами, пытались еще минутку-другую побыть в сладкой сонной расслабленности. Наконец белоголовый Попик, дежурный четвертой комнаты в наступающем дне, храбро вскочил, поддернул трикотажные сиреневые исподники.
— У-ух, блин, и холодина! — передернулся он и, вложив два пальца в рот, пронзительно свистнул и заорал: — Кончай ночевать, шкеты! — Исподники тем временем сползли до колен. Попик изловил их и, напуская на себя гневность, проревел голосом офицера-беляка, недавно увиденного в кино: «Не подчиня-а-ааетесь, канальи!» — и принялся сбрасывать с парнишек одеяла.
Всколыхнулась четвертая комната, гвалт, шум, визг, хохот. От дежурного отбивались как могли, бросали в него подушками, учебниками, валенками. Но, смирясь с участью, вскакивали и, чтобы не быть в обиде, принимались помогать Попику, безжалостно зорили постельные гнезда, в которых еще подремывали и таились ребятишки.
С Толи Мазова сбросили одеяло, простыни, вытащили из-под него матрац и подушку — спит! На досках спит! Под матрацем оказалась толстая книжка «Капкан» Ефима Пермитина и еще одна книжка — «Человек-амфибия», со страшной картинкой на обложке. Когда все уснули, Толя включил свет и читал до позднего часа, если не до рассвета, эти где-то им раздобытые книжки. Случалось, он и по всей ночи не спал, на физзарядке потом запинался, дремал в столовой и во время уроков в школе. Большинство ребят, и особенно девчонок, вообще-то почтительно относились к книгочею.
Но подъем есть подъем! Раз всем вставать, значит, всем вставать!
Они сгребли Толю и посадили на холодный крашеный пол. Он на мгновение проснулся, сказал: «Задрыги!» — и скорчился на полу, подтянув колени к подбородку.
— Во, хмырь-богатырь! — поразился дежурный. — Волоки! Спиной по полу! Запор-р-рю каналью! — опять рявкнул Попик киношным голосом и приосанился даже. — Воды на него! Из графина!
— Велосипед поставить! — просунул голову в дверь житель соседней комнаты Паралитик. — Сразу вздыбает! А чего Воробей спит? Опять ему привилегия?!
И вдруг гвалт разом оборвался, будто отсекли его острым топором.
Попик сдернул одеяло с Гошки Воробьева.
Гошка лежал, затискав в кулаки простыню. Глаза его чуть приоткрыты, рот тоже. Лицо с тонкой и желтой кожей, сморщенное у рта и у глаз, было, как и при жизни, отчужденно. Все было как прежде, только вытянулись ноги, и сделалось особенно заметно, что сиреневое трикотажное белье не по Гошке. В белье этом можно было еще уместить одного мальчишку.
Попик попятился, молча бросил одеяло на старое лицо Гошки и ринулся в дверь. За ним дернули все остальные ребята. Застряв меж косяками, давнули кого-то, заорали и сорвали с крючка вторую створку двери. Толя Мазов тоже успел выскочить в коридор, но ничего со сна не понимал, крутил головою, у него мерзли ноги, он подпрыгивал на крашеном полу, студеном и гладком, как стекло.
Вопль шарахнул по детдому и разорвался во всех комнатах.
Еще ничего не зная, но чувствуя по крику, что произошло страшное, взвизгнули в комнатах девчонки. Гошка остался в четвертой один.
Из-под одеяла, комком брошенного на Гошку, торчали худые ноги, и чуть задравшаяся рубаха оголяла впалый живот.
Гошка уже ко всему был безразличен.
Тетя Уля, детдомовская повариха, привыкшая еще в крестьянстве относиться к смерти со скорбным спокойствием, прищипнула глаза Гошке.
— Отмучился, горюн, — молвила она с протяжным вздохом и тут же стала соображать и прикидывать работу, какую требовалось сделать для покойника. Паника детдомовская не касалась ее дел и мыслей, как что-то малозначительное по сравнению со смертью.
Заведующий детдомом Валериан Иванович Репнин тихо вошел в комнату, постоял возле Гошки, опустив голову, зачем-то надел очки, потом снял их и как бы сам себе молвил:
— Не дотянул ты, Воробьев, до парохода. Не дотянул…
Тетя Уля всхлипнула по бабьей привычке. Валериан Иванович опустил руку на ее плечо:
— Не надо, Ульяна Трофимовна. Не надо, чтобы ребята видели слезы, — и так же тихо и печально добавил: — Будьте здесь. В комнату никого не впускайте. Я пойду звонить. Нужно, чтоб Гошу увезли в городской морг. Здесь ему, к сожалению, нельзя… — Еще постоял, не зная, что сделать и что сказать, будто стеснялся просто уйти, а должен был, как всегда, распоряжаться всем тут, все направлять.
Видя, что у него побледнело межбровье, и бледность пошла по всему лбу, и что он снова лезет в карман и начинает вынимать футляр с очками, тетя Уля пришла ему на помощь:
— Идите с ребятами управляйтесь, а здесь дело бабье, — и кротко вздохнула: — Родить, хоронить да ранетых и обиженных оплакивать — наша женская работа. Господи, прости раба Твово малово, новопреставленного.
Под ручеистый, нервущийся говорок тети Ули, в котором ее женские мысли и мимоходные точные распоряжения смешивались с молитвами, Репнин вышел, тихо притворив дверь.
Ребят в коридоре не было. Все они толпились в столовой, кто в чем.
Валериан Иванович постоял, оглядел всех. Воспитательниц здесь не было — тоже куда-то схоронились.
— В нашем доме несчастье, — глухо начал Валериан Иванович. Никто не шелохнулся. Кучка ребят была тесна и кротка. «Мало детей почему-то? Когда врассыпную бегают, орут — больше кажется». — Нужно всем одеться, привести в порядок постели, прибрать в комнатах. Несчастье — это удел взрослых… Я хочу сказать — дело взрослых, — поправился Валериан Иванович и замолк. Так были нелепы слова, которые он говорил. Но куда деваться? Нужно было что-то делать, что-то предпринимать. — Друзья мои… — как будто сызнова начал Валериан Иванович, впервые в жизни назвав ребят друзьями, и заметил на лицах старших изумление. «Что я говорю? Зачем?»
Чувствуя, что запутался, Валериан Иванович рассердился на себя и сделал ту непоправимость, которую уже никогда не мог простить себе потом:
— Словом, всем завтракать и отправляться в школу. Воробьева отвезут в морг и похоронят. Вам бояться нечего. Думаю, так лучше. Считаю, так лучше.
— Н-нет!
Так и не мог потом вспомнить Валериан Иванович, кто это крикнул. И вдруг прорвало, и все разом закричали, одна девчонка уже закатилась в истерике. К Валериану Ивановичу подпрыгнул Паралитик и замахал костылем:
— Гошку резать не дадим!
— Не дади-и-им!
— Не дади-и-им!
— …а-ад-ы-ы-ы!
Это был тот самый момент, из-за которого слабонервные люди оставляли работу в детдоме. А те, что думали взбунтовавшуюся или, точнее, вмиг одичавшую толпу детдомовцев усмирять криком или кулаками, попадали на нож.
Валериан Иванович оторопело смотрел на ребят и не узнавал их.
Здесь уже не было Сашек, Борек, Мишек, Толек, Зинок. Было осатанелое лицо маленького человека, пережившего когда-то страшное потрясение, сделавшее его сиротой. Это потрясение осело в глубину, но не умерло и никогда не умрет. На самом дне души сироты, как затонувший корабль, всю жизнь лежит оно. И неважно, кто и почему тронет душу эту, отяжеленную вечной ношей.
Только тронь! Только ковырни!..
Среди этих ребят есть парнишка Малышок. На его глазах отец зарубил мать, и с тех пор лицо ребенка искривило припадочной судорогой и поселилась на нем вечная улыбка. Ребята бездумно и жестоко кличут Малышка Косоротиком.
Здесь где-то Зина Кондакова. Это именно с нею на глухом, занесенном снегом станке-деревушке случилось такое, что и взрослому человеку не всякому было бы по силам вынести.
А вот мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых.
А Гоша? Гошка Воробьев!..
Валериан Иванович ожидал, что его ударят или бросят в него чем-нибудь. Думалось ему до этого: Воробьев надоел им, рады будут, если увезти его. Но они ж едины в своем несчастье…
Его никто не ударил. И как только поутихли плач, ругань, крики, Валериан Иванович произнес насколько мог спокойнее: — Будет все, как вы хотите, — и вышел из столовой.
И без того сутулый, он словно бы еще больше огруз и тяжело шаркал подшитыми валенками по крашеным половицам. На повороте коридора, за которым был отросток вроде кончика буквы Г, он поскользнулся и едва не упал. Прошел мимо кухни, двери кладовой и подержался за стену возле уборных для мальчишек и девчонок. Долго стоять здесь было нельзя, он добрел до своей комнаты и почти упал в дверь. Хорошо, что она открывалась внутрь.
Обхватив голову руками, Валериан Иванович минут десять сидел в комнате на койке и все твердил сам себе:
«Надо ж постель заправить. Надо ж в комнате прибрать. Непорядок. Нехорошо. Ребята могут войти…»
Внешне он хотя и огруз и ни в походке, ни в движениях его почти не угадывался военный человек, все же в нем, как металлический осколок войны, всажена была внутренняя вышколенность, способность быстро оценивать обстановку, брать себя в руки — словом, по-военному мобилизоваться и мыслить быстро и сообразно моменту. Поэтому он никогда не позволял входить в свою комнату ребятам, если в ней было не подметено, не заправлена кровать, не убрано на столе. Спрашивал он с ребят тоже строго. За безалаберность и неряшество подвергал их ехидству, которого они выносить не могли. Все могли, а это нет. Как увидит Валериан Иванович оторванную пуговицу, особенно на штанах, да скажет: «Не изображай из себя сапожника! Сапожник куда опрятней тебя и дурь свою на вид не выставляет!» — ну хоть проваливайся сквозь пол, и только.
Валериан Иванович накапал лекарства в стакан, выпил, прислушался к себе и позвал воспитательниц. Пришла одна Маргарита Савельевна. Она спасалась на кухне. Бочком протиснувшись в дверь, она прислонилась к косяку, прижав к груди узлистые, мужицкие руки.
Валериан Иванович хотел спросить, где вторая воспитательница, Екатерина Федоровна, но, поглядев на эти неуклюже сложенные на груди руки, спрашивать ничего не стал.
— Маргарита Савельевна, сегодня ребята в школу не пойдут, — заговорил заведующий, давая время воспитательнице опомниться. — Пусть ребята делают все, что считают нужным делать. Не мешайте им. — Репнин на минуту умолк. По лицу воспитательницы и по тому, что она все еще молитвенно держала на груди руки, нетрудно было догадаться — до нее так-таки ничего и не доходит, но со всем, что говорил заведующий, она согласна уже потому, что он старший и может сделать так, чтобы все это ужасное происшествие скорее кончилось. До детдома Маргарита Савельевна работала заведующей избой-читальней народов Севера и одновременно училась в вечерней школе. Избу-читальню передвинули на станок, поближе к народам Севера, а Маргариту Савельевну, как личность начитанную и оставшуюся не у дел, «бросили» на детдом, где не хватало воспитателей. Попав из почти никем не посещаемой избы-читальни в содомное заведение, к шумному и дерзкому народу, Маргарита Савельевна как перепугалась еще в первый день своей новой работы, так и боится ее до сих пор.
Репнин вздохнул, поморщился и уже больше сам для себя, а не для Маргариты Савельевны, прибавил:
— Есть такие вещи, в которых дети мудрее нас с вами, — и дотронулся двумя пальцами до бледной переносицы, будто поправил очки, хотя очков не было: он пользовался ими только по делу — читал, писал, а так обходился пока без очков. — Все! — Валериан Иванович выпрямился у стола. — Не раскисайте! — Он хотел сказать «держитесь», но побоялся, кабы не напугать женщину, и без того напуганную. Надо было приказать ей остаться на ночь здесь, да пожалел ее. Как-нибудь управится сам, не впервой ему проводить ночи в детдоме, один на один с ребятами.
Без лишних разговоров, без драк и споров ребята навели порядок в комнатах. Когда они хотели, могли сделать все, но хотение делать полезные дела находило на них редко, очень редко. Два человека с «крепкой кишкой» Лешка Деменков и Попик, не любящий и не привыкший чего-либо долго бояться или чему-либо удивляться, — дежурили возле Гошки Воробьева, накрытого простыней. Ребята почему-то решили, что покойнику полагается быть в пустой комнате, вытащили все кровати, тумбочки, стулья. На полу валялись клочья мочала из матрацев, рваные тетрадки, учебники, рогатки. Девчонки принесли зеркало, прибили его к стене, занавесили черным — кто-то еще по дому родному запомнил: при покойниках зеркало полагается завешивать черным. Попутно завесили лыжными штанами тщедушного человека — строго исполненный портрет знаменитого педагога, чтобы посторонний не глазел на Гошку.
В детдоме неслыханный мир: ни шума, ни беготни — траур. Все заняты делом или придумывают себе дело. А делать-то, оказывается, и нечего. Толя Мазов подал мысль собрать полуразбитые балалайки, гитары, мандолины, заново создать струнный оркестр и хоронить Гошку под марш, горячо убеждая себя и ребят, что они постараются к нужному сроку отрепетировать похоронную музыку. С этой идеей он обратился сначала к Маргарите Савельевне, и та быстро согласилась, радуясь тому, что и она чем-то может быть полезной детдому и что с ней вот уже советуются.
— Да, да, — сказала она, пряча руки под полушалок, в который она куталась: — Я и ноты могу принести. Марш Шопена. У меня с прежней работы остались. Я домой сбегаю. Быстро сбегаю, — и она уже поспешила одеваться, тихо радуясь тому, что нашла предлог хоть ненадолго, хоть на какое-то время выбраться из детдома, где умер мальчик, где ходят злые или заплаканные маленькие люди и, как ей кажется, вот-вот кого-нибудь пырнут ножом или зажгут чего-нибудь.
— Да мы в нотах этих ни бум-бум! — почесал затылок Толя и тут же обнадежил воспитательницу: — Мы и без нот сыграем — будь спок!
— Что такое?
— Будь спок-то? Будьте спокойны. Понятно?
— Понятно. Словечки эти ваши сведут меня с ума.
— Н-ну, какой у вас ум хрупкий! — У мальчишки у этого плутовская улыбка в глазах. Во всяком случае так показалось Маргарите Савельевне, и она сказала тем тоном, каким говорила в избе-читальне эвенкам, чтобы они не мусолили пальцы, листая книги, и не выдирали бы из них страниц на потребу:
— Надо говорить нормальным языком. Толя.
— Нормальным неинтересно. — Он сделал ручкой воспитательнице и побежал к Валериану Ивановичу, а она осталась в коридоре одна и, грея под полушалком руки, горько подумала: «Я всегда любила детей и люблю их сейчас. Но почему, почему они не принимают меня всерьез? Впрочем, я всегда любила детей послушных, аккуратных, отличников, а эти…»
Когда Толя доложил о своей идее Валериану Ивановичу, тот чуть за голову не схватился — такую распотеху доставить горожанам. Он по возможности деловито и спокойно начал втолковывать:
— Гоша еще ребенок. Понимаешь, ребенок! Не надо никакой музыки. Да и хоронят всегда с духовым оркестром. — Это был самый убедительный довод, и Толя, подумав, не сразу, но согласился с ним.
— Может, тогда стихи читать или песню спеть? — внес он новое предложение. — Молитвы ж читают над покойниками. А мы неверующие, атеисты.
«Вот еще атеиста Бог дал на мою голову!» — загоревал Валериан Иванович и мягко, деликатно стал разъяснять Толе, что и стихов-то тоже никаких не нужно, лучше сказать несколько добрых слов, и все.
— Не из хрестоматии, понимаешь?
— Н-ну, — неохотно согласился Толя и пошел было, но быстро вернулся. Если что сделать, Валериан Иванович, так все мы…
«Нужно этого голубчика из дома выпроваживать, а то он напридумывает!» Он послал Толю к поварихе тете Уле на квартиру за метром, надеясь еще какое-нибудь занятие подыскать ему потом.
Толя вмиг слетал к тете Уле, занимавшейся после работы швейным ремеслом, принес старый клеенчатый метр, свернутый в кружок.
Екатерина Федоровна, бывшая портниха, снимала мерку с Воробьева, тетя Уля помогала ей, а Деменков и Попик, чуть отодвинувшись, напряженно следили за ними. Этим парням дано тайное поручение: следить за тем, чтобы труп Гошки куда-нибудь не увезли.
Все пока шло нормально. Никто и никуда Воробьева не увозил. Гордые наложенной на них ответственностью, парни решили и ночью поста не покидать.
Часть ребят вовлечена в дело, которое им покажется хоть и не таким важным, как у Деменкова и Попика, но занятием все-таки более интересным, чем, например, уроки в школе.
Пять человек отправлены с меркой в лесокомбинатовскую мастерскую заказывать гроб. Десять человек — в лес за пихтовыми лапами. Кружком обступили девчата Екатерину Федоровну, шьющую на руках новые штаны Гошке и новую рубаху из сатина, помогают делом и словом воспитательнице, а больше учатся ремеслу. У Екатерины Федоровны волосы шишом на затылке, а на глазах круглые очки, и она смешно держит иголку, оттопырив мизинец. Так форсистые дамочки едят ложечкой варенье. Вид Екатерины Федоровны домовитый и простой, говор ее, грустно-умиротворяющий, размягчает девочек, они становятся послушными, тихими и старательными рядом с этой женщиной, стесняющейся, когда ее зовут воспитательницей.
— Шить на покойников полагается руками, а не на машинке, потому что в тихое место отправляется человек и сопровождать его надо тихо, достойно, без стука, без речей и пьянок. Я не люблю, когда голосят над покойником и когда оркестр играет. Усопший ничего-ничего не слышит, а тут в тарелки бьют. Для живых бьют, чтоб душа их шибче загоревала. Но люди, если горюют, им и без того горько, а если не горюют, зачем заставлять их горе изображать? — Екатерина Федоровна, перекусив нитку, опять шьет быстро-быстро, смешно оттопырив палец с длинным ногтем, и степенный ее говорок слушают девчонки.
Парнишки иные подбегают послушать, да неинтересна, видать, им бабья болтовня.
Ходят, бродят, болтаются по детдому из комнаты в комнату парнишки.
Ребята эти, свободные от дел, затевали разговоры все на одну и ту же тему: о Гошке Воробьеве. А потому как Гошку в доме не любили и знали о нем очень мало, то быстро перескакивали на воспоминания о том, как умирали папа, мама или дедушка.
Валериан Иванович, воспитатели — все взрослые люди — старались устроить жизнь детдомовских ребят так, чтобы они как можно реже занимались воспоминаниями, не бередили бы и без того больные души. Но сейчас им невозможно помешать. Память ребячья устроена, как замок: только поверни ключ и…
И вот уже то в одном, то в другом углу заведующий замечает сгорбленную фигурку: чаще всего это те, кто недавно прибыл в детдом или у кого здоровьишко неважное. Табунный народ, скопом отбивающийся от городской шпаны, толпою бредущий в школу и беглой рысцой из школы, гурьбой вваливающийся в кинотеатр, в столовую, в баню. Единые в шуме и в радости, в игре и в драке детдомовцы, как только нахлынет горе на них, начинают таиться.
Которые побольше — уходят в город, по опыту зная, какое ненадежное укрытие — угол.
Но это те, кто уже обжился в детдоме. А как быть с теми, что совсем недавно были дома, а потом проводили на кладбище родных, кому они были нужны и кто им еще больше был нужен? Они забываться уже стали. И вдруг умер Гошка. Опять шьют чего-то, ходят тревожные и непривычно скорбные люди опять разбередили больную детскую душу.
Сжимается сердце Валериана Ивановича. Опустить бы руку на стриженую голову, прижать ребенка к себе, но тогда он обязательно разрыдается, и его не вдруг успокоишь. Пройти мимо? Ноги не идут. Остаются слова, только слова, и заведующий говорит:
— Петя, ты уж большой. Подумай о малышах. Они увидят, что тогда…
Валериан Иванович на минуту заходит в свою комнату, плескает в стакан лекарство. Язык обожгло, отравлено все во рту. С трудом удерживая посудину, стучащую о зубы, расплескивая капли на галстук, он пьет, уже не чувствуя горечи, а задохнувшись оттого, что в стакан вылил, помимо нормы, еще одну длинную каплю. На минуту он опускается на кровать, не снимая обуви, лежит, чувствуя под валенками скользкую от краски половицу, слушает, готовый пружинисто вскочить, если в дверь постучат. Сердце набирает ход, а в теле и в руках появляется расслабленность, и липкая сонливость склеивает глаза. Поднять бы ноги с полу, разуться, выпрямиться и забыть обо всем, обо всем…
Но всякий раз, как только он опускался на узкую железную кровать, на мочальный матрац, на тощую казенную подушку, на эти детдомовские постельные принадлежности, его кругом обступали ребята со своими одинаковыми и в то же время такими непохожими судьбами. И во сне они не оставляли его. Они всегда были вокруг него и вместе с ним. И ему казалось порой, что не было у него иной жизни и что он вечно жил в этом доме, с этими неведомыми ему когда-то заботами и делами. Но не приходилось ему еще ни разу заботиться о мертвых детях.
Как нелепо — мертвый ребенок! Мертвый Гошка Воробьев, человек, не успевший даже вырасти!
«Гошка. Как же это будет по-людски-то? Георгий? Да, Георгий. Георгий Победоносец — святой, помнится, такой был, Фу, какие глупости в голову лезут!»
Где-то старательно выводят имя Георгия на фанерке детдомовские художники, навострившиеся писать лозунги к 7 Ноября и к Первому мая. Они, чего доброго, на дощечке напишут: «Гошка Воробьев» — и добавят еще какую-нибудь от сердца идущую чушь. Надо подняться и дать эскиз, нарисовать на бумаге. А то художники так изобразят, так разрисуют…
Пусть только перестанут дрожать руки, пусть немножко приотступит дрема. И тогда он напишет.
Чего же он напишет? Родился, умер никому не известный Георгий. И ребята будут удивляться — какое у Гошки звучное имя! Но не будут удивляться тому, что он так мало жил на свете, этот Георгий, Гошка Воробьев.
Воробьев появился в Краесветском детдоме осенью, с последним пароходом. И не один. Еще с пути следования капитан парохода известил краесветскую милицию телеграммой о том, что на борту его судна пиратничает группа беспризорников, и просил принять меры.
«Группа» вывалилась с парохода в составе шести человек. Первым шел, бодро постукивая костылем, Паралитик. За ним Лешка Деменков, Попик, Сашка Батурин и еще один парнишка. Среди этих изрядно подносивших казенную одежонку и довольно-таки одичавших «вольных людей» хоронился тонкошеий мальчишка, которому первоначально Валериан Иванович дал лет девять-десять.
«Вольные люди» убежали из одного уральского детприемника и почему-то решили податься на Крайний Север. Они, видите ли, там еще не бывали и хотели лично посмотреть на строительство нового города Краесветска, о котором молва катилась по всей стране.
Были у них и еще кое-какие «мотивы». О них, само собой, никому ничего не сообщалось. Главный «мотив» — пробраться на иностранный корабль и рвануть за границу — подивиться, как они там живут, буржуи. Говорят, большие ротозеи, деньги кладут куда попало, даже в наружные карманы, российских людей российские воришки давно уже отучили так делать.
Гошка на содержании. Был он когда-то мастер, да весь вышел. На базаре того самого города, где погибли отец и мать Гошки, поднимавшие из воды взорванный в гражданскую войну мост, и куда так тянуло все время парнишку, сдыбал его один дядька, и не в своем кармане вовсе сдыбал. Он поднял Гошку будто младенца, красуясь своей силой, ахнул, словно колол дрова, и посадил его на булыжник, как на горшок. У Гошки хрустнуло в спине, и показалось ему, что позвоночник уперся ему в затылок, а внутри пусто как-то сделалось, будто ни кишок, ни живота, ни печенок, ни селезенок в Гошке уже не осталось, и пронзило его по пустому нутру знобким сквозняком. Гошка сгоряча убежал за овощные ряды и там свалился меж отбросных ларей на капустные листья.
Ночью «вольные люди» перетащили Гошку с базара на станцию, засунули в вагон под скамейку и, решив, что Гошка к угру «прочухается», поехали смотреть Хакасию. Говорят, идолы какие-то в хакасской степи стоят. Надо идолов посмотреть. Не видели. Гошка в вагоне и на самом деле маленько оклемался, а может, водка его взгорячила, которой в пути разжился Паралитик, срезав флягу с пояса спавшего пассажира.
Словом, добрались они до Хакасии. Но земля эта «вольным людям» не поглянулась. Уныло в степи, однообразно, и люди совсем не остерегаются. У них даже красть как-то неловко. Идолы, правда, попадаются — не соврали люди. Но что они, эти камни со стертыми ушами и носами? «Вольные люди» и позанятней кое-чего видели.
Покинули Хакасию. Ночью по причальным канатам, как циркачи, забрались на старенький пароход «Улуг-хем» и поплыли куда глаза глядят. В дороге от нечего делать заметили, что с Гошкой все-таки неладно: без конца бегает парень в гальюн, синий сделался. Достали закрепительных пилюль, велели Гошке целую горсть проглотить — не помогло. Стали поговаривать о том, чтобы «подкинуть» Гошку в милицию, а там уж знают, кого куда девать.
Гошка не захотел отставать от компании, притворился, будто с животом у него все хорошо обстоит. Раз компания собирается на Север, уж не бросят же его. Ему на Севере быть позарез необходимо — Север пользителен при чахотке, а при других болезнях, наоборот, вреден.
Подействовало.
Собрались парни перезимовать на магистрали, по весне уж двинуть в Заполярье. Но попустились замыслом: раз необходимо для Гошкиного здоровья, поехали они холоду навстречу, тогда как беспризорники испокон веку поступают наоборот: бегут от зимы в теплые края.
Дорогой «вольные люди» нанесли немалый ущерб пассажирам парохода, держали в постоянном напряжении команду. Спали они на палубе, на дровах, возле кочегарки, на запасных трапах. Из коридоров первого и второго класса их прогоняли. Гошку помещали в середину — грели собой, но он все равно мерз. Решили лечить его.
Полностью исчезла судовая аптечка вместе с настенным ящиком. Фельдшер парохода остался не у дел, таскался за Паралитиком, деловито постукивавшим костылем, упрашивал вернуть хотя бы часть лекарств, за что обещал уход и лечение больному. На том и порешили: вернуть аптечку, но чтобы с Гошкиной головы и единый волос не упал, чтобы лечили его по всем правилам науки.
Остаток пути Гошка провел на кушетке медпункта парохода.
В Краесветске Гошка немедленно был определен в больницу. Остальные «вольные люди» из милиции были препровождены в детский дом и повели там жизнь с расчетом до весны, а там уж и в дальние страны двинут — на буржуев смотреть.
Через полтора месяца Гошку выписали из больницы. Главный врач больницы, чего-то стесняясь и не глядя в глаза Валериану Ивановичу, сказал:
— Мальчишка смертельно изувечен. Если он доживет до весны, с первым же пароходом направим его в южный санаторий, там его, может, и спасут. Я же… Его бил мастер… Опущение желудка, мочевого пузыря. Одним словом, как говорят в народе, все внутренности отбиты. — И без перехода добавил, сбиваясь со строгого тона на недовольный: — Берегите мальчишку! — и ушел, сердито ткнув растопыренными перстами в дугу своих очков.
Какое-то время Гошка еще ходил в школу, даже в игры и в драки встревал, а потом школьники начали поводить носами, сторониться его, и учителя спрашивали Гошку с места, к доске не вызывали. Ученики придумали Гошке грязное прозвище.
Бросил Гошка школу.
Сколько-то дней шатался он по улице, околачивался в столовых и кинотеатрах и возвращался домой вместе с ребятами, будто с уроков. После и таиться перестал. Он становился все более замкнутым, злым, то и дело лез в драку, но был уже настолько слабосильным, что даже с девчонками совладать не мог. Меньше силы, больше зла — он бил чем попало: молоток — так молотком, полено — так поленом, нож — так ножом.
Валериан Иванович твердил ребятам, что Гошка болен, просил не связываться с ним, уступать.
Да разве умеют ребята уступать? Гошка не ходил в школу, не тупел над уроками. Ему часто меняли белье, порой отдельно готовили еду. Капризам его потакали воспитательницы, заведующий, тетя Уля — и чтобы они, ребята, еще ему уступали! Нет уж, шиш с маслом этому Гошке! Видали, больной! Придуривается небось, учиться не хочет.
Валериан Иванович пытался снова определить Гошку в больницу. Мальчишка закатил истерику, порвал на себе рубаху, бился головой о стенку. После этого ребятишки окончательно решили; притворяется Гошка, волынит, и от зависти вконец невзлюбили его.
Валериан Иванович часто брал Гошку к себе, читал ему книги, рассказывал что-нибудь, и удивительно кротким, непривычно милым становился Гошка. Иногда он засыпал в комнате заведующего, по-птичьи уткнувшись подбородком в плечо. Валериан Иванович уже подумывал, не поставить ли вторую койку в своей комнате.
И вот весна как будто поспешила выручить Гошку, узнав, что он больной. Сначала она вломилась в окно ярким блеском солнца, срикошетившим от снега. Аж зажмурился Гошка от такого солнца, аж виски у него заломило, а внутри, где жил постоянный и уже привычный холодок, как будто что отмякло, нежным тополиным пушком все там обволокло.
Раз-другой капнуло с крыши — и зачастило, зачастило. Капли густели, как сера, и растягивались в сосульки, тонкие, ребристые, острохвостые. Так хотелось похрумкать Гошке сосульку, да не дотянуться до нее. Палкой бы сшибить, да нельзя сосульку есть — знобко телу. Вытаяла высокая завалина, запарила, обсохла. Гошка выползал на нее и сидел нахохлившись целыми днями, в валенках, в шапке, в простеньком детдомовском пальтишке — слушал, молчал, подремывал.
Солнце с каждым днем поднималось все выше и выше. Вытаяла еще одна сторона завалины, и Гошка стал передвигаться вслед за солнцем. Так в полусне, не размыкая глаз, и полз он по завалинке на ощупь к теплу. К нему никто не смел приблизиться. Стоило подойти и вывести парнишку из сонного состояния, он принимался визгливо кричать:
— Чё вам от меня надо? — и жутко, не по-мальчишески ругался.
Вокруг Гошки возились, почирикивали воробьи. Вид у них был козыристый, какой бывает у всех птах, переживших зиму, да еще к тому же заполярную.
Гошке оставляли на столе еду, и он ел, когда ему вздумается. Гошке выписывали лекарство. Он пил его сердито, как будто принудиловку отбывал. На прием в поликлинику сердобольная Маргарита Савельевна водила его за руку, почти силком.
И вот больной сам выпросил ложку, завернул ее в тряпицу и носил в кармане — сам начал пить лекарства. В четвертой комнате снова запахло больницей. Есть начал Гошка. Бывало, он выпивал компот, отщипывал немного хлеба, и все. А тут принялся суп хлебать, второе ковырял вилкой, уставал от такой работы и однажды шевельнул морщинами на лице, пробуя улыбнуться: «Ешь — потей, работай — мерзни!» Желтое лицо Гошки тронуло загаром, губы его зашелушились, он сделался покладистей характером. В доме поговаривали о том, что Гошка «вытаивает».
В эти ранновешние дни Гошка приходил спать после отбоя, жалея, что мало времени еще бывает на небе солнце. Но это заполярное, ярко слепящее солнце все же помнило о Гошке и расправлялось с глубоко засевшей заполярной зимой хотя и не очень уверенно, однако ж снега растапливало, как масло, и кое-где на буграх одряхли снега, сочили в лога светлою снеговицею. И все же были пока ручейки еще вялы, бесшумны, коротконоги. В логах даже не поголубело, и леса не окутало вдали сиреневым дымком. Студено еще было. Утром горела корка наста из края в край, нестерпимо обжигая глаза. До полудня держался этот наст, а потом отмякал, ронял хрусткие козырьки, и в низинах снова проступали потайки, снова в недолгий путь отправлялись ручейки, неслышные, вялые. Ночь смиряла их, вымораживала до сухоты.
Знали люди: будет еще всякой всячины. Что весна эта вроде девки, не вошедшей в лета, — нет у ней ни серьезности, ни крепкого огня, а так, улыбочки одни, заигрывание, баловство.
И все же заполярный житель есть заполярный житель. Он постоянно скучает по чудесам, он надеется на них, верит в них, ждет.
Нет, он не доходит до больших фантазий, например, насчет того, что жаркий климат переселится сюда, а холодный туда, и где была зима, там станет лето. Заполярный житель — стреляный воробей, и мечты его как кони с закушенными удилами: побегли бы, да…
И все же вдруг именно нынче будет оно, долгожданное чудо — эта ранняя весна не загаснет. Не обманет. Вон она, милая, как старается, пластает белые полога, нащупывает водою землю, подтачивает и режет ручейками глину в ярах и осыпях; шевелит коренья трав и кустов. Уж бугры за сараем маленько оголились, и на них выпрастываются из-под снега хилые березки; тропа, по которой ребята в школу бегают, горбатой сделалась. С крыши капель частит, и Гошке чудится, что это птицы долбят зиму в самое ледяное, нечуткое сердце.
Ночью, вернувшись на свою кровать, Гошка нетерпеливо ждал утро. Во сне ему слышался шум ручьев и речек. Речки гремели под окнами, под полом дома, поставленного на сваи. Гошка плыл на корабле в теплую землю, в какой-то южный санаторий, куда обещал его отправить доктор.
Бушуют, пенятся валы вокруг корабля, и необозримо разливается океан-море. Где-то там, из-за края земли, уже скоро появятся дальние страны, о которых ему читал Валериан Иванович, и на скале, под самым небом, — большой санаторий, похожий на крепость. Белый-белый он, как снег, и у входа в санаторий плавают в озере белые лебеди и кланяются всем. В санатории тихо, и тоже все белое-белое и много солнца. В нем никогда не бывает зимы, в санатории-то, и не шумит, не бегает горластая братва. Там не надо ни шапок, ни пимов, ни пальто. Лежи себе голый возле озера на белом чистом песке, гляди на белых лебедей, пуляй камни в воду, а тебя греет солнце со всех сторон.
Так греет, так греет!..
И в последнем сие Гошке виделся белый санаторий, виделись дальние страны с высокущими елками. На елках сидели красные попугаи и кричали: «Пиастры! Пиастры!», а может: «Здравствуй! Здравствуй!»
Огромное белое солнце сияло над миром.
Вдруг оно покатилось быстро-быстро за гребень лесов, за край земли.
Гошка приподнялся на кровати, пытаясь заглянуть туда, за стену этих высоких елок, увидеть солнце.
Но оно опрокинулось и полетело плашмя, как тарелка, которую однажды Гошка запустил в воспитательницу. Мальчишка замер, ожидая страшного звона.
Но солнце разбилось беззвучно, оно даже не разбилось, оно лопнуло, ослепительно сверкнув огненными брызгами.
Гошка упал на мятую подушку, затискал в горсти простыню…
— …Да-а! Не верили вот, шкеты. А он вот помер. Болел потому что, рассуждал караульщик Попик, сидя подле накрытого простыней совсем смирного Гошки Воробьева. — Если бы весна наступила бы после Нового года, он не помер бы. — И, не дождавшись никакого отзвука от Деменкова, задумчиво продолжал: — Зря мы его с магистрали увезли. Там солнце раньше выходит. А на солнце все оживает: и трава, и лес, и человеки тоже… Да-а, я вон деранул из хазы одной, совсем доходил на вокзалишках. Дуба дал бы, да попал в один поезд. Он повез меня, повез и в Крым привез. А там солнца-а! Народу-у! С ходу два скачка сделал. Нашамался — во! Спал после этого сутки, может, боле. На земле прямо, под кустом. Разморило. Купаться надо. А в чем? Трусов-то нету. Баба одна, курортница, сушить на забор трусы повесила. Я снял их. Розовые были, с кружевами зачем-то. Накупался. Загнал трусы и опять нашамался. Лафа! — Попик прервался вдруг, поглядел на тускло белеющую в углу на Гошкиной кровати простыню и непривычным для него жалостливым тоном закончил: — Без солнца у нас никуда…
Хотя и заказывали гроб пятеро, он все равно оказался велик. Гошка весь утонул в нем. Лишь остренький нос торчал одиноко из бумажных цветов и пихтовых лапок. Долго решали, как положить Гошке руки: на груди крестом или по-другому. Вмешалась тетя Уля, сложила Гошке руки на груди. Еще дольше решали, надевать или не надевать на Гошку пионерский галстук, поскольку в пионерах он не состоял. Все же галстук надели: пусть хоть на тот свет явится пионером Гошка Воробьев.
В новой рубахе цвета луковой шелухи, в черных сатиновых шароварах, в синих спортивных тапочках и при галстуке Гошка был совершенно всем чужой и на себя непохожий. Это больше всего и нагоняло на ребят трепета и благоговения.
Ребята вынесли Гошку из дому на руках, мешая друг другу. Затем, как принято у взрослых, взяли домовину на полотенца. Распределились, правда, не по двое, а по четыре человека на полотенце! Казенные, застиранные, с ляписными штампами на углах полотенца. И хотя от детдома до кладбища было недалеко, решили дать крюку, торжественно пройти по центральной улице, а потом уж свернуть на кладбищенскую дорогу.
Серьезные девочки шли впереди и бросали пихтовые лапки. Мальчишки несли неумело свитый венок, из которого то и дело выпадали бумажные цветы. Ребята постарше несли следом на головах крышку, еще дальше — неуклюжий гроб. Было все как надо, как полагается по древнему похоронному ритуалу.
И все-таки ошарашенно замерло движение на центральной улице Краесветска, хотя жители его видывали виды. Люди стояли обочь вытаявшей мостовой, по колено в мокром снегу. Пожилые женщины крестились. Один школьник с сумкой отдал пионерский салют и смутился. Шустроглазая старуха, выйдя из универмага, приблизилсь к домовине, заглянула в нее, побросала крестики щепотью на покойника. На нее угрюмо покосились ребята, несшие гроб, и она, ткнув себя троеперстием в грудь, засеменила в сторону. Из бараков все высыпал и высыпал народ. Появилась шпана из шайки Слепца заклятого врага детдомовцев. Прошли «слепцы» следом с квартал, заедаться не решились, один по одному отстали.
Валериан Иванович хотел одного: как можно скорее миновать главную улицу, но торопить ребят не смел. У горсовета к похоронной процессии присоединилась инспектор гороно, бывшая заведующая детдомом Ненила Романовна Хлобыст.
— Й-я-ж-же предлагала Воробьева отправить в морг! — задышливо шептала она Репнину. — Эт-то ж-же ужас! Спектакль какой-то! Пантомима!..
Валериан Иванович приотстал, вытряхнул из калош снег и сказал, глядя по-петушиному на инспекторшу:
— Прошу вас на кладбище не ходить. Ребята все сделают сами. М-да, сами. — И, по-чудному решительно выкидывая ноги, догнал процессию, прилаживаясь к ребячьему шагу, и приладился уж было, пошел размеренно, однако скоро сбился с ноги.
Воспитательниц он не взял на кладбище под предлогом, что надо кому-то и делами заниматься, приводить в порядок дом, а тут эта дамочка вылезла, как всегда, не ко времени.
Ненила Романовна сердито смотрела вслед Репнину, непроизвольно ссутулившемуся, старающемуся быть незаметней и все же гористо возвышавшемуся над малолетней процессией. Ненила Романовна собралась было настичь Валериана Ивановича, сказать ему что-то руководящее, категоричное, но тут поравнялся с нею отставший от процессии этот ужасный, с костылем, огрел ее взглядом и поковылял дальше. У Ненилы Романовны пропала охота идти с ребятами, она поспешила с глаз долой, чувствуя себя в чем-то виноватой, а в чем, понять она не умела. С нею это происходило часто.
За городом нести Гошку оказалось тяжелее. Тропинка узкая. По обочинам пропитанный водою снег. Шагать же с гробом было надо по обочинам. Парнишки по колено увязали в снегу, спотыкались. Из домовины выпадали цветы, веточки, галстук съехал набок, а руки Гошки как были сложены на груди крестом, так упрямо и держались. Девочки подбирали цветки, бережно отряхивали, пальцы их были в чернилах и в краске. Шли без разговоров, без ругани, без шума.
Наконец добрались до кладбища. Это заполярное кладбище чем-то напоминало хриплый человеческий вскрик. В болотах, меж озерин на хлябающих марях, среди березняка, на котором и белой-то коры почти нет, а одни черные заплаты по стволам, среди елочек, у которых и лап-то живых одна-две, расселены могилы. Ползучими кустами карликовых березок, будто колючей проволокой, затянуто кладбище. Там и сям видны разномастные кресты и деревянные пирамидки с деревянными звездами — навострились их выпиливать мастеровые люди на лесозаводе. И кресты, и пирамидки стоят, отшатнувшись назад, как от зуботычин, или сунувшись надписью к земле, которую и землей-то назвать трудно. Много крестов, досок, перекладинок валяется на снегу и торчит из-под снега, а бугорки могил просели, обнажая желтую, как мыло, мерзлоту. В просевших могилах вода и почерневший от нее багульник да спутанные нити тощих корней. В налитых снеговицею могилах болтаются облака и среди них, как яичный желток, солнце. А из кустов, из глубокого снега подгулявшей, раздерганной толпой выбредают и выбредают кресты с раскинутыми перекладинами. Перекладины будто руки, готовые к объятиям. Мерзлота «отдает» летом, не держит кресты, и они валятся, сползают с бугров в низины, а там, в рыхлом болоте, в ряске и трясине, затягивает их илом, болотной дурью, и вместе с ними навсегда исчезает память о человеке.
Петляют ребята по буграм, по просторному, кажется, бесконечному кладбищу без ограды и церкви, без сторожей и страшных сказок.
Вот и Гошкина могила. На самом высоком бугорке — хоть немножко ближе к солнцу. Ребята сами долбили ее и хотели угодить Гошке.
Облегченно поставили ребятишки гроб на мокрую комковатую глину в прожилках инея, в тусклых проблесках мерзлоты. Попик скатился в яму. Там уже скопилась болотная вода. Попик принялся вычерпывать ее шапкой. За Попиком спрыгнул Толя Мазов, потом Сашка Батурин. Пошли шапки конвейером. Веселее в работе стало. Кто-то засмеялся, но тут же испуганно смолк.
Отчерпали воду. Что теперь делать?
Валериан Иванович, не поднимая головы, сказал:
— Прощайтесь, ребята, с другом.
Как это — прощайтесь? — наморщены лбы, насуплены брови. Если до этой последней минуты похороны воспринимались многими, особенно малыми ребятами, как игра или представление, то вот сейчас наступило что-то другое, главное.
Все топчутся. Никто не знает, что и как делать. Попик бойко растолкал ребят, кинул мокрую шапку на голову, наклонился к Гошке, поцеловал его в полуоткрытый глаз:
— Прощай, наш боевой друг и соратник! Мы не забудем тебя! — бодро сказал он и секунду помедлил. — Мир праху твоему…
Поковылял к гробу Паралитик. Костыль застревал в глине, а он никак не мог его выдернуть. Паралитик отбросил костыль, попрыгал на одной ноге к гробу, упал на бок и боднул Гошку подбородком. Он долго не мог подняться с земли без костыля. Ребята помогали ему, и от этого Паралитик разозлился, оттолкнул их.
Близко к гробу стоял Малышок и прикрывал рукавом вечно улыбающийся рот. К Малышку прижалась Зина Кондакова, высокая, красивая девочка, и слизывала, слизывала с губ слезы. Толя Мазов хмурился, сжимал кулаки держался из последних сил, сглатывал воздух, а воздух, видно, твердел в горле. А может, полипы мешали ему дышать носом. Трудно держаться Толе чувствительный парнишка. Любопытно глядит из-за спин Маруська Черепанова и все запоминает. Женя Шорников переминается, пританцовывает, ему необходимо отбежать в кусты, но он не решается в такой момент делать такое дело. Новенький мальчишка из первого класса еще не понимает горя, но все равно стоит по команде «смирно». Одна девочка, тоже первоклассница, взяла палец в рот и забылась. И над всеми ребятами глыбится, как всегда, угрюмый Деменков. Он молча, деловито подталкивает ребят прощаться с Гошкой. Все у него идет чередом: нет толкучки, нет реву, нет разговоров. Полная дисциплина.
Но смотреть на все это уже невозможно. Валериан Иванович отошел в сторону, сел на упавший нетесаный крест, закрыл глаза рукой.
Его закачало, плавно понесло в полузабытьи. Сидел он в мокром снегу, на старом кресте, плотно закрыв глаза, и, даже когда его тряхнули за рукав, очнулся не сразу.
— Валериан Иванович, пора вам… — неуверенно позвал Толя Мазов.
— Что пора? Ах, да, да…
Калоши снялись в размешанной глине, ботинки вязли, под ними чавкало, чмокало. Валериан Иванович с трудом добрался до выжидательно растворенной могилы, встал коленями в жидкую грязь возле гроба, поправил галстук на мертвом мальчике, загладил ему набок чуть отросшие светло-русые волосы и поцеловал в наморщенный лоб долгим, родительским поцелуем. Не поднимаясь с колен, все глубже уходя ими в жидкую холодную грязь, Валериан Иванович сдавленным голосом заговорил, глядя поверх кустов захлестнутыми глазами:
— Ребята, когда вы станете взрослыми и у вас будут дети — любите их! Любите! Любимые дети не бывают сиротами. Не надо сирот!.. Не.. — Чувствуя, что вот-вот разрыдается и что делать этого ни в коем случае нельзя, Валериан Иванович резко поднялся из размешанной грязи и хрипло приказал: Крышку!
Ждавшие от Валериана Ивановича большой, продуманной речи, ребята разочарованно накрыли гроб крышкой. Тут оказалось то самое, что всегда оказывается у людей, не привыкших заниматься похоронными делами, — забыли молоток.
Стали искать камень. Но где же его найдешь в снегу, в болотах?
Деменков отломил перекладину от лиственничного креста, на котором недавно сидел Валериан Иванович. Гвозди гнулись, не шли в доски. Но покончили и с этим. Следующее, что всегда забывается, — это веревка. И ее, конечно, тоже забыли. Деменков, Попик, Толя Мазов охотно соскочили в яму, чтобы принять домовину и поставить на дно могилы. Но домовина была широкая, а могила узкая. Притиснуло домовиной ребят к ребристой от ломов и кирок стене могилы, и они держали Гошку на груди.
И ни они, ни те ребята, что были наверху, и даже Валериан Иванович, не знали, что теперь делать…
На лесозаводе вдруг запел гудок, сипло, протяжно, и поплыл он над городом Краесветском, достиг окраин, прошел над болотистым местом кладбища, где кучкою толпились ребятишки и Валериан Иванович. И когда гудок запал во мшистом редколесье, далеко за городом, ребята еще постояли над могилой большую минуту молча, а потом забросали Гошку землею и, закончив горькое дело, побрели домой.
В душе у каждого из них звучал и звучал прощальный гудок.
Глава 2
В доме нехорошее затишье.
Не стучали обломанные кии на бильярде, где взамен утерянных настоящих шаров катались шарикоподшипники, унесенные с автобазы; не ходили по коридору зеваки вслед за Борькой Клин-головой, который подпинывал шикарную «жошку» из оленьей шкурки и, даже обедая, орудовал ногой и не проливал суп и компот. Вечных стычек и потасовок тоже не было. Книги из библиотеки ребята вовсе перестали брать. Не заправляли койки, валялись на них, ожидая от воспитательниц замечаний, чтобы поогрызаться. Те, кто любил поволынить, пользовались моментом, не ходили в школу. Звонил заведующий школой, беспокоился, ругался. Валериан Иванович попросил его прийти в детдом, а тот чего-то не шел. Маргарита Савельевна ушла — заболела-таки от потрясения, сидит дома. Тетя Уля присмирела, курила одну папиросу за другой и чего-то ждала. Екатерина Федоровна поговаривала о расчете, а кастелянша и завхоз повесили по второму замку на кладовую с продуктами и на шкаф с бельем.
Одиноко в этом густолюдном доме заведующему. Одиноко и тревожно. Ни смеха, ни возни вокруг, выжидательная, напряженная тишина.
Что из нее возникнет? Что получится?
«Хоть бы озорничали», — тоскливо думал Валериан Иванович, почти не спавший после похорон вот уже три ночи.
Девочки взяли патефон, заводили одну и ту же пластинку: «Не одна во поле дороженька», — и потихоньку плакали. Мальчики слонялись из комнаты в комнату, из угла в угол.
В обед Попик бросил в парнишку по прозвищу Глобус хлебом. Бросил целый ломоть доброго пшеничного хлеба. Валериан Иванович молча поднял хлеб, обдул его и громко, отчетливо сказал, чтобы слышали все:
— У Саши Рагулина родители умерли от голода. У Гали Косовой — тоже. Умерли оттого, что еще семь лет назад в стране засуха была. Голодали люди. — Он повернулся и ушел из столовой.
Паралитик хряпнул Попика костылем, а заодно и Глобуса. Он-то хорошо помнил тот страшный голод. Именно тогда, в тридцать третьем году, его истоптали на Камской пристани высушенные голодом мужики, у одного из которых он разрезал котомку и выковырнул из нее краюху, сляпанную из отрубей и мякины. Попик в том году совсем клопом был еще, но помнить должен все, потому что в том году его «забыла» на железнодорожном полустанке родная мать, а сама, шатаясь от голода, убрела куда-то. Попик доходил до того, что грыз поднятые с дороги мерзлые конские шавяки. Забыл?!
Паралитик еще раз треснул Попика костылем, чтоб не забывал, чего не следует. Попик схватился было за вилку, но на него заорали со всех сторон, и Паралитика дежурные силком водворили за стол. На этом происшествие как будто закончилось.
Но что-то должно было произойти в доме, какая-то разрядка должна быть.
«Какая?»
Валериан Иванович ломал голову, ждал поножовщины, слез, драк, даже побега, но где же ему одному было уследить за фантазией такой оравы! Фантазия эта и настроение ребят способны изменяться каждую минуту, в зависимости от чего угодно, даже от погоды.
Наступил четверг.
Этот день ребята очень любили, потому что четверг был банный день. Еще с утра двое или трое ребят укатывали в город в прачечную и привозили на нарте чистое белье, застиранное, плохо отглаженное, почти серое, но все же из прачечной.
Приходили ученики из школы с предчувствием банных событий и зашвыривали учебники подальше. На каждой кровати лежало по две простыни, наволочка, полотенце. От белья пахло хозяйственным мылом и ледяной прорубью. По коридору из комнаты в комнату сновали ребятишки, донимая кастеляншу и завхоза просьбами полотенце заменить или наволочку. Сошедшая с круга потная кастелянша сопротивлялась, не меняла. «Много, — кричала, — тут вашего брата, всем не наменяешься!» Ребята из-за этого сердились, демонстративно не заправляли койки. Девочки, те подлизывались к кастелянше, набивались подсоблять ей, чтобы потом отобрать себе простыни да наволочки поновей и почище.
Ладно. Пусть. Неважно, что бумажно. Главное, шум есть, гам, работа веселая. Заправляй, братва, постели, живи дальше! Ночуй!
Уроки в этот день никто не делает: побоку грамоту! Баня! Суматоха! По комнатам пыль и перья столбом. Гвалт, возня, всякие интересные проделки: кто полотенце у кого стянет, кто на голову его намотает, как чалму, и хана какого-нибудь или просто придурка изображает, схватки случаются мимолетные из-за того, что у соседа койка заправлена чинно-важно, и не хотел бы, да сядешь на нее. Ну и получишь разок, а то и два.
Бельишко — штаны и рубахи — ребята надевали на себя еще дома и в баню отправлялись налегке, без узелков, потому что в те годы еще жива была непримиримая вражда между «приютскими» ребятами и теми, кто звал их детдомовской шпаной, то есть ребятами городскими, имеющими свой дом и родителей.
В краесветской бане окна женского отделения были закрашены, а на мужское краски не хватило или считалось, что мужикам стыдиться некого и незачем; городские окружали баню, заглядывали в темное нутро моечной, дразнились, показывали дрыны, поджиги, ножики. Голые детдомовцы могли показать в ответ только кулаки да похлопать себя по тому месту, что ниже живота. Они знаками просили городских парнишек повременить, не разбегаться.
У бани начиналась свалка. Благодушные от бани и всеобщего дружелюбия, наступающего в четверг, детдомовцы постепенно накалялись и не раз обращали в бегство городских.
Выпачканные в болотной жиже, со свежими царапинами, ушибами и синяками, с оторванными пуговицами, а то и в распластанной рубахе возвращалсь парни в детдом, довольные собой, рассказывая друг дружке: «Ка-ак он меня!.. Кэ-эк я его!..»
Дома умывались, пришивали пуговицы, клянчили у кастелянши рубаху взамен порванной в бою, и на несколько дней в детдоме хватало воспоминаний и полнейшего всеобщего согласия.
Так было. Но в этот четверг так быть не могло. Валериан Иванович заметил негласное единение детдомовских сил. «Группа» Паралитика, всегда державшаяся на отшибе от других ребят, сейчас оказалась ядром детдомовского народа. Ребята шушукались, что-то прятали в карманы. Из железных кроватей вынуто много прутьев. Эти прутья — грозное оружие детдомовцев. Парни загибали концы прута, спускали его в штанину, цепляя крючком за пояс, всегда под рукой железяка. При злости и ловкости ею можно голову размозжить.
Валериан Иванович редко ходил с ребятами в баню, обычно отправлял он туда воспитательниц и кастеляншу. Самому надо было успеть сдать грязное белье, отчитаться, звонить, организовывать дезинфекцию. Словом, вести так называемые хозяйственные дела. Но в этот раз он пошел с ребятами в баню и, мало того, позвонил в милицию, чего не делал прежде.
— Сегодня возле бани может быть резня. Прошу вас наведаться туда во второй половине дня.
Резни не получилось. И даже малой драки не было.
Милиция или разогнала городских, или те не собрались, но мылись ребята на этот раз спокойно, им даже чего-то недоставало. То и дело парнишки подбегали к окну и сообщали Паралитику, который всегда садился мыться в парной в самый темный угол, чтобы не видно было его сухую и вялую, как тюлений ласт, ногу: «Нету!»
«Сперло маминых деток!» — лешачьи сверкая глазами из густого горячего пара, ровно из преисподней, злорадствовал Паралитик.
На какое-то время Паралитик и несколько ребят опередили Валериана Ивановича, чтобы покурить после баньки. Курили за кассой, сколоченной внахлест из струганых досок. Из кассы этой, похожей на корабельный гальюн, только что вышла озабоченная кассирша, повесила замок-самозакрывалку и куда-то поспешила, простучав каблуками по банному широкому крыльцу. Попик повел щенячьим носом, сморщил его плотоядно и, понарошку чихнув, поздравил сам себя великосветским манером:
— Салфет вашей милости, Юрий Михалыч! — и тем же тоном прочастил: Чую, грошами пахнет! — и еще продолговатее принюхался: — Аж воняет грошами, блин буду! Прокисают, должно, портются!..
Паралитик закрючил взглядом кругленький замок-самозакрывалку, и его глаза, с трещинками зрачков, расширились, как у кошки в темноте, перестали моргать.
— Косим! — Костыль застучал, как у полководца. — Батурка — в шухер, на крыльцо. Клин — в одевалку, зырь за Варьяном. Попик — гвоздь! — Паралитик человек дела. Юмора он не признавал и не любил. Команды его были резки, обрывисты, работа точная.
Через каких-нибудь пять минут как будто нисколько не поврежденный замок-самозакрывалка висел на своем месте, только восемьсот рублей — банная выручка за несколько дней — из ящика стола исчезла. Мелочь — пятьдесят три копейки — оставили в выдвижной столешнице, на развод.
Покатились денежки в детдом на проворных ногах беспечно посвистывающего Попика. Они были подняты на чердак, завернуты в тряпку. Попик обвязал сверток бечевкой и спустил его в трубу старой, давно не топившейся голландки. Вынутый из трубы кирпич Попик вставил на место и присыпал пылью, следы замел рукавицей. Посидел на чердаке Попик до тех пор, пока не раздались голоса прибывших из бани ребятишек, отряхнулся, осмотрелся и неторопливо спустился в раздевалку, а оттуда вместе со всеми явился в комнату.
Рассолоделый после бани, Попик свалился на кровать, включил радио. Передавали музыку, протяжную, печальную. Попик заслушался. «Хорошая же штука — музыка! — рассуждал он. — Вот слушаешь ее, слушаешь и даже зареветь можешь либо спать захочешь. А по весне из детдома рвануть можешь… Да-а, научиться бы на баяне играть или хоть бы на балалайке…»
О деньгах Попик уже не думал. Деньги были на месте, в заначке — чего о них думать? Их надо проесть, прокурить, Деменкову долю отдать, вот и вся недолга.
В детдоме обыск. Начальник милиции с одним сотрудником идут по комнатам, ворошат матрацы, подушки, тумбочки. В четвертой комнате мирно спит Попик, подложив под пухлую щеку ладошку. Здесь же, в четвертой, постоянное местожительство Деменкова, Мишки Бельмастого, Толи Мазова, Жени Шорникова, Малышка. Разбивку по комнатам делал сам Валериан Иванович и умышленно разделил «вольных людей».
В третьей комнате, где жили Паралитик, Сашка Батурин, Глобус и ребята помельче, обыск уже прошел. Паралитик волочится за властью, поигрывая костылем.
Начальник милиции косится на Паралитика, но ничего ему не говорит.
Они старые знакомые. В начале зимы Паралитика замели в милицию за драку с городской шпаной и решили не выпускать, покудова возможно. Ночью на чердаке милиции вспыхнул пожар — это Малышок, подосланный Деменковым, вылил из лампы керосин на чердаке и зажег милицию. Хорошо, что пожарка рядом. Потушили маленькое здание милиции. Дыра на крыше осталась, напоминая о том, что не так просто иметь дело с детдомовскими архаровцами. Дежурный по отделению вышвырнул Паралитика из помещения, бросил вслед ему костыль. Паралитик поднял костыль, надел шапку на голову, высморкался на крыльцо грозного заведения и поковылял домой.
С тех пор забирать в милицию с ночевкой детдомовских не решались. Начальник маломощной милиции, собрав в кулак все свои чувства, ждал первого парохода и грозился упечь в исправительную колонию половину детдомовской шантрапы, и в первую очередь Паралитика — главаря и заводилу всей этой хлопотной публики.
Ошибался начальник. Паралитик — заводила, но не главарь. Паралитика в детдоме боятся и ненавидят. Но есть человек, перед которым все трепещут, даже сам Паралитик. Это Деменков. Вон он сидит на кровати, угрюмый, замкнутый. «Леша» — выколото по темным ветвистым жилам его тяжелой руки. Взгляд его тоже глыбисто тяжел. Глаза — сплошные зрачки, на лоб клином спускается ежик волос, и отгого лоб кажется узким, как у пещерного человека. Черный клин волос почти заходит в сросшееся мужицкое межбровье.
Никогда и никого в детдоме не тронул Деменков даже пальцем единым, никого не обругал, ни на кого голоса не повысил. Но даже взгляда Деменкова пугаются ребята. корчатся под ним. Биография его еще невелика, но содержательна, Мать и отец Деменкова воры крупные, рецидивисты. Судили их и сажали за грабеж, за взломы и квартирные кражи. Совершенствуясь, они дошли и до «мокрых дел», и за убийство инкассатора отца Деменкова расстреляли, а мать затерялась где-то в лагерях. Деменков тоже успел побывать в «исправиловке». За это особый почет ему среди детдомовских ребят и боязнь перед ним особая.
Он убавил себе года и прилип к детдому до весны.
Весной он уйдет, сделает в городе кражу или грабеж и уйдет. На иностранный корабль, как выяснилось, попасть не так просто. Да и «компания» что-то подразвалилась, о загранице не говорит, из детдома этого бежать как будто не собирается. Попик да Паралитик только и остались верными, но они все-таки, куда ни кинь, шкеты. А его уже ко взрослым тянет, к настоящим делягам, не к рыночным блудням. Он достойный сын своих родителей! Весной навсегда кинет он эту мелкоту, отчалит в захватывающую и опасную воровскую жизнь.
А пока Деменков тих и непроницаем. Ему услужливо сообщили об операции в бане, но он никакого внимания не обращает ни на воров, ни на милицию. Он по натуре «медвежатник», а это все мелочи. Кроме того, с Деменкова можно шкуру содрать, и он ничего не скажет, хотя бы потому, что доля его — сармак — ему твердо обещана.
Паралитик, осклабившись, стоит за спиной начальника милиции. Все встали. Сидит лишь Деменков и спит Попик. Но стоило появиться в комнате чужим, как чуткий воровской сон отлетел, и Попик, вздрогнув, открыл белые, как ребята говорят, «простоквашные» глаза. Он в момент уяснил обстановку и, сладко зевнув, поприветствовал начальника милиции:
— Здорово живем!
Тот не удостоил его ответом. Попик вознамерился повести разговор дальше, но осунувшийся Валериан Иванович безнадежным голосом произнес то, что уже говорил до этого в трех комнатах:
— Ребята, из кассы бани пропали деньги. Кроме нас, там после обеда никого не было. Кто взял деньги?
Валериан Иванович переводит взгляд с лица на лицо. Не задерживаясь, проходит Деменкова, скользом — усмехающегося и почесывающегося Попика, ненадолго останавливается взглядом на напряженном и оттого совершенно жалком лице Малышка, пытающегося не улыбаться, и в упор, как штыком, колет взглядом Толю Мазова. Чувствительный, нервный мальчишка опускает глаза и тут же поднимает их. Все. Он уже переборол замешательство, теперь его так просто не заставить вздрогнуть.
Валериан Иванович, не спуская Толю с прицела, с расстановкой спросил:
— Анатолий, ты не знаешь, кто взял деньги?
В комнате струной натянулась тишина. Слышно, как работает на протоке лесотаска, скрежеща крючьями, и стук ножа тети Ули на кухне, слышно, как хрустит костыль под напряженно подавшимся вперед Паралитиком, даже скрип ремней и кобуры на начальнике милиции слышен. И вдруг в эту тишину ворвался веселый и наглый голос Попика:
— Сообразил кто-то! А я рядом с грошами был и не дотумкал! Поел бы уж конфеток, покурил бы папиросочек! Фартит же, блин, людям!..
Все! Главное сделано. Напряжение сбито.
— Помолчи, Попов, — резко обрывает мальчишку Валериан Иванович и уже без всякой надежды еще раз строго спрашивает у Толи: — Так, значит, ты не знаешь, кто взял деньги?
— Не знаю.
— М-да. Корсары! Хранители тайны! — грустно съязвил Валериан Иванович и громче объявил: — Сейчас здесь будет произведен обыск! — В голосе его проскользнул металл, и сам он подчеркнуто выпрямился, точнее, попытался выпрямиться, потому что сегодня сутулость его как-то особенно грузно давила. — Разумеется, с вашего позволения, — опять язвительно заговорил он.
— Пожалуйста! Хоть сто пудов! — откликнулся Попик, с готовностью расшивая матрац, развязывая наволочку на подушке.
Видно по всему, возня эта забавная очень по душе Попику. Малышок улыбается. Мишка Бельмастый истуканом торчит среди комнаты, а Толя приклеился спиной к подоконнику.
— Я за тебя буду распарывать наволочку? — взъерошился Валериан Иванович, и Толя подскочил к своей кровати, зашебаршил соломенной подушкой.
Деменков молча выворотил карманы, ушел в коридор курить. Он курит открыто и никому не дает «сорок», да никто и не решается у него попросить.
Заведующий еще надеялся, что кого-нибудь прорвет и ребята сознаются или выдадуг чем-нибудь себя, но вместо этого начался спектакль. Зачинателем его был Борька Клин-голова — чемпион по «жошке». Сын шалавых родителей, пьянчужек-артистов, по суду лишенных родительских прав, он и сам артист немалый.
— Все на нас! Вали! Вали! — с гневом и обидой завел Борька Клин-голова. — Мы люди брошенные! Мы люди безродные! Жаловаться нам некому… В школе на нас жмут. В кинуху не появляйся… Нигде нам ходу нет! Воры! Шпана! Такое наше званье!
— А какое б ты званье еще хотел? — рыкнул на него сдерживающийся из всех сил начальник милиции.
Как раз это и нужно было. Борька Клин-голова оскорбленно обратился к «публике», закупорившей вход в комнату:
— Видали, какое обращенье?! За людёв не считают! Матрацы шерудят! В штанах у меня еще не смотрели, во! — Борька Клин-голова мгновенно скинул штаны.
Девчонки брызнули от двери, а Борька Клин-голова, поворачиваясь то задом, то передом к очумевшему начальнику милиции, истерически кричал:
— Н-на! Ищи! Н-на, щупай!..
— Конечно, за людей не считают! — поддержал Паралитик давнего своего дружка, Борьку Клин-голову.
— Где чё ни стырят, всё на нас! — пробубнил друг Паралитика Сашка Батурин.
— Не имеет права без прокурорской бумажки обыск делать!
— Права не для нас писаны!
— Я-а-а-ави-или-ся-а-а!..
— Достоинство наше попирают, кана-альи! — бил себя в грудь кулаком Попик.
— В школу не пойдем, раз так!
— Лягавку спалим!
— Голодовку объявим, как большевики в кине! — неистовствовал Попик.
— Может, она сама, эта баба, денежки тиснула под нашу марку?
— Факт, сама!
Борька Клин-голова уже с отчаянием колотился лбом о спинку кровати:
— Утоплю-у-усь от такой жизни!
Валериан Иванович поднял штаны Борьки Клин-головы, хлестнул его по голым ягодицам и швырнул в лицо:
— Надень, паясник!
Валериана Ивановича трясло. Борька Клин-голова сразу перестал рыдать и принялся пугливо натягивать штаны, позвякивая ремешком.
Не стал ждать конца обыска заведующий, стремительно пошел из четвертой. У него прыгала лохматая бровь. В дверях перед ним расступились любопытные. Опасливо прячась друг за дружку, провожали его взглядом. Следом, не закончив обыск, отправились начальник милиции и милиционер.
— Брысь! — цыкнул он для порядка на ребят и девчонок, толпящихся в двери.
— Ладно, ладно, не пыли!.. — раздалось вслед милиционеру.
— Шароваристый больно!
— Фу ты, ну ты, ножки гнуты и дугою галихве! — прошелся, подбоченясь, перед публикой Попик, делая при этом ноги колесом.
— Денежки у своей жены поищи, в райёне пупа!
— Га-а-а!
Милиционер обезоруженно озирался и, не зная, какие принять меры, только погрозил пальцем и поспешно скрылся.
Борька Клин-голова свистнул, достал из кармана «жошку», обдул ее, разгладил и как ни в чем не бывало продолжал любимое занятие, прерванное милицией. Следом за Борькой Клин-головой шли двое счетчиков и восхищенно подводили итог. «Пятьсот пять, пятьсот шесть…» — это после бани начатый счет, а второй счетчик вел свой счет, начатый Борькой Клин-головой еще до бани: «Мильён сто двадцать! Мильён сто двадцать один…» В конце коридора этот счетчик плаксиво заныл:
— Кли-ин, я дальше не зна-аю-у-у…
— Оч плохо! Зер шлехт! — сказал Борька Клин-голова, не прекращая спорт. — Учи арифметику, рыло, а то получишь от меня лично шестнадцать щелчков.
Счетчик остался доволен таким сгоряча произнесенным приговором и поспешил к бильярду, где уже стучали шарикоподшипники об избитые борта. Шарики по два, а то и по три разом вкатывались в одну лузу.
Валериан Иванович пригласил начальника милиции в свою комнату. Эгу комнату, размещавшуюся против уборной для мальчиков, тетя Уля почтительно называла канцелярией.
— Я почти уверен, что деньги находятся у наших. Нужно время, — сказал Репнин начальнику милиции.
— Почти — это почти. Для нас это все равно, что ничего. Видите ли, тут еще одна штуковина смущает нас: кассирша почему-то не сдала в положенный срок выручку. Факт тоже подозрительный. Поэтому кассирша пока останется в кэпэзэ, а вы примете ее детей. Дома у нее никого нет.
— Как? — уставился на милиционера Валериан Иванович. — Да куда она денется? Что ее держать-то? Двое ж детей… Можно ж…
Начальник милиции поморщился:
— Ну, это не вашего ума дело. Мы сами с усами. — И, смягчаясь тоном и лицом, отвел глаза. — Не все вам равно, сто или сто две единицы будут здесь шаромыжничать?
— За последнее время участились хищения казны на предприятиях горкомхоза, — заметил молчавший до этого милиционер, — может быть, тут одна цепочка…
Но Валериан Иванович не расслышал его и про себя повторял:
«Не все ли равно? Далеко не все равно», — хотел возразить начальнику милиции Валериан Иванович, но тот уже надевал шапку и с нетерпеливой досадой поглядывал на замешкавшегося спутника. Покачал головой Валериан Иванович и подавил вздох, поняв, что возражения его бесполезны.
— Когда прийти?
— Сегодня уже поздно.
— Значит, завтра. Всего хорошего, — холодно кивнул головой Валериан Иванович и, барабаня по столу, в раздумчивости твердил: — Я приму детей… Я приму детей… Две единицы… Чертовщина какая-то!..
В детдоме гул и прибойный рокот. Валериан Иванович прислушался и похлопал себя, как женщина, по бедрам: «Ах, сукины сыны! Веселятся!..»
По детдому волнами каталась, хлестала бурная жизнь. В раздевалке шла игра в чехарду. Где-то и кому-то истово драли чичер-бачер за непотребное поведение. В красном уголке девчонки, шушукаясь, округляя глаза, судачили о происшествии и сшивали красные полотна. Ребята разводили зубной порошок, готовились писать лозунги к Первому мая. Они подрисовывали себе усы, представляя из себя разных типов, смешили девчонок, смеялись сами.
Детдом вошел в нормальную колею, жильцы его будто забыли даже и о Гошке Воробьеве и его похоронах.
Скоро ужин. У ребят будет хороший аппетит. Они подотощали за последние дни. Нынче смолотят все, что им дадут, смолотят с шугками и прибаутками. Ребята, ребята — веселый народ. А завтра придут сюда еще ребята-новички. Валериан Иванович закинул крючок на двери — не хотелось ему сегодня выходить из своей комнаты и видеть ребят. Он грузно ходил от окна к двери, от двери к окну, и тяжелела его голова от дум и безысходной обиды. И первый раз одолело его желание бросить все, уйти куда-нибудь, уехать, забыть эту работу на износ, этих безалаберных и жестоких в беспечности своей ребятишек. Да куда уйдешь-то? На кого их кинешь?.. В дверь робко поскреблись.
— Меня нет дома! — резко и громко бросил Валериан Иванович.
Две или три девчонки зашушукались в коридоре и на цыпочках удалились от двери. И оттого, что это были девчонки, Валериан Иванович подумал, что у них какое-нибудь свое деликатное дело к нему, а он вот рыкнул на них, и вернуть ему захотелось этих девчонок. Но он пересилил себя…
Глава 3
После двенадцати детдом начал утихать. В третьей комнате, правда, еще хихикали: Паралитик рассказывал похабные истории и анекдоты. Анекдоты он перевирал, оборачивал их какой-то не смешной изнанкой и любой рассказ свой пересаливал хрушкой, несъедобной солью.
Ему не верили, над рассказами его не смеялись, но слушали. Была в них для ребят, видно, какая-то нечистая запретная притягательность.
Валериан Иванович громко постучал в дверь третьей комнаты. Притихли там.
В четвертой комнате спокойно. Мимо Валериана Ивановича промчался полусонный Женя Шорников по своим делам.
В двенадцать тридцать проснется Малышок-Косоротик и пойдет по комнате, по коридору с открытыми глазами, и, если его не остановить, он полезет на подоконник и нигде не соскользнет. Дети шарахаются от него, боясь колдовства, которое, как им кажется, заключено в мальчишке. А он идет, улыбается, идет, улыбается и все старается залезть куда-то выше, дальше.
Лунатик. Ребятам кажется, что он хочет добраться до луны. Чем манит, притягивает к себе холодная, нежилая планета Малышка? — недоумевают ребята. Что там такое заключено в ней, какое волшебство?
Малышок спит. Ему спать еще пятнадцать минут. В комнате чешуится рябь от бледной ночи и еще более бледной луны, чуть пропечатавшейся в небе.
Малышок улыбается, откинувшись на подушке, вздрагивают его полузакрытые веки, и пальцы рук вздрагивают. От обычного сна он переходит в другой, лишь ему ведомый сон. Кто знает, может быть, в этом, другом сне луна покажется ему матерью? Может быть, приходит она к нему в двенадцать тридцать, подает неслышную руку и ведет за собою? И бредет мальчишка один, только ощущая прикосновение этой легкой и прозрачной, как паутина, руки. И тогда не прогоняй его сон — мальчик очнется, как от обморока, и будет весь остаток ночи плакать, а днем вид у него будет вялый, больной.
Валериан Иванович слышал как-то на войне притчу об одном тихопомешанном. Дом сумасшедших попал под артиллерийский обстрел, и больные разбежались кто куда. Неподалеку от одного больного разорвался снаряд, он внезапно очнулся и сказал, оглядевшись вокруг: «Ой, как неинтересно!» Оказывается, внутри повернутой души больного существовал совсем иной мир, сдвинутый в тишину, добрый, с райскими лесами, птицами, музыкой, красивыми женщинами.
— Анатолий! — вполголоса окликнул Валериан Иванович, наклонившись над Толей Мазовым. — Через пятнадцать минут тихо разбуди Малышка, своди умыться и уложи его обратно. Ну, ты знаешь, как это делается.
Репнин надевает шапку, пальто, выходит на улицу. Крахмалом похрустывает под валенками снег, схваченный ночной стынью. Лес низким черным забором разделил заснеженную землю и бледное в промоинах небо.
Поздние эти прогулки — самая дорогая отрада Валериана Ивановича.
Город редко и сонно помаргивает огоньками, маленький, деревянный город, а он идет, идет мимо него, и думы его выравниваются, освобождаясь от дневных сует и передряг, и сам он успокаивается, обретает душевный покой. Правда, и покой его был не очень-то покойным. Он все равно не может отделаться от мыслей о детдоме, о ребятишках, что остались там, дома, и спят себе посапывают. Иной раз слабым проблеском памяти выхватит что-либо из прошлого, и дивуется он сам себе: «Неужто и у меня детство было? Смешно!» А ведь было, было. Только так его уже забаррикадировало потом, что ничего путного и не припоминается. Жизнь получилась длинной, доверху наполненной событиями, и такими событиями, которые, как гранитная осыпь, завалили все. Память не сберегла детства. Как жаль! Как жаль! Он бы сравнивал его с детством своих ребят и, может быть, лучше понял бы их.
Отчетливо помнились годы ученья, студенческая труппа, огни Царского Села и театр. Он очень любил Александринку, любил оперы «Трубадур» и «Аида», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов». Почему-то больше всего потрясал его «Демон», а в «Демоне» — хор «Ноченька».
Он как-то приобрел уже здесь, в Краесветске, пластинку, взял у ребят патефон и весь вечер сидел, запершись на крючок, заводил хор «Ноченька» и никого к себе не пускал. И тогда, в тот вечер, вытирая глаза платком, он вдруг почувствовал, что стариком успел сделаться не по летам, а душою старым, и еще понял, что сладкая грусть воспоминаний очищает человека и счастлив тот, кому есть что вспомнить хорошее.
Его хороших воспоминаний достало лишь на один вечер, и он вернул ребятам патефон вместе со своею пластинкой и вскорости обнаружил черные осколки этой пластинки за дровяным сараем, куда выносили мусор из дома.
Ребята разбили «Ноченьку».
Ему нечего было б делать на этом свете, не о чем вспомнить, если б он вдругорядь не родился на свет.
Посодействовал ему в этом комиссаристого вида следователь в кожаной куртке. Молодой, напористый, правый в словах, деяньях и убеждениях своих.
Вместе со многими белыми офицерами отпущенный после гражданской войны на все четыре стороны, Репнин болтался по Сибири, пробавляясь случайной работой. Одно время работал даже в иркутском театре хормейстером и чуть было там не женился. Но в годы нэпа бывшее офицерье и прочие недобитки прошлого начали поднимать головы, тайком потекли за границу. Тем офицерам, что не убежали, надо было пройти строгую проверку.
Веди себя посмирней на проверке Репнин, может быть, и не попал бы он в ссылку, но он орал на молоденького следователя, который с подковыром интересовался, почему это он остался здесь и не уехал за границу? Какие такие дела его тут задержали?
«Моя земля здесь! — указал себе пальцем под ноги Репнин. — За границу мне ехать незачем и не к кому. А если вас не устраивает мое общество, катитесь ко всем чертям!..»
«Твоей земли тут нет, контра! — хряпнул кулаком по столу следователь. — Твоя земля тама! — махнул он себе за спину: — И ты ее усвоишь!..»
Он так и сказал: не «освоишь», а «усвоишь». В этой маленькой замене слов оказался большой резон и свой смысл.
Репнин «усвоил». В этом новом, далеком городке он знает любой барак, любую улочку со своей недолгой, но особенной историей и помнит прожитые здесь дни в едином сплаве, а не по отдельности.
Люди, съехавшиеся сюда, распределялись по землячеству. Сообща легче было жить и работать. Они строили. Строили быстро, строили как попало, строили ордой, подгоняемые зимой, стужей и цингой. Поэтому в скородельных каркасных бараках зимою начали проваливаться в тартарары печи. «Отдавала» мерзлота. Весною не только печи, но и сами бараки загуляли, поэтому следующие дома уже ставили на сваи, вытаивая для них дыры паром и горячей водой. До всего доходили своим умом люди, вырабатывая нелегкий опыт заполярных строителей.
Первые бараки были особенно скособочены, изверчены. Потом шли дома и бараки-смесь, под номерами — первый, второй, третий, двухэтажные, из бревен, на сваях, с внутренней лестницей. Такие бараки стояли прочнее, и вид у них был бравый.
Магазины тоже назывались по-разному и без лукавства: где кто отоваривался по карточкам, когда они еще были, такое название и получилось. Не изменилось лишь название у первого магазина, он так и звался — «Первый». Когда-то он был единственным и в нем отоваривались все без разбора.
Самый знаменитый барак в городе был номер десять, или «Десятая деревня». Знаменит он прежде всего тем, что из двухэтажного постепенно превратился в трехэтажный. Кто-то додумался на чердаке барака приколотить к слегам и поперечинам второй слой досок, набил меж них опилок, прорезал в крыше окно, огородился, и получилась комната с печкой.
Не успели власти опомниться и принять меры, как весь чердак барака был уже в окнах, в комнатах, и с двух сторон к нему, точно на корабль, сооружены сходни. Обитатели «Десятой деревни» делали нарты, сооружали мебель, подшивали валенки, выделывали шкурки, крали у соседей дрова, играли в карты, пили, дебоширили, дрались, резались, варили самогон (говорят, даже из опилок!), подделывали справки (говорят, даже паспорта!), пели песни и плясали так, что из засыпных стен барака облаком клубились опилки. В бараке часто случались пожары, обыски и разного рода тревоги. Милиционеры заглядывать туда в ночное время боялись и даже днем поодиночке в него не заходили.
От тяжести «Десятая деревня» просела, расползлась. Ее подперли со всех сторон бревнами. Окна в бараке вывалились наружу, ушли вбок, и весь он был как пьяный. «Десятую деревню» плотным кольцом окружали поленницы, дровяники, сараи и сараюхи, и оттого много вокруг нее хитроумных закоулков, щелей и переулков.
Ребятишки здесь жили один шпанистее другого, здесь же обитал атаман городской шайки — Слепцов. В народе — Слепец. Вели здесь тайные дела и гулевые бабы. Они залучали моряков с иностранных кораблей к себе и «позорили советскую честь», как однажды сказал на собрании председатель горисполкома.
Город тогда еще лепился на берегу протоки и неглубоко еще врубился в лесотундру. Но лесозаводы и лесобиржа уже выпускали древесину краесветскую продукцию. Репнин складывал в штабеля пиломатериалы, доска к доске, плаха к плахе, брус к брусу, и видел город, дома, раскиданные по буграм, в обход озерин и болот. Болота, мари, озера, багульник, карликовые березки, стелящийся ивняк, голубичник, пушица, огнистая морошка и целые пустоши, захлестнутые травой-кровохлебкой. Кровохлебка эта, с шишечками, похожими на пересохшие капли крови, пятнает низины до самых крутых утренников, а все другие веточки и травинки жмутся к земле и дышат, дышат себе под корень, отогревая для себя кружочек заледенелой глины или мокрого торфа.
Все в жизни наоборот. Надо бы южной растительности ложиться на обогретую землю, добрую, изнеженную, так нет же: пальмы, кипарисы, чинары рвутся вверх, прочь от взлелеявшей их нежной, теплой матери-земли. Надо бы взмыть к солнцу, на цыпочки подняться хилым северным растеньицам, а они жмутся к груди земли, греют ее своим еле ощутимым дыханьем, не дают загаснуть живым, только им и слышным токам.
И что тянет сюда птиц? Что?..
Почему они не живут в тепле и довольстве юга? Почему через поздние зазимки, через многие версты и невзгоды, через смерть они спешат сюда и здесь успокаиваются, продолжают птичий род свой, восполняют поредевшие в пути табуны? Чем притягивает к себе живое эта почти мертвая земля? Может быть, все живое, и городок этот далекий, возникли по исконному мудрому закону жизни, не по прихоти, а именно по закону. Город такой здесь нужен. Но город поднимается не ради города, не ради той прибыли, которую он дает государству, торгуя с иностранными державами.
Если бы не было смысла, город был бы только ссылкой для заключенных и раскулаченных переселенцев. Но в Краесветске половина, если не больше, жителей вольных, приехавших по своему желанию, и, обживая Север, оттаивают они мерзлоту дыханием своим.
Поднимаясь завершать штабель, Репнин видел город то занесенным по трубы сыпучим, как манка, перекаленным снегом, то стоящим по окна в весеннем разливе, то заплеснутым огромным солнцем и птичьими голосами, то закутанным в неподвижный туман.
Перемены здесь всегда резки, зримы.
Зима.
Редкий лесишко еще реже и бедней, а ближе к городу совсем бело: лес покрупнее вырублен из противопожарных соображений, а карликовые березки, тальники, леторосные всходы хвойника в глубоких сугробах.
Весна.
Искрится снег, и тайга худосочная отодвигается, сизеет, небо выше, видно дальше. На вырубках снег в серых пятнах, выступает наледь на озерах, потеют торфяники на марях, и расплющенные кустарники, спутавшись меж собой, как проволока, выпрастываются из-под снега один по одному: отбедовали зиму вместе — и хватит.
Потом несет все в озера, в болота, в реку, и сама земля вокруг города на короткое время подернется водой, и тогда уж кажется, что Краесветск плывет куда-то к морю-океану и ни к какому берегу прибиться не может.
В пору великого разлива и буйства, когда все куда-то с шумом плыло, спешило, металось, пело. бурлило, Репнин обычно переселялся в портовый лазарет — с сердцем у него бывало худо.
Может, оттого, что смерти не боялся, — выживал.
Лето.
По всей бирже ходит смоляной дух ангарской сосны. От марей и болот тянет парной, тинистой вонью. Но люди работают в брезентухах и в тюлевых черных сетках — заедает комар. Репнин поджарый, сухой делается. В костях у него легкость, будто у излетавшейся старой птицы. Поднимется на штабель, уложит плаху и вздохнет раз-другой. Торопиться некуда, да и воздух тяжел. От штабеля скипидаром разит так, что щиплет глаза. Болотная прель сгущает воздух, и без того густой от комаров и забродившей в сырости древесной коры.
За городом все замерло, померкло, сморилось — от мелкого куста, свесившего листья, до малой пичуги — трясогузки, открывшей клюв. Все ждет ветра, любого ветра: северного или южного — верховки. Лучше верховка. Она прилетает резвая, сбивая воду на протоке в толкунцы, переполненная духовитостью российского сенокоса.
Долой брезентухи! Долой накомарники! Работается весело, и жизнь не так уж плоха, и лето заполярное не так уж гнило. Правда, сено не высыхает, его кладут на подстава и крестовины или присаливают. Правда, в начале сентября уже дохнет снегом и пароходы сделаются раздражительней, нетерпеливей, спеша убраться в обжитые края. На бирже и на морпричалах начинается аврал. Но это потом. Это когда еще будет!
Все кончается всегда вдруг. Вдруг не станет больших пароходов, улетят птицы, и на протоке сделается просторно, а местные пароходишки и катера как неприкаянные болтаются, и если гуднут иной раз, то коротко, вполгорла чего ж без дела-то орать?
Из-за болезни на бирже работать Репнину стало трудно, и было предписано врачами «сменить климат».
В комендатуре и поспособствовали ему насчет легкой работы — направили кладовщиком в только что открытый детприемник.
Город был новый, и все в нем было новое: заводы, дома, магазины, пристани, школы, больницы. Но, как и во всяком новом городе, в Краесветске не планировалось строительство тюрем, домов инвалидов, исправительно-трудовых колоний, детприемников. Все это возникало само собой.
Кладовщиком Репнин пробыл недолго. Детприемник расширялся. Одна воспитательница уже не могла справиться с работой, и достаточно присмотревшаяся к своему кладовщику заведующая детприемником Ольга Ивановна Полякова попросила перевести его на должность воспитателя.
Его вызвали в гороно и предложили — именно предложили — работу воспитателя в детдоме. Он никогда не имел семьи, детей, и все это показалось ему неспроста. «Если не подвох, то издевательство, определенно издевательство». Но привычка воспитанного человека уважать просьбу сделала свое дело, да и кладовщицкие обязанности ему надоели.
Не менее настороженный и угрюмый, чем ребята, предстал перед ними Репнин. Только разницу между собой и ребятами он почувствовал сразу.
С кладовщика какой спрос? Ребята почти и не знали его. Он постригся. Сшитый из холщовых мешков и покрашенный черной краской костюм починил и отутюжил. Ребята не давали ему никакого спуска. Он был старший, он был воспитатель, а остальное их пока не касалось.
Детприемник разрастался и разрастался. На «птичьих правах» он уже не мог существовать. Нужно было по всем правилам и законам открывать в городе Краесветске детский дом. А раз по всем законам, значит, должно быть у детдома постоянное помещение, имущество и прочее, прочее, прочее…
Первая группа беспризорников сколотилась давно. В цинготных бараках, на чердаках, по конным дворам и гаражам хозяин города Ступинский еще в зиму с тридцатого на тридцать первый год собрал больше десятка ребятишек и держал их у себя в квартире. Кормились они в военной столовке, а спали на полу в ряд, и Ступинский вместе с ними спал, подальше упрятав наган.
Ступинский же хлопотал и об открытии детприемника, чтобы прибрать детей на зиму, а весной с первыми пароходами разослать их по детским домам на Большой земле, или, как зовут тут, на магистрали. Но там, видно, и своих сирот хватало, краесветских никто не принимал. Ступинский начал донимать райком, райком — область, область — еще кого-то, и сироты получили жилье.
Хозяйством занималась заведующая Ольга Ивановна Полякова, старая добрая учительница. Ей помогал в делах добровольный отец детдомовцев Ступинский. Вместе с воспитательницей Екатериной Федоровной, женщиной мастеровой, но малоподвижной, Валериан Иванович приводил детей в божеский вид.
Как и когда сделался он нужным детдому, а детдом ему, Валериан Иванович не успел заметить.
И вот туг начались перемены: заболела Ольга Ивановна, и ее в тяжелом состоянии увезли на магистраль.
На должность заведующей с магистрали прислали женщину по фамилии Хлобыст, со специальным образованием, напичканную лозунгами и какими-то новыми методами воспитания детей. Человек она строгий, солидный, но в детдоме никогда не работавший. В очках, под которыми мерцали ее огромные, с лешачинкой глаза, отутюженная, важная, появилась она перед детдомовцами и поначалу повергла их в трепетное изумление. И держаться бы Нениле Романовне так вот строго, солидно, однако зудила образованность, и она стала воспитывать детей по какому-то выученному назубок «мэтоду», ничего не прибавляя к нему от себя.
И пошло-поехало…
Вызнав бесхарактерность заведующей, скрывавшуюся за важным ее видом, ребята вплотную занялись Ненилой Романовной. Валериану Ивановичу день ото дня становилось все труднее сдерживать их. Чем только могли, тем и донимали ребятишки заведующую. Особенно одним дурацким стишком — увидят ее, глаза в потолок и заводят: «Тетушка Ненила лесу попросила на ремонт квартерки…»
Были у ребят в доме свои заделья, привычки и привязанности. Любили, например, они чистить картошку и есть ее сырую, страсть как любили.
Чистят и хрумкают, а в плите дрова потрескивают. Тетя Уля хлопочет на кухне, кастрюлями гремит да ворчит. Поскыркивают картофелины, булькают, падая в бачок с водой. За окном фокусничает северное сияние, в трубах ветер завывает, и это завывание смешивается с гудом лесозаводов. Занавески на окнах колышутся от ветра — в столовке выстыло. В доме тишь и темнота, а на кухне теплынь, уют и полное миролюбие. Растет гора очистков в ржавом бачке. Пахнет резко, спиртовато. На плите что-то шипит, из духовки пахнет сухарями — это тетя Уля, не раз голодавшая в жизни, подбирает все кусочки и сушит их, а потом выдает ребятишкам по горсти вместо лакомства или готовит суп-сухарницу, простенький суп, но такой вкусный, что за уши от него не оттащишь.
Хорошо работается на кухне и думается хорошо. Для большего уюта кошку завели. Днем она спасалась от мучителей на чердаке, а ночью возвращалась на кухню и терлась у ног, мурлыкала и тоже ела сырую картошку — ребята приучили.
На кухне говорили тихо, говорили о хорошем, все больше о родителях. И такие они у всех были замечательные, что ребята, не помнившие своих матерей и отцов, страшно завидовали тем, кто их помнил или выдумывал. И дом родной непременно представлялся ребятам — будь он хоть в деревенской избе, хоть в бараке — бесконечно дорогим.
Валериан Иванович забредал «на огонек», как он говорил с несколько смущенной улыбкой, и тоже рассказывал про разное, ел картошку с ребятами и удивлялся:
— Никогда не думал, что сырая картошка может быть такой вкусной! Вот какой наш человеческий организм привередливый! Надо ему — вкусна и картошка обыкновенная. Не надо — и банан покажется горьким. — А что такое банан? спрашивали ребята.
— Банан? М-да. Как вам объяснить? Весной у тальников отрастают побеги, и я видел — вы их охотно жуете. По вкусу они напоминают банан.
— Н-у… А мы-то думали!..
— Я ж толкую вам — напоминают. До бананов тальнику, разумеется, далеко, но все же…
— А мы нот турнепс на острове тырили, и его тоже бананами называют. Похож, что ли?
— Фантазия ваша. Меня из-за этого турнепса когда-нибудь привлекут. А вас, чего доброго, и подстрелят.
В кухне можно было говорить обо всем, даже о проказах. И ребята откровенничали, вспоминали, как они летом делали пиратские налеты на опытные грядки с турнепсом, в совхоз, на остров. Грядки высокие на подушке мха. Почти у каждой грядки сторож охраняет редкий «фрукт» — турнепс. С километр ползут ребята на брюхе, в кустах выжидают. Как зазевается сторож оравой бегут на грядки, выдергивают кто сколько может турнепсин — и в лодку. Сторожа палят по ним, аж дробь по воде брызжет. Но «пираты» жмут на весла и уходят к другому берегу. Там уж торжественно лакомятся «фруктой», отрезая по тоненькому пластику всем.
Нет ничего вкуснее этого турнепса, и потому его зовут невиданным фруктом — бананина.
— Бананина! — вздыхает Валериан Иванович и причмокивает губами. Ребятишки вы, ребятишки… Когда-нибудь узнаете, какие на свете фрукты растут, и смеяться будете над тем, как с бою брали турнепс — кормовой овощ. Его ж коровам да свиньям дают.
— Хорошо им! — завидуют ребятишки.
— А, чтоб вам! — смеется Валериан Иванович. — Зато им компот не дают, макароны не дают, сгущенное молоко не дают.
— Это верно, не дают, — соглашаются ребята. — Нет, нам лучше. Нас если городская шпана не забьет, мы столько лет жить будем!.. А свиньям осенью нож под ребро. Н-не, пусть, уж мы тут будем, а они там. Турнепс мы у них упрем! Запросто!
Валериан Иванович хохочет вместе с ребятами. Все довольны друг другом, болтают, времени не замечают. Первым обычно спохватывается Репнин. Подслеповато сощурившись на ходики, он изумленно восклицает:
— О-о! Двенадцатый час! Спать, спать! Доброй ночи, Ульяна Трофимовна! Не задерживайте больше дежурных, — и уходит, мешковатый, обмякший и до приятности понятный и близкий.
Тетя Уля после таких вот посиделок обычно оставалась ночевать в детдоме. Спала у девчонок. Перетащит какую-нибудь девчушку к другой такой же девчушке, укутает их, постоит над кроватью, побросает на грудь крестики И ложится с одним и тем же вздохом: «Ох-хо-хо, дети вы малые, души милые!..»
Ненила Романовна однажды желчно заметила Репнину по поводу этих посиделок на кухне:
— Приспосабливаетесь!
На это Валериан Иванович с плохо скрытой иронией ответил:
— Видите ли, Ненила Романовна, человек с начала своего сотворения только то и делает, что приспосабливается. Да, да. К природе, к Богу, к раю, к войне, к жене, к детям, к квартире, к соседям, ко всему на свете. Человек, видимо, только потому и жив, что смог приспособиться, а то бы вымер.
Ненила Романовна пристально посмотрела на Репнина, ушла в канцелярию и издала письменный приказ, запрещающий дежурным задерживаться на кухне после отбоя. Тете Уле за «использование воспитанников в корыстных целях» объявлен был выговор. И поревела же тетя Уля, сроду не получавшая никаких выговоров в письменном виде!..
Вслед за этим запрещением последовало еще одно, вовсе разозлившее ребят и Валериана Ивановича, хотя он и не принимал всерьез ни самое Ненилу Романовну, ни ее «мэтоды», ни грозные письменные приказы. Как-никак он был когда-то офицером, приказов куда более грозных видел много.
Пришел он в один из зимних скучных вечеров в четвертую комнату с томиком пьес Островского и прочитал «На бойком месте». Вспомнив молодость, кое-что даже сыграл.
Сначала в комнате было человек шесть. К концу пьесы набилось столько народу, что уже некуда было сесть. Ребята поражались не столько пьесе, сколько воспитателю. Из угрюмого, всегда насупленного, медлительного человека он вдруг превратился в озороватого подгулявшего купчика.
Ребята хохотали, тыкали друг друга в бока, показывая на незнакомого Валериана Ивановича, и просили почитать еще что-нибудь такое же. И он стал читать и рассказывать ребятам о Москве, и, когда сказал, что ради хора «Ноченька» четырнадцать раз слушал оперу «Демон» и всякий раз плакал от восторга, ребята прониклись особым к нему почтением. Непонятность всегда почему-то привлекает детей.
Запретила Неиила Романовна и читки, сказав, что несолидно воспитателю паясничать перед воспитанниками.
Плюнул Валериан Иванович с досады, буркнул даже грубость какую-то и перестал раскланиваться с Ненилой Романовной.
Оставшись один на один с ребятами, Ненила Романовна решила идти на них в открытую, но сама была опрокинута.
Рыба-омуль сделалась причиной тому.
Ребят стали кормить прокисшим омулем с картошкой. Поначалу картошку и омуля в «сиговом засоле» ребята ели, переделав, правда, слово «сиговый» в «фиговый». Потом начали оставлять по половине порции на тарелках, после и по всей порции. Пили один чай, таскали хлеб в карманах. В комнатах появились тараканы. В конце концов нарисовали ребята черную метку, точно как в кинокартине про пиратов, — череп с костями, и сунули в карман заведующей. На метке красным карандашом написано было: «Омуля долой!» На этот ультиматум Ненила Романовна ответила со всей решимостью. Во время обеда она потребовала тишины.
— Что дают, то и есть будете!
Утром снова омуля дали. В столовке накалились страсти, возбужденно ожидались события. Чуть разрумянившаяся от мороза Ненила Романовна торжественно вплыла в столовую и как ни в чем не бывало произнесла:
— Здравствуйте, дети!
Ей никто ничего не ответил. Она не удивилась и не обиделась. Голос ее сделался еще ласковей и мягче.
— Как вам понравился завтрак?
— Лови!
Правое очко Ненилы Романовны залепила горячая картошка.
— Во, блин! Вляпал кто-то! — восхищенно прошептал Попик. Ворошиловский стрелок!
Ненила Романовна схватила очки, потряхивая кофточкой, за которую попали картофельные крошки, и, шаря близорукими глазами по слившимся в единое пятно столам и ребятам, кричала:
— Шпана! Вас не в советский детдом надо, вас всех в кэпэзэ надо…
— А что такое кэпэзэ? — невинно спросил Борька Клин-голова.
Все затихли, ожидая ответа на коварный вопрос. Ненила Романовна ничего не понимала со злости, дуром лезла в ловушку.
— Ты, балаганный клоун, со временем обязательно узнаешь, что такое кэпэзэ!
— Я и сейчас знаю! — обиделся Борька Клин-голова. — Кэпэзэ — это Красноярский пивной завод.
— Га-а-а-а!
В это время с возгласом «Прекратить!» ворвался в столовую Валериан Иванович. Его отыскала тетя Уля и панически сообщила, что дамочку вроде бы уж приканчивают. К большому сожалению ребят, он не дал развернуться дальнейшим событиям и увел Ненилу Романовну Хлобыст из столовой.
Ненила Романовна разрыдалась в комнате Валериана Ивановича. Он подал ей капель, утешал как мог.
— Ну что я им плохого сделала? Что-о? — жаловалась Ненила Романовна, раскудлатившаяся, зареванная.
По носу Ненилы Романовны непрерывно бежали слезы, накапливались в бороздках и оттуда обрушивались в перекошенный рот. Ненила Романовна захлебывалась слезами. Нечасто, видно, в своей жизни ревела она, и слез у нее накопилось много.
Валериан Иванович наблюдал за ней, уговаривал и хмуро думал, что эта милая особа покинет детдом и ему, хочешь не хочешь, одному придется утихомиривать подраспоясавшихся ребят, потому что Екатерина Федоровна все шьет да вышивает, а Маргарита Савельевна только-только перешла в детдом из избы-читальни и умеет пока красиво делать пионерский салют да декламировать Маяковского.
Тихо и сконфуженно убралась Ненила Романовна в гороно на должность инспектора. Репнин остался с ребятами в тесном, перенаселенном барачишке и волей-неволей сделался заведующим. Вскорости детдому отдали старое помещение четвертой школы на окраине города. Ребята разместились в бывших классах, заведующий — в учительской, и стали они жить-поживать да Ненилу Романовну потихоньку забывать.
Глава 4
Но прежде чем Валериан Иванович утвердился в должности заведующего, он побывал у Ступинского на «чашке чаю». Так и сказал Ступинский: «Заверните-ка на чашку чаю ко мне». Валериан Иванович усмехнулся, вынул из футляра очки, протер их, водрузил на место и, не гася язвительной улыбки, колюче глянул: «Как вам будет угодно».
Жил Ступинский неустроенно, по-бобыльи. В комнате с глухой, а не дощатой перегородкой, какие были во многих домах, железная кровать, по-солдатски заправленная байковым одеялом, стол, накрытый газетой, доска с книжками, висящая на проволоке; почти пустой посудный шкаф с вырезанным на дверцах сердечком, и совершенно независимо на простенке висел телефон с железной ручкой. Обстановка дополнялась еще кой-какой мелочью, сразу в глаза не бросающейся: фотокарточка старой женщины — должно быть, матери Ступинского, на крашеном угловике зеркало в деревянной оправе с железной подпоркой, бритва-безопаска, заряженная ножичком, расческа и замысловатый заграничный флакон с одеколоном.
Портретов на стенах не было. Висел лишь посеревший от времени круглый репродуктор и фотография, на которой стояли, сидели и лежали на боку курсанты в буденовках и галифе. Среди них, видимо, был и Ступинский. Но Репнин издали различить не мог, а утыкаться носом в фотографию посчитал неудобным. «Мог бы и поприличней жить комиссар, — подумал Валериан Иванович. — Подчеркивает бытом пролетарский дух свой, небрежение благами. Мы, мол, как все».
А Ступинский, проследив за взглядом Репнина, почесал затылок и подобрал рукою волосы.
— Живу, понимаете, как на вокзале. Уж извините, — и еще почесал затылок. — Жениться надо, устраиваться, а все недосуг.
Репнин не поддержал этого разговора. Он сидел прямо, твердо и ждал. Ступинский пошуровал в плите, стоя на одном колене, подул, и у него покраснели уши, шея. Нехотя загорелись дрова, и плита задымила в кружки и щели.
— Вот еще дымить стала, кирпич, что ли, в трубу упал? — пробормотал Ступинский и обескураженно поглядел на плиту, исполосованную струями дыма, затем перевел взгляд на заплесканную газету, приколотую сзади умывальника, и отвернулся.
— Так что ж, Валериан Иванович, — поднявшись с колена и отряхивая брюки, заговорил Ступинский. — Удивились? — Репнин вопросительно вскинул брови. — Сознаюсь, это я посоветовал назначить вас завом, — пояснил Ступинский и тут же признался с улыбкой:
— Ничего не поделаешь. Приходится и недорезанных буржуев привлекать к воспитательной работе. — Он развел руками и располагающе посмотрел на гостя. Но Репнин и на этот раз не поддержал ни тона, ни улыбки коменданта. А тот продолжал с настойчивой доверительностью: — Недостает нам в Заполярье интеллигенции. А которая есть — несерьезная какая-то, культуры ей не хватает. Скороспелка, она и есть скороспелка.
— Поспешность нужна при ловле прытких насекомых, а ее употребили на усекновение русской интеллигенции, которая вырастала веками на нашей твердой российской почве!.. — высокопарно, с расстановкой произнес Репнин, но сию же секунду понял — получилось это у него неуместно, грубо, совсем не тот тон предложил ему Ступинский. Все же он в гостях, и вести себя так неприлично, и надо впредь следить за своими словами и не слишком нервничать и смущаться.
Ступинский достал из шкафика чайник и тем заполнил неловкую паузу.
— Может быть, вы и правы, — расстилая на столе свежую газету сказал он. — Что у нас распорядились со старой русской интеллигенцией круто — вы, видимо, судите по себе, на примере своей судьбы? — уточнил Ступинский.
— Вы что, на откровенность меня вызываете? — усмехнулся Репнин. Напрасно. Все, что я думаю, могу высказать кому угодно и где угодно! резко, с вызовом объявил он и поерзал на стуле от волнения.
— Кому угодно и где угодно не следует — не то время, — заметил Ступинский и поставил на стол два стакана с блюдцами, початую банку варенья, тарелку с ломтями белого хлеба. — А в том, что вы храбрый человек, я, например, нисколько не сомневаюсь. — Ступинский обвел взглядом небогатое убранство стола. — Прошу! — сделал он широкий жест, будто и не заметив, что Репнин покраснел, как мальчишка.
«Господи, какой я вздор мелю! — пододвигаясь к столу, подумал Валериан Иванович. — Неужели я в самом деле боюсь? Но чего же мне бояться?»
— Вам погуще? — услышал Репнин и быстро закивал головой:
— Да, да, люблю, знаете ли, погуще…
— Долго проживете! — басисто прогудел над ухом Ступинский.
Они пили чай в молчаливой сосредоточенности. Ступинский хмурился.
Лицо его, густо-смуглое, с ямкой на продолговатом подбородке, с крылатым носом, как-то уж очень не уживалось со светлыми бровями, и белесыми ресницами, и прямыми, соломенно рассыпающимися волосами. Казалось, на Ступинском надет парик, а брови и ресницы приклеены. Зато глаза, как говорят ребятишки, чика в чику — серые, глубокие, пристальны и задумчивы. Тревожные мысли метались в этих глазах. И весь он был словно бы на постоянном взводе: чудилось, вот-вот сейчас, сию минуту готов он вскочить, побежать куда-то, чтобы сделать очень неотложные дела.
«М-да! Неспокойная служба у тебя, гражданин-товарищ, — отметил про себя с иронией Валериан Иванович, позвякивая ложечкой. — А вообще, любопытно: комиссар и бывший офицер, смертельные, так сказать, враги, совместно гоняют чаи и подкарауливают один другого».
Впрочем, любопытные эти странности случались с Валерианом Ивановичем в последние годы довольно-таки часто. Недавно ходил он с ребятами смотреть кинокартину «Чапаев», и то ли потому, что все происходило хотя и в хорошей, но все же в картине (чудно только было Репнину смотреть на несколько театрализованных офицеров, на «психическую», очень уж эффектную атаку и не менее эффектное разбитие ее), то ли он проникся настроением зала, но ему тоже хотелось, чтоб Чапай доплыл до другого берега Урала, и он вместе со всеми зрителями горевал, когда тому спастись не удалось…
В картине той был тонко сыгран, будто из доподлинной жизни вышел, офицер, игравший сонату Бетховена на рояле. Он тут же за роялем и приказ утвердил о наказании Митьки, брата покорного денщика своего, Петровича.
Вот такие тонкие «музыканты» и распалили гражданскую войну, втянули в нее простофиль вроде него, Репнина, пролили реки русской крови с помощью чужаков и заграничного оружия. Такие, а не те карикатурные офицеры, крикливые, с приклеенными усами, которых так потешно изображали и копировали ребятишки: «Запор-р-рю, кана-а-альи!.. Кр-р-рю-гэм, немытое р-р-рыло!.. Ар-р-рестовать!..»
Валериан Иванович, побрякивая ложечкой о стакан, неожиданно для себя начал рассказывать, как он смотрел с ребятишками «Чапаева», поглядывая при этом на Ступинского, словно бы проверяя, как тот отнесется к его рассказу. Хохотал Ступинский до слез, когда Репнин начал изображать, как уморительно ребятишки копируют киношную контру.
— Значит, крюгэм? Ар-рестовать! А, чтоб их! — махнул рукой Ступинский. — Вот бесенята! Дают они вам жизни, наверно?
— Да еще как! — прогудел Репнин, и разговор у них пошел проще.
С кино переключились на другую тему — говорили о первых годах строительства, а потом опять невольно перекинулись к воспоминаниям о войне. Ступинский полюбопытствовал, как же, мол, Репнину, потомственному дворянину, представлялась революция, в каком виде?
— А как? Трудно даже сейчас и вспомнить. Анархия! Конец света! Я ведь, кроме всего прочего, вырос в семье еще и патриархальной, богомольной. Это тоже кое-что значит. М-да… А революция ближе всего моему пониманию была изображенной на одной картине спившегося провинциального художника. Я ее видел… Э-э, постойте, постойте… Кажется, в Вологде видел…
Она сразу же всплыла перед ним, эта картина, писанная крупными мазками, нервно писанная, талантливо. На картине белая лошадь, телега старая, с белыми березовыми кряжами, и брюхатая баба в белой кофте, сдерживавшая туго натянутыми вожжами лошадь. Черное небо потрясло и раскололо острием огромной хвостатой молнии. Гриву лошади разметало, захлестнуло челкой один глаз. Воз с резко белеющими во вспышке молнии березовыми кряжами напер на лошадь, почти снял хомут с нее. Лошадь ржала во весь оскал, и в глазу ее был человеческий ужас. Зажмурившись от страха, кричала во тьму и брюхатая баба, обнажив белые полосы зубов. Кофта лопнула. Виден был запутавшийся гасник с медным крестом на белой мощной груди, перепруженной вызревшими силами будущей матери. Впереди угадывался провальный обрыв. Гужи вот-вот лопнут, и все — и белая лошадь с расхлестанной гривой, и баба, брюхатая, некрасивая, одинокая в этом клокочущем мире, — будут столкнуты возом под обрыв и смяты…
У картины было название: «Революция».
— Меня тоже взяло в оборот, как ту женщину, бурей ослепило и оглушило. — Ступинский умел хорошо слушать. Он даже рассыпающиеся волосы не подбирал, так и сидел, чем-то отдаленно напоминая русского мастерового, стриженного под кружок. — Адмирал Колчак, должно быть, за исполнительность мою или Бог его знает за что, ценил меня, и, когда потребовалось сопровождать за границу эшелон с архивами и другими ценностями, меня включили в группу охраны эшелона особой важности. — Валериан Иванович прервался на какое-то время, молча отпил несколько мелких глотков из стакана и, уже как будто сожалея, что разоткровенничался, торопливо закончил: — Ну дальше вы все знаете. Перехвачен был эшелон на одной из сибирских станций. Я сопротивляться решил. Ничего из этого путного не получилось. Стукнули меня прикладом по башке — вот и вся история. Может, и расстреляли бы, да командир отряда красных не велел: пусть, мол, отчитается за украденное народное добро! Да-а, никогда мне не забыть, как сидел я на той станции, зажав разбитую голову, а передо мной, будто наяву, стояла и кричала во тьму та женщина. Гужи лопнули, воз обрушился. Российскую казну, думал я, растащат мужики по карманам, архив по ветру пустят или на костер… И всю мою землю горемышную ветром развеет.
Ступинский ровно бы ждал продолжения рассказа. Валериан Иванович тихо помешивал ложечкой в стакане и смотрел, не отрываясь, в стылое серое окно. Ступинский загреб пятерней волосы, обнажив угловатый, смуглый лоб, неторопливо размял папиросу, но прикурить не успел. Словно на железнодорожной станции, резко задребезжал телефон. Валериан Иванович аж вздрогнул от неожиданности и плеснул из стакана чай на брюки.
— Сплю мало и оттого крепко, — снимая трубку, пояснил Ступинский. Вот мне наладили такую трещотку, которая мертвого разбудит. Слушаю. Да, Ступинский. Да, на дровозаготовках. Да, для пароходов. Да, доверяю… Отвечать? Отвечать я буду. Да, уверен. Никуда они не денутся, зато поселок новый заложат. Да-да. Когда кончатся лесозаготовки? Совхоз будет. Ну, какой? Зверосовхоз или овощной. Фантазия?! Скоро мы начнем садить свой картофель. Свой, понимаете? Кто вывел? Агроном в совхозе, ленинградская женщина. Герой! Ходатайствуем об ордене! Дело ваше! Нет, не отменю! Не отменю…
Закончив телефонный разговор, Ступинский достал другую папиросу, так как прежнюю успел растереть в пальцах, закурил и задумчиво произнес:
— Оказывается, вы причастны к делу с государственными ценностями? А я грешным делом недоумевал: за что, думаю, вас сослали? — Он все еще не отделался от телефонного разговора, мял папиросу, хмурился, делая паузы в разговоре: — Большинство же офицеров были отпущены после войны на все четыре.
— Да и меня тоже отпустили. Чего даром кормить. Но потом я так устал мотаться без определенного дела, без дома, что схватился с мальчишкой-следователем, надерзил ему…
— А-а, небось успели убедиться, что мальчишки сами дерзить любят, а чтобы им ни-ни…
— Убедился, — улыбкой на улыбку ответил Репнин. — Но я не об этом. Я, в конце концов, благодарен ему. Наслышан был, как вели себя за границей высокопоставленные российские кутилы. Они б тряхнули тем эшелончиком. И я, попади вместе с ними, уж точно запутался бы окончательно.
— Казна пошла на возрождение России. — Ступинский подался к окну, попытался выглянуть, но окно уже давно и толсто обмерзло. Он механически задернул занавеску, и Репнин понял, что разговор по телефону все-таки сбил его с мысли, с начатой беседы и он снова пытается попасть в тон, вернуться к теме. — Из пепла и развалин поднимались. Каждой крошечкой дорожили. Только вот поднялись, передохнуть бы. Некогда. Работаем, забывая о себе, о своем уюте, спешим сделать за десятки лет то, на что века требовались. На эту вот тему побеседовать и позвал вас. Оттуда, — показал Ступинский на телефон, — распоряжаются громко и охотно, а вот специалистов только на заводы да в порт дают, откуда реальная прибыль есть, а вот в школу, в клубы, в газету не дают, жмутся. Кидают нам Ненил разных да бродяг вербованных валят валом. А тут и без того пройдох, типов да придурков девать некуда. Такие-то пироги, Валериан Иванович. Доверяется вам сто с лишним жизней, имущество. Вот вы уж и кусочек народной власти. А что было, будем считать — быльем поросло. Работать надо.
— Нечего сказать, подвели под знаменатель! — Валериан Иванович протянул Ступинскому стакан. — Подлейте, пожалуйста, горяченького. М-да, пожевал он губами. — Должно быть, я отстал от времени, оттого и не понимаю иных вещей. Не понимаю, например, как это вы при нехватке, при этакой человечной заботе о детях в то же время обращаетесь с опальными взрослыми ровно с огородным овощем: вырастили, выкопали — и в подвал! Не вы лично, а ваши.
Ступинский ответил не сразу. Он сунул окурок папиросы в подтопок, проследил, как его подхватило и уволокло тягой, и, повернувшись к Репнину, глаза в глаза произнес:
— Представьте себе, Валериан Иванович, я тоже этого понять не могу. Он развел руками и обессиленно уронил их. — Это напасть какая-то… Я ведь вижу и знаю куда больше, чем вы. — Ступинский горестно оперся лицом на руки и замолк. Волосы у него опять сползли, сделав пробор на середине головы, и он опять напоминал российского мастерового. Только руки его были тонки, без натруженных жил, давно не знающие тяжелой работы руки.
Валериан Иванович был несколько озадачен возникшим предметом разговора. Так и не отнимая рук от лица, Ступинский заговорил как будто и не прерывался:
— Стараемся помогать людям, спасать их. Спасать здесь, где сделать это не так уж просто. Кое-что все же удается сделать. Не все, но многое. Вы, надеюсь, заметили, что нет у нас в населении особого разделения? Все живут, работают, учатся вместе. Все это не само собою получилось. Были и есть тут настоящие руководители. Они понимали и понимают, что без людей мы дырка без калача, не дали они распоясаться нашему брату. Мне в первую зиму начальник стройки, старый коммунист, по сопатке въехал. Кобурой я любил по молодости лет пошуршать, — пояснил Ступинский. — Хорошая была оплеуха. До сих пор забыть ее не смею. И слов, какими она сопровождена была. «Оборони Бог, — говорил начальник стройки, — дойти нам тут до грудков! Только того и ждут враги мировой революции». Без таких, как он, мы наломали бы тут дров.
Ступинский разом снялся с табуретки, распахнул плиту, потыкал в нее поленом, подгреб угольки и набросал сухого макаронника. Минуты две он постоял на колене, глядя на поднимающиеся огоньки.
Валериан Иванович взял со стола стакан и пододвинулся к печке. Он и не заметил, захваченный потоком мыслей, что ведет себя как в своей холостяцкой комнатушке.
Ему и раньше, конечно, приходило в голову, что такая большая, заброшенная в Заполярье стройка могла кончиться пшиком и что кто-то не дал довести эту болезненно, тяжело начавшуюся стройку до развала, отвечая за нее собственной жизнью.
Все же как много он не видел, пропустил мимо глаз, занятый собственной персоной, собственной бедой! А ведь здесь, в этом городе, рядом с ним жили, работали и бедовали такие разные люди, с такими разными судьбами и обязанностями. И самую, пожалуй, неблагодарную, тягостную обязанность выполнял Ступинский. Валериан Иванович не раз слышал от переселенцев, что «хозяина им Бог послал за все грехи и страдания ихние». Побольше бы таких начальников, как он, — «не оскорбит, не выгонит: в ночь-полночь приди, выслушает тебя как человека и по-человечески отзовется…»
«По-человечески» — это очень и очень умели ценить жители города Краесветска.
Город вырос. Вместе с ним по строительным лесам поднималось и угверждалось человеческое достоинство основателей и строителей этого города, ставшего частицей истории нового государства.
Стало быть, не за награды и почести работал Ступинский. Значит, знал он что-то такое, чего не знали и не видели пока такие люди, как Репнин.
«Очень правильно сделал Ступинский, позвав меня на чашку чаю, очень правильно», — отметил про себя Валериан Иванович и кашлянул в кулак, напоминая о себе.
— Вот все думаю, думаю о судьбах наших здешних людей, и голова у меня кругом идет, — снова заговорил Ступинский, будто разговор не останавливался, будто он слышал, о чем думал Валериан Иванович. — Мы здесь сумели избежать разлада меж строителями. Все вместе, все нормально. Но вот подходит пора призывать в армию здесь уже выросших ребят. А что, если и там им припомнят отцов и дедов? — Ступинский молча ждал, что скажет на это Репнин. Но Валериан Иванович не отозвался на беспокойный вопрос. — Я считаю, — уже твердо продолжал Ступинский, — считаю, что этого допускать нельзя. И знать и видеть худого ребята должны как можно меньше. Надо ограждать их от подозрений и напастей. Валериан Иванович помолчал, подумал.
— Разумеется, ребята должны верить в мир, в котором они живут, медленно заговорил Репнин, — ценить людей, которые растят их, говорят добрые слова, дают хлеб.
Ступинский пододвинул стул, неторопливо уселся.
— В том-то и соль, — вздохнул он. — Об этом тревога, и не только наша с вами. — Он поболтал чайник. — Пусто. Заварить еще? Кстати, — хлопнул он себя по лбу. — Во балда. Позвал вас, чтобы сообщить в неофициальной обстановке приятную весть, а этот дурацкий звонок сбил меня. Разобрались в конце концов с вашим делом. Скоро вы получите паспорт. Простите, так уж получилось: сначала утомил разговором, а после угостил новостью. Следовало бы наоборот.
Репнин почти никак не отреагировал на это сообщение. Он только кашлянул, промычал свое «м-да», полагая, что Ступинский отчего-то малость схитрил, приберегая этакое известие к концу разговора.
— Вы как будто не рады?
— Нет, почему же? Но, видите ли, меня как-то уже перестало заботить мое положение. У меня много других, более важных забот.
— О ребятах?
— Вот именно, о детях. И работа моя день ото дня осложняется. Не так-то просто воспитывать детей по-новому, без кнута и Боженьки. — Репнин нахохленно уставился на Ступинского. — Скажите, только прямо: зачем понадобилась вся эта возня со мной? Ну, вот мое вызволение с биржи, теперь вот мое назначение на должность заведующего, хлопоты о гражданстве? Я ведь отлично понимаю, что это не без вашей, так сказать, инициативы. Не в благородство ль играете?
— Нет, играть недосуг, Валериан Иванович. Заведующим вас назначают как человека, понимающего, что доски в штабеля складывать и человеческие жизни пестовать — не одно и то же. Не думайте, что это с бухты-барахты. Так лучше, когда дети у вас учатся, а вы у них. Вы все еще кособочитесь, не соглашаетесь. Дело, как говорится, хозяйское. Может, это даже и хорошо. А то у нас лишка развелось тех, кто со всем соглашается. Учите ребят почитать старших, но не раболепствовать перед ними. Это противно нашему обществу.
Валериан Иванович вынул из кармана часы, извинился, сказав, что дела не терпят, а дети ждут, и начал собираться.
— Я и в самом деле многому научился у детей, — надевая пальто, проговорил Репнин. — Привязался к ним, и хотелось бы без тревоги думать мне об их будущем. Простите меня за некоторую афористичность, что ли. Великий немецкий поэт сказал: «Если мир расколется — трещина прежде всего пройдет по душе поэта». А я думаю: прежде всего пройдет она по судьбам детей. Пришел к этому не сразу. Прозревал, как говорится, через беды. Ну, прошу простить меня. Кажется, за много лет наговорился.
Ступинский пожал мягкую руку Валериана Ивановича, повторяя про себя: «Да, если мир расколется…» — а вслух спросил:
— Так и не сможете, видно, никогда забыть ту женщину с картины?
— Никогда не смогу забыть.
Оба тяжело помолчали.
— Валериан Иванович, вот еще о чем хотел посоветоваться. У вас там некому вести занятия по военному делу. Я изредка мог бы. Не возражаете? Пока не хватает военруков. А надо, очень это надо. Ведь если мир расколется… А как там крестник мой поживает? — уже за дверью спросил Ступинский, провожая Репнина до крыльца.
«Какой воспитанный человек! И где бы это?» — удивился Валериан Иванович и переспросил:
— Мазов-то? Разно поживает. Сложный мальчишка. И хороший и плохой. Без середины. Еще раз извините, — по-военному приложил руку к шапке Репнин. — А что касается вашей просьбы, то дверь нашего дома для всех открыта, и ребята всегда людям рады. — Репнин тут же мрачновато добавил: — Если они по делу, конечно.
Он всю дорогу «переваривал» разговор с комендантом и только сейчас до конца понял тот деликатный и настойчивый вопрос или просьбу Ступинского насчет того, чтобы дети меньше видели и знали худого. «От мира детей, к сожалению, не отгородишь. Они как трава — загороди жердями, проволокой, частоколом самым плотным, все равно просочатся на свет. М-да, просочатся. Они вон на морпричалах торчат круглое лето. Все видят, все слышат. И глаз у них востер, и память. все вбирает… Что это вдруг вспомнил Ступинский Мазова? А-а, Толя и в самом деле „крестник“, ведь Ступинский нашел его и определил в детский дом…»
Зимой тридцатого года из села увезли куда-то Светозара Семеновича Мазова — Толиного отца. Толя, конечно, не знал, за что взяли отца. Сказали: подкулачник, и увезли. Он был главной опорой большой и безалаберной семьи. Дед Толи, Семен, по пьянке давший старшему сыну звучное, городское, как ему казалось, имя, погиб в гражданскую войну, прадеду Мазову уже подкатывало к сотне лет, а больше мужиков в семье не было — сплошное бабье, ребятишки.
В городе семью Мазовых погрузили на пароход и повезли вниз по реке. Пароход тянул за собою пузатую баржу. И пароход, и баржа были набиты переселенцами, их везли в Заполярье, на какую-то стройку.
Мазовы ютились на палубе меж толстых узлов, спали, заворачиваясь в половики, деревенское барахлишко; ребятишки залезали на ночь в кадки из-под капусты.
Пароход отапливали дровами. Шел он сутки, а двое брал дрова. Тогда семьями ходили по ягоды, по грибы и кедровые орехи. В пути с парохода и баржи утерялись несколько ребятишек и глухая старуха. С дровами было много беспокойств, но и удобства были тоже. Люди делали в поленницах пещеры, загораживали вход дерюжинами, и получались каюты, хотя и временные, но все же отдельные.
На одной большой пристани на пароход посадили вербованных. Потеснились. Иным семьям пришлось устраиваться на верхней палубе, возле трубы. Труба чадила густо смольем, сорила угольями. Одежонка на пассажирах прогорала, решетилась.
Река мрачнела и узилась. Скалы возносились выше, и на них уже не было тайги, а только маячили обгорелые ветлы да зябко корчились голодные кустарники.
Приближались к большому порогу.
Пугливо кричал пароходишко, болталась баржа. С нею никак не мог управиться шкипер. Вода кипела в реке, пролеживалась вспененными потоками меж каменных зубьев. Коридор из скал сделался узкой щелью, и вверху кривою молнией отсверкивал белый свет.
Смолкли люди на пароходе и на барже, вдавились в стены, в койки, зарылись в постеленку. Матери прижали к себе детей.
Ревела река вдали. Где рев — там порог. Навстречу выныривали испуганно вихляющиеся бакены. Пароход подбрасывало, одно колесо вдруг увязало, переваливалось одышливо, с трудом. Пароход зарывался носом в воду. Другое колесо в это время билось, стучало вхолостую, едва касаясь воды, путаясь в брызгах, бросая ошметки воды до капитанского мостика.
Весь в белых застругах, седой от брызг, постоянно кипящих над ним, показался порог. Табунами дыбились тупоуглые камни поперек реки. На них вспухала желтая пена. В глубине лязгали каменные плиты, несомые течением. Кругом все шевелилось, корчилось, хлестало, вертелось, кипело. Лишь черные скалы с рыжими отливами висели по обеим сторонам неподвижно и голо. Ни деревца кругом, ни птички, даже куликов и плишек нет. Грохот, рев, лязг, как на железоделатель- ном заводе, который любому мужику в первый раз кажется преисподней.
И когда судно качнуло и поволокло в эту преисподнюю, пароход и баржа ответили порогу ревом.
— Топи-и-и-ить буду-ут! Топи-и-и-ить — приплавили-и-и!..
Кто-то прыгнул с баржи и пропал в бурлящей воде, в камнях. Кто-то начал сбрасывать узлы. Поднялась давка. Вдруг раздался осекающийся голос старика Мазова, Толиного прадеда:
— Стой! В стоса вас и в спаса! Стой! Совецка власть не дура, чтобы из-за такова г… дорогу посудину губить!..
Остановились. Мазова знали. Грозный дед был когда-то. Да и поныне еще сила. Рявкнул так, что рев порога перекрыл, и паника униматься стала.
Промелькнули пороги. За «находчивость» капитан переселил Мазова и всю его ораву с палубы в трюм — там не дуло.
Вербованные ходили дивиться на белого старика, как на икону. Он на них не смотрел. Он вообще ни на кого не смотрел. Он все молчал. Даже на невестку и на детей не цыкал. Прежде, бывало, гаркнет — так кто куда, все притихнут, в щели, как тараканы, забьются, чтоб на глаза старику не попадаться. А сейчас молчит. Не спит, не ест. Молчит. Жутко даже от этого его молчания.
Пароход сделал крутой поворот возле острова, огибая подводную песчаную косу, полого уходящую в глубь реки. Развернувшись, пароход едва не закинул баржу на yгpeватый каменистый мыс, замыкавший устье протоки от ветров и бурь косою острова и мысом берега. По берегу в сиротливом россыпе горбились домишки и как попало поставленные, покоробленные мерзлотой бараки, сараюшки и односкатные, почти слепые времянки.
Болота с мокрыми кочками, мари с тощим лесом чадили, как отстрелянные гильзы, горелым порохом, холодной гнилью, ворохами гнуса и бескрайней тоской.
Опираясь на батог, одним из первых ковыльнул на дощатую пристань Мазов. Душный, парной ветер шевелил его белые волосы, подстриженные по-старинному. кружком. Густой сумрак лежал над осевшими пенистыми бровями старика и в крупных решетках морщин. И хотя многие годы пытались согнуть старика и согнули даже, но он все еще головы на две возвышался над остальным людом.
Переселенцев встречал комендант города Краесветска Ступинский со своими работниками. Он громко, на всю пристань ругался;
— Кого привезли?! Строиться надо, вкапываться, а тут старье, бабы, ребятишки… — и, заметив Мазова, смолк было, задивился и прибавил: — Да таких вот еще! Фамилия?
— Мазов.
— Неужто Яков Маркович?
Мазов шевельнул бровями, заходили морщины на его лице, всматриваться стал, напрягая память.
— Тебя и не узнать, Яков Маркович!
— Старюсь.
— Меня не помнишь?
— Не помню.
— В гражданскую ночевал у вас с отрядом.
— У нас дом крайний, большой был, много в ем народу ночевало. Всех не упомнишь. Куда определяться?
Ступинский посоображал и, вынув блокнот, размашисто черкнул в нем, выдрал лист и подал старику Мазову:
— Идите в гору, ищите кирпичный завод.
Гор тут никаких не было. Горой звался глинистый, наискось подмытый яр. За яром из края в край озера, болота, мари, затянутые багульником, карликовыми березками, голубичником, осокой и разной другой земной мелочью. Чахлое редколесье стояло вторым этажом, издали напоминая настоящую темную тайгу. Но это лишь только издали. Березник, пихтач и ельник худосочен, редколап и, как правило, внутри гнилой. Лишь на горизонте сонно темнели кедрачи.
Ветер гулял над неоглядным простором, прижимая гнус к земле.
И города тут никакого еще не было. Среди болот и озерин в вырубленной чащобе, средь раскорчеванных пней работали люди, строили дома, делали огорожу к лесобирже, рубили пожарную каланчу, тянули трубы к бане и пекарне. У самого берега протоки на возвышении дымилась железная труба, дальше вторая. Эта еще не дымила. Мазов удивился — завод! Он подумал, это и есть кирпичный завод. Но ошибся. Расторопная Ульяна, односельчанка Мазовых, уже успела узнать, что это лесопильный завод, а кирпичный в лесу, за Медвежьим логом.
К ним то и дело подбегали люди: «Откудова будете?» — и тут же сами представлялись, надеясь встретить земляков и односельчан. Перепутало, разбросало людей по свету бурное время.
Кирпичный завод прижился в мелком ельнике и чащобе, на скате косогора, в Медвежьем логу.
Мазовых расселили в старом сушильном отделении, на полках. Отделение вышло из строя. Надышавшись теплом от кирпича, мерзлота поползла, вместе с нею село и поползло сооружение, сунулось рылом в лог. Оно могло в любой момент упасть. Но жить было негде. Его подперли со стороны лога бревнами, забрали поддувы тесом и слепили внутри сушилки печки, благо кирпича было кругом дополна и глины сколько хочешь.
Среди болот складывали люди времянки-печки, забирали сверху тесовым козырьком, с боков тоже. Варили на этих печках похлебку и даже пекли пироги. Понемногу одолев страх, растерянность и сделав открытие, что жить здесь тоже можно, стали российские люди погуливать, песняка драть, как и на всякой другой земле, ревновать и колотить жен, жениться, выходить замуж, рожать.
И строили, строили, строили….
Тетка Толи Мазова, Евдокия, старшая сестра Светозара, и все, кто был способен к труду, работали на кирпичном заводе. Старика Мазова работой не неволили. Он на добровольных началах топил печки в жилом помещении и все молчал.
Осенью начали приезжать с магистрали мужики, которых позабирали во время раскулачивания и теперь освобождали и отсылали к семьям. Мазовы ждали своего главного работника, Светозара Семеновича. Ходили к каждому пароходу на пристань. Но все не ехал и не ехал Толин отец. Отгудел последний пароход, ушел из протоки, уже обметанной заберегами. Взвыли люди, и вольные и переселенцы, сердцем чувствуя, что остаются они надолго и ждут их большие горести и беды. Пуще всех выла тетка Толи Мазова, Евдокия. Орава мазовская, из-за которой она осталась вековухой, опять тяжким грузом повисла на ней. Раньше хоть со Светозаром вдвоем тянули хозяйство и семью. Как же одна-то? Да еще на чужой стороне? Хоть бы Толина мать, молодуха Серафима, была, но она взяла и убралась на тот свет. Слабая здоровьем оказалась, не пережила беды. Уж очень она Светозара любила.
К морозам сушилку утеплили, сделав высокую завалину, прорубили окна и к подоконникам дощатые фартуки с опилом приладили, чтоб не выдувало тепло. Внутри сушилку разделили кое-где заборками и занавесками.
Зимой пошла по нашему городу чужая, неслыханная болезнь — цинга. Быстро переводилась семья Мазовых. Первой умерла Евдокия. Не от цинги умерла. Ходила она в город за продуктами, заблудилась в пургу и замерзла в сугробе. Обессилела или отчаялась она, кто знает?
В сушилку селились новые люди. Кто только не перебывал в сушилке за зиму! Русские и нерусские, бабы и ребятишки, старики и старухи, жулье и рецидивисты.
Своих в сушилке осталось вовсе мало: разбитная Ульяна, которую ни цинга, ни мороз не брали, жила, да еще кое-какие земляки отчаянно отбивались от цинги. Возле сибирских переселенцев жался кочегар из комендатурской столовки, кавказец Ибрагимка. Правнук Якова Мазова Толя каким-то чудом тоже держался. В прадеда, должно быть, выдался живучим, а может, не умирал оттого, что прадед берег мальчишку пуще глаза, в пургу на улицу не отпускал, ночами грел, прижимая к своей костистой, но еще теплой груди.
Приладил кавказец Ибрагимка старика Мазова подменным истопником в комендатурскую столовую. Старик пошел на эту работу, как выяснилось потом, из-за Толика. Он незаметно стягивал из кухни картофелину-две, предназначавшиеся для цинготников, запихивал картофелину в штаны и таил до темноты. Ночью скоблил овощ ножом, как репку. Грязную жижицу насильно запихивал ногтистым пальцем Толику в рот. Иной раз луковицу приносил и приказывал Толику сосать ее, как конфетку. Лук был примороженный, сладкий. Сам Мазов этот редкостный овощ не ел.
На себя он, видно, рукою махнул.
Добралась цинга и до Мазова, скрутила.
Он лежал на детской железной кровати, неведомыми путями попавшей в сушилку, и трудно расставался с жизнью.
Кровать ему уступили из почтенья. Цинга так исковеркала старика, что он уместился на этой кровати. Только колени с мощными копытистыми чашечками выставлялись с кровати и чугунно постукивали. Рот чернел беззубым провалом, и от хриплого дыха выбрызгивала кровь.
Люди, боязливо крестясь, пробегали мимо умирающего Мазова. Лишь Ульяна ничего не страшилась. Придя с работы, она решительно приближалась к Мазову поглядеть — дышит ли?
Мазов дышал. Уж обрывисто, с мышиным писком, но дышал. Он смотрел остановившимся взглядом в потолок сушилки, и чудилось Ульяне: видит старик там, за промерзлыми стенами сушилки, такое, чего никто не видит.
Он видел осокорь — рай-дерево. Так его зовут в глуби России. Дерево стояло среди степи, захлестнутое половодьем. А по российским дорогам клубилась пыль. Шли люди пеша и конно в сибирскую сторону. Шли медленно, тупо, упорно. Умирали, рождались в дороге, оставляя в припутье и на незнакомых погостах родителей, дружков и сопутников.
Вместе со всеми тащилась куда-то старуха с угрюмым, мослатым подростком.
Слепая эта бабка, при которой Яков состоял поводырем, знала толк во многих делах, необходимых людям, и умела им пригодиться. На ощупь собирала она травы и цветки. Одни сушила у костерка, другие на груди, под одежкой, и от котомки ее пахло зимой и летом разным цветом. Этими травками-муравками да корешками она лечила мужиков и баб. По упокойным бабка Марфа читала молитвы за упокой. Приняв роды под придорожными ветлами у баб и молодиц, читала во здравие.
Однажды они остановились на ночлег у небольшой, тихоплесной реки. Кругом степь, обсыпанная цветами, птичьим звоном, и ни одного деревца. Лишь на обмыске, впахавшемся в реку, маячил одинокий осокорь без вершины. Он горел. Из пустой середины его, как из трубы, валил сизоватый дым и выплескивалось белым платом пугливое пламя, словно бы дерево просило пощадить его.
Бабка Марфа дотронулась до корявой, заскобенелой коры.
— Не молонья, люди подожгли, — вздохнула она. — Кто на виду, кто на глазу — тому и достается больше.
Ночевали они под осокорем. К утру разлив достиг обмыска. Отошли на берег. Бабка крестилась, нашептывала что-то, а поводырь ее, Яшка, все оглядывался. Рай-дерево стояло уже в воде, но все еще густо дымило. Сердце его все еще не истлело. Единственная живая ветка осокоря, на которой совсем недавно развязались листья, билась, трепетала, ровно хотела оторваться и улететь. Листья свертывались, темнели. С них каплями медленно скатывалась клейковина.
Они ушли, а дерево все дымило, дымило за краем земли. Выпала судьба этому дереву расти в раздолье и одиночестве. И умереть одиноко. Нет горше такой вот смерти, медленной и никому ненужной.
Горело нутро могучего дерева, исходило пламенем и дымом, а дышать было трудно старику Мазову. И чудилось, не дерево это — сердце его истлевает бесшумно. К ногам подкатывала холодная вешняя вода, леденила их, отделяя корни от догорающей вершины, на которой беспомощно бьют крылышками листья, и угорело хрипят меж ними голобрюхие грачата в гнездах.
— Тушите… Тушите… Ослобоните… Любите… Любите… Травушка-муравушка… Баушка… баушка… баушка… — жарко выдыхивал Мазов, и шепот его закатывался, густел, склеивался с глухим, далеким стоном.
— Часует! — определила Ульяна и наклонилась к уху Мазова: — Сусе-ед! Ты слышишь меня? Сусе-ед!..
Мазов шевельнул вывернутыми красными веками, перестал бредить.
— Попа тебе надо? Один есть тут. В таинстве он. На бирже работает. Без ризы, правда, в телогрейке, но все же пособорует, причастит, все требы честь по чести справит… Верного человека пошлю, Ибрагимку.
Мазов разлепил глаза. Пробуждаясь, глядел на Ульяну, на Толика. Начал подниматься, пытаясь ухватиться руками за что-нибудь. Толик подставил ему плечо. Прадед замахнулся огромным немощным кулаком и, смрадно дыша перегорелой во рту кровью, тонко закричал:
— По-о-оп! Н-н-не ж-желаю!.. Не признаю-у! Катитесь все! Поп! Бог! Все! Все! Н-не!..
И закашлялся, зашелся так, кто кости в нем забрякали. Криком этим подавил последний вздох Мазов. Он не потянулся, не выпрямился. Видно, детская кровать не дала ему распрямиться. Грузно лежал он, будто выпиленный из лиственницы, суковатый, витой кряж, от которого отскакивает топор, а зубья пилы на нем ломаются, как орехи. Таких кряжей за ненадобностью много валяется на лесосеках и новостройках.
Какое-то время еще текла изо рта Мазова струйка крови, прожигая насквозь подушку. Потом загустела кровь. Начали западать черные губы в черный его рот.
Он еще не остыл. Но его уже понесли из сушилки. У порога со стуком уронили. Ибрагим, помогавший нести старика, закричал что-то по-своему, засверкал глазищами. Толик подскочил помочь, поддерживая шишковатую голову прадеда. Голова сламывала жилистую шею. Затверделый кадык Мазова торчал, как кремень.
Толик попытался защипнуть глаза прадеда. Но веки его уже пристыли к глазницам. Как только мальчик убрал пальцы, глаза старика снова заблуждали в темноте.
Поежился Толя, отошел к сушилке, в мерцающую тень, и прислонился спиной к стене. Мальчишка еще не понимал смерти и не боялся мертвых. Да и привык он к ним в сушилке, как привык к снегу, к пурге, ко всему, что каждодневно было вокруг него.
Прикрытый тенью стены, в заветрии, он стоял и с любопытством глядел на прадеда. В коротких полосатых исподниках старик словно бы прикорнул на искрами пересыпанном снегу и казался при этом колеблющемся сиянии, в этом морозном мире стареньким-стареньким старикашкой.
И трудно верилось во все, что рассказывала об этом старикашке тетя Уля.
— Характерный, ой характерный был суседушка! С мельницы идет — еще верста до дому, а в избе чихнуть боятся. Однова, это уж как мельницу и коней у мазовских отняли, увидел он на полосе Гошку Скоковского, пахал тот на мазовском чалом жеребце. Для выезда держал Яков Маркович жеребца-то. Сядет в кошевку и, не успей ворота отворить, вышибет, а потом материт за поруху. И вот завидел Гошка Мазова-то, а язва тоже, и ну по храпу жеребца, ну по храпу! В дыбы жеребец, ревет, к Якову Марковичу из шлеи рвется. И что ты, матушки мои, старик ведь уж был, Мазов-то, преклонный старик, а силищи в нем, силищи! Сгреб он Гошку, как кутенка, — и раз хомут на него! А потом пристегнул его к плугу и погнал. Лупит и гонит, лупит и гонит. Допахал ведь борозду-то на Гошке! Допахал и бросил, а у него кровь ротом и ушами…
А гулеванить Мазов-то как любил! Э-э-э-э, да все с куражом, все с норовом чтобы. Он ить, почитай, на всех свадьбах посаженным отцом перебывал. Не пригласи-ка! Колдуном его считали на селе. Колдуно-ом, колдуно-о-ом! И что ты, матушки мои, прибудут на мельницу к нему — уважит, хоть на тройке, хоть на одной лошаденке, не откажется. Но коли на тройке разоденется: сапоги до пахов, картуз хромовый, рубаха плисова — все честь по чести, и всю он избу свадебну червонцами забросает, ну, а коли на одной лошаденке, да без колокольцев, в мельницкой одеже явится и муки из штанов натрясет, холера… Холера…
— Вот те и Яков Маркович! Вот те и дедушка Мазов! И тебя нрав-то его коснулся, да, слава Богу, краем одним только. Ты в отца свово пошел, в Светозара Семеновича, а он ведь вылитая бабушка Антонина, из капельки в капельку прямо. И помучилась же ангелица светлая, перестрадала женщина ясная от него, большеголового, ой перестрадала, царствие ей небесное…
И вот он, и в самом деле большеголовый, тяжелый, из занюханного самохода превратившийся во властного, грозного хозяина, лежал теперь поверженный, скрюченный под чужим заполярным небом. В черный провал его рта падал снег. Толик все ждал, что прадед вот-вот сглотнет снег. Но тот ничего не сглатывал, и скоро снегом заткнуло, словно ватою, темный рот, засыпало глаза, уши, все лицо Мазова, и он сделался похожим на елочного деда мороза. И Толик решил, что напрасно он побаивался прадеда. И бороды его колючей зря боялся. У Мазова, того еще, деревенского Мазова, была такая привычка сграбастать правнука и потереться щекой об его щеку. После этого саднило лицо, будто от колючей боярки. Так прадед шутил.
За сушилкой послышались говор и кашель. По простуженному и оттого резкому голосу Толя узнал Ступинского. Он каждую ночь обходил бараки.
— Староста! Где староста?
Староста негромко и мрачно отозвался. Ступинский шагнул в отсвет, падающий из окна. Не заметив Толю. съежившегося у стены, нагнулся над Мазовым, смахнул перчаткою снег с его лица, дождался яркого всполоха сияния, должно быть, узнал старика и достал из кармана носовой платок. Закрыв платком лицо Мазова, Ступинский вынул портсигар, размял папиросу.
— Остался у Мазовых кто-нибудь еще? — спросил он, прикуривая.
— Малец остался, Толька, — ответил староста.
— Сберег прадед, — задумчиво сказал Ступинский. — Не хотел, видно, чтобы род его с земли исчез. Овощи из нашей столовки тайком брал. Это Мазов-то! — Ступинский наклонился, сложил руки Мазова на груди, почти ломая их — руки уже схватились от мороза в локтях, — и сказал: — Да-а, целая эпоха ушла с этим матерым дедом!
Толик, близко стоявший от Ступинского, услышал все, что он говорил, и ждал, не скажет ли он еще что-нибудь. Но Ступинский задумался, сжег папиросу до мундштука и не заметил, как глотнул горячего дыма. Отплевываясь, он кинул папиросу в снег. Брызнули по косогору искры.
— Заберите покойного, — приказал Ступинский следовавшему за ним военному. — Схороните как следует.
Где мальчик?
— Здесь я, дяденька, — отделился от стены Толик.
— Жалко дедушку?
— Жалко, дяденька. Всех жалко.
Ступинский взглянул на мальчика, поднял воротник его шубейки.
— Та-ак, значит, жалко? — И тут же встряхнулся, натянул перчатки. Придется тебе, Анатолий Мазов, со мной идти. В другом месте жить придется. — Взяв Толика за руку, он повел его за собой и уже издали, почти из-за угла, крикнул старосте сушилки: — Вычеркните его из своих списков!
Староста что-то мрачно буркнул в ответ и, поеживаясь, вернулся в сушилку, а военные подогнали подводу и закатили на нее мерзлое тело старика Мазова. Подвода скрипнула. Тронулась лошадь. Быстро побежала вниз по глубоко занесенному снегом откосу.
Толя приостановился, провожая прадеда взглядом, а потом перевел взгляд на тусклые, залепленные снегом окна сушилки, как-то ушибленно сгорбился, быстро-быстро побежал впереди Ступинского, потому что тропка была узкая и рядом идти им было невозможно.
Следом за мальчиком шагал хозяин города. Оступаясь в заносах, он начерпал в валенки снега, но не чувствовал ногами холода. Он думал и, думая, не отрывал взгляда от маленькой фигурки, которая рябила в плотной пряже снега, и снег ему казался черным, а мальчик все высветлялся, высветлялся.
Ступинский нагнал мальчика, стряхнул с его шапки и со спины снег, положил ему руку на плечо и шел сзади, уже не отпуская мальчика от себя далеко; и если бы кто-то увидел их, то принял бы мальчишку за поводыря, который вел за собою слепого человека.
Глава 5
Толя был первым беспризорником, приведенным в холостяцкую комнату Ступинского. Оттого и назвал Ступинский «крестником» мальчишку. Впрочем, «крестников» у него быстро набралось больше десятка, и они-то и оказались первыми жильцами детприемника, а после — костяком детдома, «старожилами», как их в шутку и всерьез называл Валериан Иванович.
Как-то так уж получилось, что Репнин вынужден был отдавать Толе Мазову времени и внимания больше, чем другим ребятам, хотя он ничем не хотел выделять его.
Началось все с того, что Толя, катаясь на лыжах, сиганул с дровяника, точно с трамплина, и поломал ногу. Больное дите что в семье, что в детдоме балуют и ублажают. Парнишка изнежился малость, начал увиливать от уроков и, если бы не Зина Кондакова, остался бы на второй год.
Зина была мастерица на все руки. Зашивала дыры на рубахах и штанах ребятишек, гладила к празднику суконные брюки, погладит и не спалит, даже стрелку сделает. И как-то так уж получалось, что, играя в прятки или в мегки, она нет-нет да и оказывалась в паре с Толей. И если надо было что-нибудь заштопать, или платочек пометить, или брюки погладить — Зина делала это для Толи с особым усердием.
Однажды, играя в прятки, Толя с Зиной забежали в полутемную раздевалку, спрятались за вешалкой и замолкли. Толя помялся, помялся и начал прокашливаться.
— Давай будем дружить, — сказал он совсем осипшим голосом.
Зина шепотом же ответила:
— Давай.
Вот и все, что они сказали друг другу. Но как это повернуло их жизнь! Если раньше Зинка, дежуря на кухне, не разбиралась, когда подать Толе тарелку — первому или последнему, как скорее и ловчее, так и подавала, — то теперь ставила Толе тарелку непременно последнему, чтобы не «заметили». Играть в прятки они с ней перестали, оставаться наедине избегали, из школы идти вместе не смели.
И все-таки их дразнили женихом и невестой. Раньше не дразнили, а вот когда они начали таиться друг от друга, проходу не стали давать. Проведи ребятню! Песню ребята сложили про Толю и Зину такую, что ее никакая бумага не выдержит.
Кончилось все это дело тем, что Толя заманил снова в раздевалку Зину и, откручивая на своей рубахе пуговицу, сказал:
— Зинка, давай не будем дружить.
— Давай, — согласилась Зина и поковыряла стенку ногтем.
Толя еще что-то хотел прибавить, но лишь быстро глянул на нее, смутился и удрал из раздевалки.
Жить стало легче. Опять вместе играли, не таились от ребят, и, когда Толя поломал ногу, Зина первая пришла в больницу, принесла ему в кульке конфеты «Мишка на Севере» да еще тети Улины постряпушки.
Теребя косу пальцами, покусывая воротник халата зубами, она рассказывала о детдоме и обо всем, что было интересного в школе и на белом свете. Сначала она сбивалась от смущения, но потом пообвыкла в палате, и они весело разболтались. Но перед уходом Зины им стало не о чем говорить. Они сидели просто так, и Зина смотрела в окно, а Толя закручивал жгутом одеяло на груди и раскручивал его.
— Ты приходи… еще, — напоследок выдавил он, и Зина быстро-быстро закивала головой: обязательно, мол, обязательно.
Толя понимал, что она и так бы пришла, но это как-то само собой вырвалось.
В следующее свидание Зина приволокла с собой кипу учебников, тетрадки, чернилку и ручку.
— Вот! — строго и важно сказала она. — Будешь заниматься. Нечего дурака валять. Останешься на второй год, так узнаешь!
Вид у Зины был строгий, как у преподавателя старших классов, а халат на ней большой, и, когда она садилась, халат доставал до пола и девочка походила на безногую куклу-матрешку. Коса ее тяжелая все спадала на грудь, и Зина время от времени кивком головы перебрасывала ее за правое плечо. «Воображуля!» — усмехнулся Толя и спросил:
— Это Валериан Иванович посоветовал тебе взять меня на буксир или ты сама вылезла?
— Ничего я не «вылезла»!
Зина обиженно отвернулась, и Толя решил: вылезла.
— Ладно уж, говори, чего проходили, — снисходительно согласился он. Только задачки по алгебре и физике сама решать будешь, а я списывать.
— Там видно будет.
Зина же принесла Толе одежду, и он, слабый, бледный, впервые в жизни узнавший, какое это счастье подняться с постели и вернуться домой, выйдя на крыльцо больницы, едва не упал, захлебнувшись струистым северным воздухом.
Ребятня, встречавшая его, радовалась так, будто он с того света явился или с первого парохода сошел. Когда шли мимо школы, высыпали ученики первой смены, как раз большая перемена была, тоже шуму было и толкотни, как в праздник. Толя враз ровно бы знаменитостью какой сделался, и о нем узнала вся школа.
Еще издали он увидел приклеившееся к детдомовскому кухонному окну лицо тети Ули. На крыльце стоял Валериан Иванович и хмурился, пытаясь спрятать приветливую улыбку. Зина помогла Толе подняться на крыльцо, и он, весь сияя, предстал перед Валерианом Ивановичем:
— Вот… домой пришел… сам, на костылях.
— Здравствуй, раз пришел! — шевельнул морщины у глаз Валериан Иванович и подал Толе руку, как большому, а потом притиснул его к себе, тут же отпустил и подтолкнул к двери дома.
Толя первым делом зашел на кухню к тете Уле. Она, конечно, всплакнула, поругала его, а потом дала стакан компота, полный урючных косточек, и, пока он колол их на столе гирей от весов, курила и глядела на него.
С этих пор тетя Уля наталкивала больного чем только могла. Екатерина Федоровна сшила ему новую белую рубашку с карманом на груди. Маргарита Савельевна подарила книгу «Байрон». Ребята завидовали такому Толькиному положению. Некоторым захотелось тоже поломать ногу, но чтоб небольно поломать. Зинку уже не дразнили и относились к ней и к Толе по-доброму. Правда, ребята же устраивали скачки на Толиных костылях, одолевая детдомовский коридор в четыре прыжка, и поломали костыли. И кто их разберет, этих ребят? У Паралитика никогда не брали костыль, а Толины так моментально пустили в ход.
Сделали Толе палочку с набалдашником. Парнишку уверяли, что с нею даже «красивше». И хорошо, что врач больницы углядел в городе Толю с этой форсистой палочкой, отнял ее и выписал новые костыли. А то бы снова попал Толя на койку или охромел бы на всю жизнь.
Зина и Маргарита Савельевна приступом взяли «больного», и он, к удивлению учителей, не остался на второй год и даже переэкзаменовку по математике на осень не получил.
Еще в ту пору, когда ходил Толя на костылях, вздумал он учиться музыке. Стал мало-мало тренькать на балалайке «Сербиянку» и бросил. Взялся за гитару. Осилил «Соколовский хор у „Яра“». Тоже бросил. Переметнулся на мандолину, потом на гармошку. Прошел все инструменты, какие были в детдоме, быстро, легко, и… ни на одном играть как следует не умел.
Привезли бильярд. Толя гонял шары день-деньской, пока не сделался первым игроком в детдоме. Закинул и эту игру. Перешел на чику.
Чика давалась труднее. Среди ребят были невиданные мастера по чике, и они обчистили Толю как липку. И оказался он весь в долгах, и ничего другого ему не оставалось, как сойтись с карманниками, никогда не переводившимися в детдоме. Они охотно и бескорыстно обучали Толю тонкому ремеслу.
У Толи длинные, гибкие пальцы. Тихий парнишка Женька Шорников с ангельским взглядом и неряшливо заштопанной шеей после операции, мальчик, на которого и не подумаешь, что он способен залезть в карман, позавидовал Толиным пальцам:
— С таким клепками озолотеть можно!
Женька ошибся. Кроме пальцев, карманнику полагается имегь и крепкую «гайку», как говорят ребята. С «гайкой» у Толи дела обстояли неважно… «Теорию» он освоил быстро. Дома, среди своих, делал классные «наколки». Но стоило ему войти в магазин и прислониться к карману, в котором таились деньги, как он вспыхивал, словно брался за горячую железяку, а потом бледнел, а потом дрожал, а потом попадался.
Но долги по чике Толя все-таки погасил. Он подрядился к одному водовозу черпать воду из проруби, и тот выдавал ему процент с каждой бочки.
Зато книжки читать Толе никогда не надоедало. Читал он что попало и где попало: в школе, на уроках, ночью, зажигая тайком свет, и даже в уборной умудрялся читать. чем приводил в изумление ребятишек и в негодование учителей.
Школьную и детдомовскую библиотеки Толя «проглотил», просился в городскую библиотеку, но там сказали, чтоб принес табель. Толя не пошел за табелем — худой у него табель, даже не худой, а чудной: по литературе, географии и истории в табеле отличные отметки. А по математике и тому подобным наукам у него лишь изредка «песики» провертываются. Остальные же «плохо» и «оч. плохо». И ничего Толя с собой поделать не мог. Другой раз заставит себя слушать и слушает, а его куда-то уводит, уводит, и окажется он в джунглях Африки либо на Северном полюсе…
Очнется — учитель по прозвищу Изжога формулы объясняет. При чем тут формулы?! К чему вся эта надсадная наука? Он станет путешественником или еще кем-нибудь поинтересней, и чихать ему на дроби и на Изжогу вместе с ними.
Не будь у Толи сломана нога, сроду бы не попасть ему в хорошую библиотеку. Валериан Иванович — мягкая душа — не смог отказать больному мальчишке, сходил, записался в библиотеку отделения Севморпути — лучшую в городе — и попросил в свою карточку вписать и Мазова Анатолия.
Библиотекарь, не снимавший картуза с «капустой» даже здесь, в «храме книг», замялся:
— Вы знаете, ребят мы не записываем.
— А почему?
— Видите ли, — еще раз замялся библиотекарь с «капустой» на картузе, эти книги собраны со всех концов страны в дар нашему городу, и мы стараемся сохранить их, а дети, знаете…
— Знаю. Рвут книги, треплют. Но разве те, что прислали сюда книги, Репнин кивнул на стеллажи, — рассчитывали, что тома сии будут стоять свидетельством их добродетели?
— Ну зачем же? Мы выдаем книги летчикам, населению, у нас даже есть передвижные библиотеки, в том числе на Хатанге даже…
— Книги будут в сохранности. В крайнем случае, утрату возмещу.
— Тогда залог пожалуйте, — потупился парень с «капустой».
— Какой залог?
— Десять рублей.
— Хорошо, я пришлю с мальчишкой десять рублей.
— Ну не сердитесь. Такой порядок. Я извиняюсь, конечно… Простите…
— Порядок есть порядок. Против него я возражать отучен, — пробубнил Валериан Иванович.
Именно в те дни и свалилось как снег на голову письмо Толиного отца Светозара Семеновича. Толя и не подозревал даже, что сам навел отца на свой след.
В больнице Толя познакомился с двумя беженцами из северного лагеря. Больница в Краесветске одна, и в нее направляли всех больных без разбора. Два эти арестанта бежали слишком рано, в апреле, и обморозили ноги. Их вылечили, вернули обратно, добавив по пять лет сроку.
В больнице от нечего делать Толя, должно быть, все рассказал этим беженцам о себе, а они в тесной лагерной жизни натолкнулись на Толиного отца — Светозара Семеновича Мазова.
Письмо было написано на полоске бумаги, снятой с банки от сгущенного молока. Конверт из оберточной бумаги, склеенной хлебным мякишем.
Валериан Иванович с недоумением начал читать письмо, адресованное на Краесветский детдом.
«Уважаемый тов.!» Слово «тов.» было исправлено на «гражданин». «В нашу местность, где мы строимся, привезли из Краесветска беженцев. Они поознобились и лежали в больнице вместе с парнишкой по фамилии Мазов, по имени Анатолий, по отчеству Светозарович. Все сходится с моим сыном, возраст тоже сходится. Он остался маленький, когда меня изолировали. Я слышал, всех наших сослали в Краесветск, и что с ними — неизвестно. Может, поумерли, а мой сын попал в приют? Уж очень все сходится. Вот почему беспокою вас своим письмом. Напишите, правда или нет? Очень я переживаю. Пока ничего не знал, спокойней был. Может, нам никогда и не свидеться. Но уж одно знать — живой — радостно, и смысл бы в жизни стал. Сообщите, Христа ради, гражданин начальник. Очень я переживаю. Я не убегу отсюдова. Пусть был бы только живой да человеком бы стал. Извиняюсь за беспокойство. С низким поклоном Мазов Светозар Семенович».
Валериан Иванович долго сворачивал письмо, засовывал, никак не попадая в конверт. Отвернулся к окну. С дровяника прыгали ребятишки в мягкий торф. Толя сидел в сторонке, на чурбаке. Новенькие костыли его рядом. Он что-то кричал, подпрыгивал на чурбаке. В глазах его была зависть.
Валериан Иванович неделю читал и перечитывал письмо, не зная, как поступить: показать его Толе или скрыть?
«Нет, пусть ссыльный, пусть арестант, но все же отец родной… А если потом до последнего дня будут попрекать этим отцом ни в чем неповинного мальчишку?»
И все же, перемучившись сомнениями, с тяжестью на душе, Валериан Иванович решил отдать Толе письмо, да все чего-то тянул, никак не мог набраться духу.
В это время принесли еще одно письмо от Светозара Семеновича. Он предполагал, что первое письмо не дошло, затерялось.
«Надоумили меня добрые люди подать в розыск, на адресный стол. Но я решил прежде еще раз попытать счастья, и тогда уж действовать по-другому… Предчувствие о сыне у меня, — писал далее Светозар Семенович, — все время во сне вижу, только почему-то маленького вижу, ползунка…»
Валериан Иванович хотел позвать к себе Толю, чтобы отдать ему оба письма. Но парнишка сам явился, открыл дверь и перекинул костыли через маленький порожек. Был он бледен и чем-то встревожен, пристально смотрел на Валериана Ивановича и не решался о чем-то спросить.
«Кажется, он узнал о письмах?! Это ж ребята! Они ж все пронюхают!..»
— Ты чего? — первым заговорил Валериан Иванович, соображая, как ему быть. — Не упал ли? — Он поглядел на Толину ногу, тяжело и толсто загипсованную.
— Нет, не упал. — Толя чуть приостановился и вдруг выпалил: — Это правда, что вы белый офицер?
Валериан Иванович сидел минуту неподвижно. Брови его медленно сходились к переносице, от которой покатила на лоб мертвенная бледность. Он готовился к этому вопросу, постоянно готовился и все же отвечать на него не знал что. Ведь не крикнешь мальчишке в лицо те же слова, какие он выпалил на точно такой же вопрос молоденькому следователю в кожаной куртке, в штанах-галифе и с железной непримиримостью в глазах: «Я русский офицер! И горжусь тем, что служил отечеству так, как велела мне честь и совесть русского офицера! Между прочим, среди них были Лермонтов, Пржевальский, Раевский, Кутузов, Суворов. А кто вы такой? По какому праву здесь, на моей земле распоряжаетесь?!»
Тогда все было проще. Следователь напорист, горласт и малообразован был. Валериан Иванович тоже был еще сравнительно молод, хотел красивой смерти и потому геройствовал, доводил до исступления следователя-юнца своей утонченной язвительностью и высокомерием.
Да, там все было проще.
А здесь вот что сказать? Что ответить этому мальчишке? Ему ведь все ясно. Есть красные и белые. Свои и чужие. Он видел их в кино. Белые — в окопах по ту сторону, красные — по эту. Белые стреляют из пушек, а красные с гиком летят на конях и рубят беляков нещадно, к великому удовольствию зрительного зала.
— Что ж ты стоишь? Сядь. Тяжело на костылях.
Валериан Иванович подвинул Толе табуретку, а сам отвернулся к окну.
— Да, я действительно служил в старой армии. Воевал, — поправился. Сначала с немцами. А потом…
Услышав свой голос, Валериан Иванович вдруг понял, что он оправдывается. Оправдывается! Его передернуло. Почему, собственно, он должен оправдываться перед этим парнишкой? И перед всеми остальными детьми? Разве мало сделал для них? Разве он не отдал им всего себя? Разве он мало мучился? Неужели он должен всю жизнь мучиться? За что мучиться-то? Он разволновался, зашагал по комнате этим своим старым четким, строевым шагом, на который переходил всегда, когда нервничал. Скосил взгляд на Толю. Парнишка сидел убитый, низко опустив голову. Говорить ему сейчас что-нибудь было бесполезно — парнишка услышал главное: человек, к которому он успел привязаться, оказался беляком! И он уже вяло, просто чтобы не молчать, заговорил:
— Не все офицеры, Анатолий, вешали и пороли людей шомполами. Между ними, как и между прочими людьми, тоже есть разница. Когда-нибудь ты разберешься в этом. Потом, когда вырастешь. А сейчас оставь меня, пожалуйста… Пожалуйста…
Толя поднялся, утвердился на костылях, взялся за скобу, но не уходил.
— Да, одну минуту! — Валериан Иванович выдвинул столешницу и торопливо сунул под бумаги письма Толиного отца — забыл, что они лежат сверху. — На вот, — вынул он из стола и протянул Толе десять рублей. — Отнеси этот залог в библиотеку Севморпути. Там тебе будут выдавать книги. — Губы Валериана Ивановича покривило. — Без залога не дадут. Бери! Чего ты?!
Толя не сразу взял деньги. Он стоял на костылях, упрямо потупившись, а Валериан Иванович стоял с протянутой десяткой. Мальчишка пересилил себя и, чуть слышно сказав спасибо, засунул деньги в карман.
Уходил он словно побитый, скрипя новыми, еще не притертыми костылями. У него на шее отросла косичка — в больнице, видно, не стригли. И меж лопаток, приподнятых костылями, провалилась ситцевая рубаха. Валериан Иванович едва удержался, чтобы не погладить эту худую и почему-то усталую спину. И еще Валериан Иванович думал, что Толя, наверное, на отца мало похож, уж очень раним, порывист, порою жесток, а отец из-за имени ли, из-за склада ли письма представлялся Репнину человеком степенным, рассудительным и мягким.
Валериану Ивановичу боязно было оставаться одному, и он словно гнался за мальчишкой, старался думать о нем, только о нем.
Толя спрятался в раздевалке и долго сидел там на подоконнике, ковыряя ногтем замазку, чувствовал себя в чем-то виноватым, а в чем — разобраться не мог. Прислушался, соскочил с подоконника, вышел в коридор. Навстречу ему, равномерно вскидывая ногу, шагал Борька Клин-голова. Толя прислонил костыли к подоконнику, изловил вспорхнувшую «жошку» и, когда Борька гневно уставился на него, дал ему по широкоскулой морде так, что Борька брякнулся в окно и чуть не вышиб раму.
К удивлению ребят, Борька Клин-голова отквитываться не стал. Ребята подумали: из-за того, что Толька на костылях. Но один Толя знал почему. Это он, Борька Клин-голова, разносит слухи по детдому, треплется о Валериане Ивановиче.
Проныра Маруська Черепанова узрела, что Маргарита Савельевна не заперла сейф. Она, конечно же, добралась до бумаг и прочитала их, в том числе и личное дело Валериана Ивановича, из которого и узнала, что он ссыльный офицер. Борька Клин-голова за обертку от шоколадки выпытал все у Маруськи и поддел в первую очередь Толю, которого все считали любимчиком заведующего.
Маргарите Савельевпе, ведающей канцелярскими делами, Толя тоже попенял насчет сейфа. Она, как всегда, испугалась, изругала себя за утерю бдительности. Маруську Черепанову Толя приструнил по-свойски — взял ее за ухо и подержал маленько. Жаловаться Маруська на него не пошла: знала, что рыльце в пушку.
Все как будто хорошо: Борьке Клин-голове дал, воспитательнице выговор сделал, Маруську «воспитал», но никакого успокоения все равно нет. Как же это так? Валериан Иванович, такой вежливый, «постановой», по тети Улиному, такой ко всем ребятам справедливый, и…
Тут же Толя с удивлением подумал, как часто Валериан Иванович повторяет ему слова: «Разберись», или: «Потом разберешься». Парнишке же не потом, а сейчас подавай ответ, готовый, чтобы голову не ломать. Что ж эта самая жизнь — сплошная задача, что ли? А он вот не любит никаких задач, не переваривает математику!
Пока Толя решал свою задачу, Валериан Иванович, меряя шагами комнату, тоже решал задачу, но уже за себя и за него.
Чтобы ребята, те ребята, которым он отдал всего себя, сделались ему судьями, ему и в голове не приходила никогда такая мысль! И вот… Волей-неволей он пытается оправдаться перед ними, и прежде всего перед этим чувствительным и жестоким мальчишкой, который сдуру сломал себе ногу, а если за ним не доглядывать, и шею себе свернет.
Итак, шомполами он никого не порол, шкур с красноармейцев не сдирал и вообще лично сам никого не убил и не обездолил. Но и царь, и адмирал, которым он верой и правдой служил, лично сами тоже никого не убивали! И тем не менее…
Громкие слова насчет отечества и земли родной, которые он когда-то бросал кудлатому, петушистому следователю, и самому ему казались несколько театральными, и он без смущения и неловкости не мог вспоминать о них.
«Задним умом все мы, русские, богаты! Воистину так», — усмехнулся Валериан Иванович.
«Ну-с, хорошо! Было и быльем поросло», — говорил Ступинский. Как видишь, любезный товарищ, не поросло. Да и вряд ли порастет. Говорят, римский император Нерон уничтожил двести семнадцать человек. Гимназистик он в сравнении с нынешними императорами! А вот поди ж ты, от Римской империи и до наших дней дошел он под именем «кровавый». А мои грехи соответственны моей ординарной персоне: служил, способствовал, заблуждался, хотел российскую казну украсть. Служил кому? Если прямо говорить — врагам своего народа. Способствовал чему? Кровопролитию на своей земле и, как это ни ужасно, в конечном счете сиротству. Он искупает свою вину!
Но разве есть вина мальчишки в том, что он родился именно у этого отца?
Глупо и вопрос-то ставить так. Глупо и жестоко. Однако он знает людей, которые и вопроса никакого ставить не будуг. Им все совершенно ясно на этом неспокойном свете: есть свои и чужие, друзья и враги, люди с кристальной биографией и с подмоченной.
Трудно человеку с подмоченной… Даже если сам он ее не подмачивал, все равно трудно. И он, Валериан Иванович Репнин, человек с подмоченной, сделает все, чтобы мальчишка, его воспитанник, вышел в свет с хорошей, чистой биографией.
Поздней ночью Валериан Иванович сел к столу, обмакнул перо в «непроливашку», помедлил и начал писать: «Глубокоуважаемый Светозар Семенович! Действительно, в нашем доме проживает Ваш сын. Он растет хорошим парнем. Больше я ничего Вам о нем не напишу, чтобы не травмировать Вас. Вам и без того…»
«Ишь ведь сочувствие слюнявое, старомодное так и лезет уз меня! Разве это человеку нужно?» — Репнин скомкал листок, бросил к печке, и на другом листке побежали ровные буквы. Перо спотыкалось о бумагу:
«Уважаемый Светозар Семенович!
Предчувствие Вас не обмануло. Да, в нашем доме живет Ваш сын. Но прошу Вас больше никогда не напоминать о себе. Так будет лучше. Сочувствую Вам, сожалею, что усугубил Вашу и без того горькую судьбу. Делаю это ради Вашего же сына.
С глубоким, искренним почтением Репнин, заведующий Краесветским детдомом».
Все. Опять проскользнуло это самое сочувствие, но, видно, уж ничего с ним не поделать. Валериан Иванович запечатал письмо в конверт, написал адрес, в котором номеров и цифр было больше, чем слов, и, чтобы не раздумать, не спасовать, среди ночи отправился к ближайшему почтовому ящику, опустил письмо.
Потом брел не зная куда. Возвращаться в детдом не хотелось. И встречаться с ребятами, особенно с Толей, тоже не хотелось. Чувство вины перед мальчишкой не проходило, а, наоборот, усиливалось. Ощущение у него было такое, будто он предал всех ребят, город этот и себя тоже.
«Так надо… так надо… так лучше…» — утешал себя он, но легче от этого не становилось.
«Пусть жизнь рассудит нас, — подумал Валериан Иванович, — и люди пусть рассудят…»
Все это было уже давненько. В библиотеке Севморпути Толя успел стать своим человеком, и ему давали книжки даже из «особого» какого-то фонда.
Библиотекарь с «капустой» оказался, можно сказать, героической личностью. Был он штурманом и однажды в непогодь полетел на Пясино. Заблудились. Авария. Летчик, что похоронен на площади у Краесветского горсовета, был его большим другом. Из-за могилы этой штурман не может покинуть Краесветск. Вот и торчит в библиотеке: у него отмороженная ступня. На самолеты в окно глядит, и картуз не снимает, и пиджак с эмблемой на рукаве.
Толя тоже рассказывал штурману обо всем, и тот теперь был в курсе детдомовских дел, знал Толиных друзей — почти наперечет.
Жизнь детдомовская шла своим чередом от зимы к лету, от лета к зиме. Ребята незаметно для себя взрослели, взрослые люди, воспитывавшие и учившие их, незаметно для себя старели.
И вот в детдоме, в жизни его получился какой-то непонятный сбой. Начался он со смерти Гошки Воробьева, с кражи, с обыска.
Через день после кражи и обыска состоялось спешное совещание в гороно. К удивлению Валериана Ивановича, на совещании этом оказался председатель горисполкома Ступинский. Избрали его председателем не так давно, и потому он везде хотел участвовать сам. Хозяйствование Ступинского почувствовалось в городе. Почти прекратилось повальное строительство времянок и бараков с засыпными стенами, появились планированные улицы и на них двухэтажные капитальные дома. Откопан был в бумагах и пущен в ход проект водопровода, сделанный одним молодым инженером несколько лет назад. Водопровод этот состоял из двух труб, только были они подняты на стояки и уложены в утепленный короб. По одной трубе текла холодная вода, по другой — горячая. Труба с холодной водой не бралась ледяными пробками и не лопалась, потому что ее грела горячая труба.
Дядя Маруськи Черепановой, выездивший на водовозной бочке еще более крепкую справу и хозяйство, чем до раскулачивания, выдавал теперь племяннице на гостинец не по рублю, а по гривеннику и грозился подрубить водопроводные стояки.
Ступинский, как только сошел с должности коменданта, вскоре женился. Жена его, рамщица с лесозавода, была дочерью переселенца, и многих это сильно озадачило, в том числе и Валериана Ивановича. Он думал — попадет Ступинскому. Но, видимо, обошлось.
«Интересно, зачем Ступинский пожаловал на это „узкое“, по выражению Ненилы Романовны, совещание?» — подумал Валериан Иванович. Он не знал, что на этом настояли гороношные руководительницы, дабы придать вес и солидность совещанию.
Валериан Иванович сидел один, на отлете, как бы заранее и добровольно определив себе место подсудимого. Тугие мешки нарывами набрякли под его глазами, но глаза были спокойны и даже чуть сонливы от усталости. Руки неподвижно лежали на коленях. Тяжело опустились глубокие складки от уголков губ до подбородка. И все лицо его, до синевы выбритое, взялось крупными складками.
Докладывала Ненила Романовна Хлобыст. Завгороно Голикова ерзала, подпрыгивала, хмурилась, закатывала глаза и что-то решительными взмахами заносила в блокнот. Она все время делала суровый, начальственный вид. Не знала, стало быть, что никакого «вида» у нее не получалось и никогда не получится, потому что лицо ее плоское и круглое, вроде тарелки, и на эту тарелку, на самую ее середину, высыпаны мелкие предметы: сморщенный, как у мопса, носик, бровки с воробьиное перышко, глазки величиной с горошины, и ниже всего этого решительные усы, ротик гузкой, но тоже решительный.
Ступинский, спросив разрешения у женщин, назвав их при этом не без ехидства дамами, курил, скучно провожая взглядом струи дыма к потолку. Он терпеливо слушал, принимаясь время от времени вертеть перед собою деревянное пресс-папье. Рядом с ним сидела молодая девушка спортивного вида. Валериан Иванович догадался — его замена — и пожалел ее, да и ребят тоже…
— Ненормальная обстановка в детдоме создалась из-за панибратского, какого-то, извиняюсь за выражение, бабьего отношения к воспитанникам со стороны заведующего. Й-я понимаю, — Ненила Романовна сделала значительную паузу, глянула на Голикову. Та важно и утомленно прикрыла глазки: дескать, как это ни прискорбно, но… говорите. — Й-я понимаю, — продолжала Ненила Романовна, — за плечами Репнина тяжкий груз прошлого, и этот груз не позволяет ему быть крутым с детьми…
— Он отхлестал штанами одного воспитанника по морде. Паясничал тот… — вставил Ступинский.
— Разве? Я этого не знала! — удивилась Ненила Романовна. — Когда это было?
— Во время обыска.
— Ах, эта ужасная кража! — Ненила Романовна поскорбела лицом, а Голикова важно закивала головой:
«Да, да, товарищи, это ужасно!» — Обыск был без меня. Я инспектировала школы, — пояснила Ненила Романовна.
— А ребятня — кассу! — хмыкнул Ступинский. — Продолжайте, продолжайте.
— Я заканчиваю, товарищи, — дрогнувшим от обиды голосом заключила Ненила Романовна. — Надо оздоровить обстановку в детдоме решительным образом, или там откроется резня. В конце концов на нас ляжет пятно, ибо можно опасаться за жизнь школьников и работников детдома!..
Девушка спортивного вида побледнела.
Ступинский, тая улыбку, покачал головой и лукаво, со скрытым смыслом глянул в сторону Репнина.
Валериан Иванович чуть заметно пошевелил усталыми губами, ровно бы улыбнулся ему в ответ.
«Если этим дамочкам власть да волю, — подумал Ступинский, — они устроят смех и горе». Он попросил слова. И, по опыту зная, что на таких говорунов, как Голикова и Хлобыст, нужно как можно меньше тратить слов — в словах они любого одолеют, — прямо и твердо пресек попытку заменить Репнина человеком, только-только закончившем училище.
— Пусть новенькая преподавательница посмотрит, попрактикуется, приобретет опыт и, глядишь, со временем заменит Репнина. А пока рано. Так или нет? — повернулся Ступинский к девушке, сидевшей рядом.
— Да, да, конечно, — поспешно согласилась она, — я вообще не собиралась в детдом. Я же историк. Мне бы в школу… В школу бы мне…
— Вот и отлично, — поддержал ее Ступинский. — В школе у нас учителя перегружены, и вы прибыли как нельзя кстати. А Репнин пусть сам расхлебывает ту кашу, которая у него заварилась. Нечего за него другим…
«Ах ты, борец за справедливость! Хитер, однако, весьма хитер! удивился Валериан Иванович. — Ишь как ловко вокруг пальца обвел начальницу-то! Чисто сделал, что хотел, и не обидел как будто никого при этом…»
Валериан Иванович покашлял в кулак и поинтересовался, может ли он быть свободным.
Вместе с ним вышел из гороно и Ступинский. Он длинно выругался и плюнул:
— Какие дуры! Какие дуры!.. И таким фиитифлюшкам самое ценное доверяют! Ребят, а?
— Я вас не понимаю. Кто доверяет? Не вы разве?
— То-то и оно, что не один я. Будь моя воля, я б их годика два на бирже подержал, на укладку бруса вместе с другими бабами поставил бы. Они б им показали «мэтод»!
— Кто же вам мешает?
— Кто, кто! — сбоку поглядел на Валериана Ивановича Ступинский. Дедушка пыхто. Негусто у нас специалистов. А этих из области прислали. Добровольцы! Специальное образование имеют обе. Гнать в шею прикажете? Прогнать, так в другой раз фигу с маслом дадут. Потому как считают укрепили наше гороно. Ну, слава те, сидят они теперь в стороне от ребят и согласно «мэтоду» составляют бумажки, авось их читать в школах не будут. Ступинский неожиданно сделал выразительный мальчишеский финт ногой. — А при случае мы их на магистраль отправим, на повышение.
— А если заставят?
— Что заставят?
— Бумажки читать, — гнул свое Валериан Иванович.
— Да чего вы все — если да если! Ну, если учителя будут действовать согласно бумажкам, скуку разведут в школах, жизнь засушат. Да все же я верю, что у них своя голова на плечах…
— Н-не знаю, не знаю, — пожевал губами Валериан Иванович. — Есть извечный трепет у русского человека перед казенной бумагой, и если он овладеет душами учителей…
— Опять — если! Если бы да кабы, так в нашем совхозе росли бы бобы… Пойдемте подвезу вас до Старого города. У меня теперь машина в личном, Ступинский поднял палец, — распоряжении. Знай наших! — За этой бахвалистой шугкой скрывалось смущение — не привык еще Ступинский к разного рода персональным благам и стеснялся окружающих.
Репнин будто и не заметил этого смущения, ворчливо напомнил:
— Пассажирского автобуса, между прочим, до сих в городе нет. Ходят люди из Старого города в Новый в пургу и стужу за три километра…
— Как вас только и выносят ребятишки?! Оборони Бог, какой дедушка-соседушка! — усаживаясь в черную «эмку», снова пошутил Ступинский, но уже невесело пошутил: — А автобусов пока не будет. Четыре грузовые машины переоборудуются в гараже. И за это скажите спасибо. И за это…
— Что ж, благодарю, коли это так необходимо, — произнес Валериан Иванович с едва заметной иронией и за всю дорогу уже не разжимал больше рта, ожидал, когда Ступинский начнет расспрашивать про кражу.
Но и тот тоже молчал, уже, видать, мысленно переключившись на другие свои дела и заботы.
Машина суетливо бежала по деревянной мостовой, подпрыгивала на чурбаках, горбылинах, густо насоренных на дороге. По бокам, тоже подпрыгивая, плыли исполосованные ветрами и потайками, горбатые, туго сбитые сугробы снега. Из-за них ничего не было видно.
Попрощавшись со Ступинским возле управления лесокомбината, Валериан Иванович зашел в прачечную, а затем в горэлектросеть, уточнил там счета и, уже свободный от хозяйственных хлопот и забот на сегодняшний день, полностью отдался мыслям о только что прошедшем совещании. Сейчас, со стороны, все, что происходило в гороно, казалось маленьким, худо кем-то подготовленным спектаклем.
«Орлы кассу обчистили. Люди неповинные из-за этого страдают. По городу снова поползли слушки о детдомовщине, и каждое разбитое стекло, каждый вытащенный кошелек охотно и дружно списываются на детдомовцев, — мрачно рассуждал про себя Валериан Иванович. — Работникам гороно подумать бы о том, как помочь привести в порядок детдомовскую жизнь, некоторых воспитанников выселить бы следовало, остальных к труду приучать бы, а тут гороношный новый „мэтод“, рассчитанный на подготовку белоручек и лодырей!»
— М-да, диалектика! — досадливо буркнул Валериан Иванович, медленно двигаясь к детдому по извилистой, как попало протоптанной ребятишками тропинке. Она то прочеркивала затиснутые снегом кусты, то выбегала на чистину и смирно текла по сверкающему белому снегу, а местами делала бойкие, совсем необязательные загогулины или взбегала на бугорки, приостанавливалась, почти исчезала среди глубокого снега и тут же широким потоком, раскатанным обутками, бежала вниз, потом снова усмирялась и тонко виляла по кустарникам.
Валериан Иванович приостановился на невысоком бугорке, осмотрелся и глубоко вздохнул. От тающего снега наносило огуречным рассолом, а от тальников, уже молодо и свежо поблескивающих, тянуло горьковатой корой, почками, чуть набухшими у рылец. Щекотно в носу у Валериана Ивановича сделалось, он протяжно, громко чихнул, утерся платком, улыбнулся, но тут же прислушался к себе — кольнуло сердце. «Как-то моя личная машина переедет весну? Не сдала бы. Всякой всячины свалилось: Воробьев, кража, письмо Мазова, а тут еще дурочки гороношные». И как это часто случалось, Валериан Иванович вдруг заторопился, безотчетно забеспокоился, предчувствуя, что дома непременно что-нибудь стряслось.
Предчувствие не обмануло его. Только-только он обопнулся дома, едва успел, как говорится, пых перевести — затрещал телефон длинно и заполошно. Звонил директор школы и просил немедленно прийти. По голосу директора Валериан Иванович определил: ничего хорошего в школе его не ждет, и вообще редко его вызывали в школу, если там все было хорошо.
По той же тропинке, но уже быстро, спешил в школу Валериан Иванович, борясь с одышкой и теряясь в догадках. Он начерпал в калоши. Ногам стало тяжело и сыро, да некогда остановиться, вытряхнуть Из калош снег. «Хоть бы не поножовщина, хоть бы не кража новая. Аппетит приходит во время еды».
Глава 6
Однажды…
Было это уже после того, как детдом наконец-то определили в постоянное помещение — отдали старое здание четвертой школы, на окраине города, за Волчьим логом, где вроде бы и полагалось быть детдому.
Однажды к дому с лихим разворотом подкатила оленья упряжка. На нарте привязаны ремнями узлы, сундук кованый, корзины, корыто и всякое разное добро. Неизвестно, как лепился на этой нарте каюр с хореем — эвенк в сокуе и бакарях. Он был кругл и неуклюж в меховой одежде. От дыхания пышно оброс куржаком башлык, поблескивали только кругленькие, раскосенькие глазки из куржака. От широколапых оленей валил пар, морды их тоже были в куржаке.
— Где начальник? Давай начальник! Говорку ему сказать хочу, потребовал эвенк от ребят, высыпавших на улицу.
Пришел Валериан Иванович. Эвенк высунул темную руку в прорезь между пришитой рукавицей и рукавом, поздоровался и зачмокал губами:
— Беда, начальник! Большой беда, бойе! — и сбросил вроде бы так просто лежавший на нарте сокуй. Под ним, меж узлов, за сундуком хоронилась девочка-подросток, закутанная в большую черную шаль. Она испуганно глянула на Валериана Ивановича, на ребят глазами, в которых стоял крик.
— Говорку тебе надо передать, начальник. Ребенок тепло веди, бойе, показал приезжий на дом.
Валериан Иванович вынул девочку из узлов и на руках понес в дом. Она не сопротивлялась. Только в глазах ее увеличился крик, расширил их, выдавил зрачки.
— Ну что ты, что ты, детка? — Дрогнув сердцем от взгляда этих глаз, прижал к себе девочку Валериан Иванович. — Бояться не надо.
Девочка рыбиной забилась в его руках, вырвалась и побежала по коридору, молча и неуклюже, оставляя на крашеном полу следы снега. В раздевалке она запряталась в угол и затравленно смотрела оттуда.
— Не надо трогать ее, — сказал ребятам эвенк, оттирая их собою от девочки. — Играть бегайте, учиться бегайте. Я начальнику говорку скажу, — и грустно, почти с мольбой попросил: — Бегайте, бойе!
…Мать девочки, Зины Кондаковой, была артельной мамкой, иначе говоря, стряпкой в рыбацкой бригаде. Бригада эта на зиму съехала со станка маленького поселка, притулившегося на берегу огромного озера. Мать Зины подрядилась караулить артельное имущество до следующей путины.
Из артели остались только два мужика: отец и сын Мартемьяновы. Они заключили договор на промысел песца. Мать Зины Кондаковой за плату обшивала и обмывала этих мужиков, надеясь сколотить деньжат, купить дом в Краесветске и зажить вдвоем с дочкой безбедно. Но поздней осенью заболела она, зачахла и скоро умерла. Мартемьяновы объяснили промысловикам-эвенкам, что загубил ее тяжелый климат Заполярья.
Следом за матерью начала чахнуть Зина. В маленьком станке спрятать даже самую маленькую тайну невозможно. Да Мартемьяновы не очень-то и скрывали от эвенков, что они приспособили дочь артельной мамки вместо жены. Два запойных, туполобых бродяги, вечно кочующих по стране за фартовыми деньгами, они считали, что эвенков стесняться нечего. Бригадир оленеводов, Селинчир, учился в Краесветской совпартшколе, он знает закон, говорил много Мартемьяновым — так делать нельзя. Закон так делать не разрешает. Мартемьяновы говорили худо про закон, и тогда Селинчир велел связать Мартемьяновых, отвезти их под ружьем в город, а девочку на другой нарте — в хороший дом, где живут ребята.
У Валериана Ивановича волосы зашевелились, когда он выслушал неторопливый рассказ эвенка. Он долго не мог молвить ни слова, а эвенк чмокал губами и покачивал головой:
— Беда, бойе! Какой худой людя живет! Зачем такой людя живет?
— Да есть ли предел человеческой мерзости? — вдруг закричал Валериан Иванович, нелепо воздев к потолку сжатые кулаки.
Эвенк от неожиданности покатился к двери комнаты.
— Господи! — кричал Валериан Иванович. — Господи! За что же детей-то? За что-о-о?
Валериан Иванович со сжатыми кулаками, косо повалился, уронил стул, тумбочку с книгами.
Эвенк стучал зубами, шептал что-то, должно быть, заклятья. Уложив Валериана Ивановича на кровать, тетя Уля увела эвенка с собой на кухню.
Эвенк стянул через голову сокуй, шапку из пыжика и оказался небольшим косолапым парнем в расшитой бисером парке и бакарях. От него пахло рыбой и зверьем.
Тетя Уля хотя и гнула нос на сторону, однако угощала его радушно и села приличную беседу, не выспрашивая ничего «секретного».
Вскоре на кухню, пошатываясь, вошел Валериан Иванович с пепельно-серым лицом и сказал эвенку, прервавшему чаепитие:
— Простите, пожалуйста.
— Ничива, бойе, ничива, — сочувственно закивал головой эвенк. — сэрсэ слабый, беда большой.
— Ульяна Трофимовна, позовите ко мне старших ребят и девочек. Сюда позовите, — устало попросил Валериан Иванович.
Пришли ребята, и среди них Толя Мазов.
— Анатолий, — все так же устало заговорил Валериан Иванович, — и все вы, ребята, слушайте меня. Слушайте внимательно. Среди вас нет более несчастного человека, чем та девочка, которую привезли сегодня. Она будет жить у нас. Перенесите ее имущество в кладовую. Девочку я пока определю к Ульяне Трофимовне. Потом она перейдет в комнату. И если я узнаю какую-нибудь пакость, я… я… я не отвечаю за себя. Не отвечаю… Вам понятно?
Ребята ответили недружно, однако утвердительно, ничего, впрочем, не понимая. Расспрашивать же заведующего не решались — таким они его еще никогда не видели. Никогда.
Узлы, корзины, сундук ребята стаскивали весело и быстро, кучей свалили добро в кладовую. Девочка, похожая в черной шали на старую галку, все еще таилась меж вешалками, со страхом наблюдая за ребятами. Пытались выманить ее, обедать звали, но она не шевелилась и даже не откликалась.
Эвенк сходил на улицу, принес тяжелый мешок и вывалил из него на пол кухни, как поленья, крупных мерзлых чиров с раскрошенными хвостами и плавниками.
— Тебе, начальник, — с нарочитой бойкостью проговорил эвенк. — Ты хороший людя, однако. — Подумал и несмело попросил: — Жалей девочку, бойе…
Валериан Иванович догадался: эвенк по простоте душевной предлагает ему рыбу вроде подмазки, на подхалимаж пошел ради того, чтобы заведующий был добрее к новенькой девочке. Валериан Иванович грустно усмехнулся, поблагодарил эвенка за рыбу и отдал распоряжение нахмурившейся было тете Уле:
— Сварите на ужин уху, рыбы с остатком хватит на весь дом.
Сам он отправился провожать эвенка, пожал ему на прощанье руку, велел поблагодарить бригадира Селинчира за то, что тот не дал погибнуть сироте, и самого каюра поблагодарил, отчего тот засмущался, пробормотал что-то по-эвенкийски и вдруг заблажил прямо с крыльца на дремно стоявших оленей, продышавших лунки в снегу. Они вскинулись, зашевелились.
— Мод-модо! — кричал эвенк, хореем направляя оленей в нужную ему сторону, и, немножко пробежав за нартой, упал на нее бочком.
Снег взвихрился за нартою, поднялся облаком. Издали, из снежного облака, послышалось:
— Жалей! Свидания!..
«Если бы дело было только в том, чтобы жалеть, дорогой ты мой бойе, проводив взглядом упряжку, подумал Репнин и еще долго стоял на холоде, глядя вдаль и ничего там не видя. — Если бы дело было только в этом…»
Как трудно было с Зиной в первые дни и месяцы! Она все забивалась в углы и глядела оттуда с невыносимой затравленностью. Ночью не спала, кричала. Девочки боялись жить с нею в одной комнате. Хорошо, что в доме есть тетя Уля. Она приручила Зину к себе, а потом и к ребятам.
Неожиданно Зина пристала к мастерице на все руки Екатерине Федоровне и жадно перенимала от нее женские ремесла, которыми та владела в совершенстве. В деле Зина и забылась. Она стала хорошо есть, у нее наладился сон, и пришло такое время, когда девочка уже без провожатого ношла в школу, а тетя Уля, наблюдая за нею в окно, вымочила слезами весь казенный фартук.
Но тут в городской газете напечатали заметку из зала суда под названием «Звери». Многие ребята в ту пору газет еще не читали. Маргарита Савельевна номер газеты «Большевик Заполярья» со статьей изъяла и ребятам не показывала. Однако весь Краесветск гудел и пересуживал страшную историю, и ребятам все стало известно, даже с прибавлениями.
Маруська Черепанова — первая разносчица новостей — трудилась в те дни без передыху. Лицо Зины опять потухло, глаза, в которых уже не было крика, опять заселила усталость старого-старого человека.
Зину куда-то вызывали, и даже в детдом приходила врачиха и запиралась в комнате. А в школе учителя сострадательно относились к Зине и не ставили ей плохих отметок. В тот год она едва-едва перешла в следующий класс, и не перешла, если прямо сказать, перевели ее.
Маргарита Савельевна проявила неслыханную дерзость, хотя работала воспитательницей в детдоме первые дни и всего тут ужасно боялась. Она с недоумением и напором спросила как-то у врачихи:
— Что вы делаете? Это разве человечно? Девочка слезами обливается всякий раз, когда вы уйдете.
Врачиха изумилась, сказала, не такой, мол, цыпе учить ее человечности, однако в детдоме больше не появлялась.
Добро, привезенное эвенком на нарте, лежало то в кладовой, то в сарае, то на чердаке. Добро это должно было сохраняться до совершеннолетия Зины. Но оно частью порастерялось, частью его изъели мыши, и Зина сделалась как все — без «добра». И радовалась этому.
Постепенно забылась заметка в газете, и Зина перешла с последней парты на первую и учиться стала на зависть всему детдому. Ее на доску Почета сфотографировали и в каждой праздничной стенгазете писали: «Берите пример с Кондаковой», «Гордость нашей школы!» — и все такое прочее.
Лицо у Зины тонкое, смуглое, кожа на лице чистая и гладкая-гладкая. У нее уже немножечко торчало под платьем на груди, и потому девочка выглядела взрослее своих лет. Она охотно дежурила на кухне, помогала мыть полы, вязала кружева из ниток, вышивала, починяла рубахи и платьишки ребятишкам, гладила парням праздничные брюки. Она пыталась всем помочь, всем услужить, будто навечно провинилась перед людьми и хотела искупить эту свою вину.
Из-за Зины и получилась драка в школе, потому и вытребовал директор школы Валериана Ивановича.
Вырвался на большой перемене Женька Шорников из класса как угорелый, съехал по отполированному задами брусу лестницы на нижний этаж и хотел уж ринуться дальше, да видит: стоит узкоплечая девчонка со знакомой красивой косой на спине, стоит возле лестницы и плачет. Присмотрелся — Зина. Кондакова Зинка. Беспокойство Женьку охватило — давно уже она не плакала.
— Чего тюнишь? — спросил Женька.
Зина только руки к лицу плотнее прижала. Из-под лестницы высунулась Маруська Черепанова — человек, все знающий и все ведающий. Человек, необходимый детдому и потому в нем появившийся. Когда-то у Маруськи был сильно озноблен нос. Торчал этот нос красной фигушкой среди пухлых и конопатых щек. Да еще совсем отдельно от лица жили ее черненькие, сквозь землю видящие глазки, в которых таился «интерес». Такой «интерес», что, заседая в канцелярии или решая вопрос на кухне, Валериан Иванович на всякий случай кричал: «Марусенька! Быстрей проходи мимо двери!»
Маруська стрельнула по сторонам ушлыми глазками и с придыхом сообщила Женьке Шорникову:
— Ей про нехорошее говорили. Парнишка один начал, а другие тоже взялися…
— Который? — сразу взъерошился Женька. Маруська хотела улизнуть, ее дело сделано, однако Женька сцапал ее, Маруську, за руку и не выпускал. Показывай, который?
— Вы его бить будете?
— Говори, выдра! — тряхнул Женька Маруську так, что она едва на ногах удержалась. — Это уж наше дело.
— Вон тот, — показала Маруська на лобастого парня, бегавшего в конце коридора. — Гляди, Женька, у него отец грузчик городского обозу. Си-и-иль-ный, телегу с конем подымат. Мне дядя говорил.
— Положили мы на этого грузчика вместе с конем…
Женька огляделся по сторонам, заметив Мишку Бельмастого и приказал: Быстро наших! Фрей один к Зинке приставал.
Мишка Бельмастый, полусонный, едва ворочающийся в другое время, сверкнув оловянным глазом, метнулся вверх по лестнице скакуном. Женька подошел к лобастому парню и сквозь зубы процедил:
— Отойдем, потолковать надо…
Парнишка пошел в папу-грузчика, мордаст был, рукаст и росл. Он смерил Женьку уничижительным взглядом и вразвалку пошагал напевая:
Ну что ж, потолкуем, коли надо!
Ну, кому какое дело, коли надо!..
Из-за песенки этой Женька не выдержал до лестницы и смазал парню по морде. Тот сгреб Женьку за рубаху, притянул к себе, но отквитаться не успел. Сыпанула детдомовская братва со всех сторон. Затолкали парня под лестницу. Там хранились старые плакаты, ведра уборщиц, древки от знамен. Били парня чем попало. Зинка исступленно кричала:
— Ребяточки, не троньте! Миленькие, не бейте!
На шум прибежал директор школы, сунулся под лестницу. В темноте его не распознали — тарабахнули ведром по голове. Он не отступил, дальше сунулся. Древком знамени добавили. Еле отбил парнишку и, ладно, догадался крикнуть ему:
— Беги отсюда!
Парнишка стриганул зайцем, разбрызгивая кровь на пол, крашенный желтой краской.
— Зверье! — кричал директор на взъерошенных, трясущихся детдомовцев. Навязались на мою голову! За что вы его?
— За дело! Не ори! — окрысился на него Женька Шорников, смирный вообще-то парень и ученик хороший, а тут его словно подменили, осатанился в драке.
Директор онемел на минуту, а когда опомнился, ни одного детдомовца вокруг, и Женьки Шорникова нет — сгинули. Робко толпились подле лестницы любопытные зеваки, да причитала сторожиха, прибирая инвентарь под лестницей.
— Господи, скотину шелудивую так не бьют, а они свово брата! Совецкого учащего! Ай, звери лютые! Право, звери!..
— Звонок был? — поправляя галстук и вытирая царапину на руке, обратился директор к ученикам. — Почему торчите здесь?
Вернувшись в кабинет, директор раз пять звонил в детдом, и наконец-то Репнин откликнулся. Директор, правда, к той поре уже остыл немного, но все же настоял на своем. Пусть Валериан Иванович отчитается за своих «гавриков». Распустил, понимаешь!.. Воруют, дерутся, на директора руку подняли.
Выслушав директора, Валериан Иванович какое-то время мрачно молчал, затем боднул взглядом:
— Чего же вы от меня хотите?
— Как чего? Это же безобразие!
— Что безобразие?
— Драка, вот что! Вы должны сказать этим, своим…
— Сказать, что за подлость не надо бить? Нет уж, лучше вы сами им об этом скажите, а меня увольте. По моим, временем утвержденным, понятиям — за подлость надо бить всегда и всех.
— Ну, знаете, Валериан Иванович, — развел руками директор, рассуждения ваши благородны, слов нет, но вот сейчас прибегут родители того гаденыша, и что я им скажу? Что?
— То и скажите, что их гаденыша били за подлость. Если не поймут, хуже для них. Это непедагогично, может быть, но я, как вам известно, не педагог…
— Да бросьте вы вечную эту свою песню! Я педагог. директор, а вон шишка на черепе — ваши огрели ведром! — И уже мирно буркнул: — Кормите их здорово, вот они и звереют. Так что же я должен сказать родителям?
— Не знаю. Меня занимает совсем другое. Что я стану делать с Зиной? У нас есть почти бандиты, и те деликатней ваших учащихся оказались. Она вот школу возьмет и бросит. Что делать? Переводить в другую школу? На отшибе от наших ей еще хуже будет. Здесь оставлять? А если еще сыщется такой же? Что делать, спрашиваю я вас? Дома кража. Меня в прокуратуру приглашают на собеседование. А вы тут с родителями… — Валериан Иванович достал платок, промокнул им потный лоб и, сбавив тон, рассудительно прибавил: — Грош им цена, коль с одним не могут справиться! — и с проскользнувшей гордостью за «наших» (а Валериан Иванович про себя всегда переживал, когда детдомовцев где-нибудь побеждали, били) глянул на шишку директора: — Славно поучили, и тут же заторопился: я, мол, без намеков. — Он теперь оглядываться станет, прежде чем гадость сделать, язык лишний раз не распустит. На всю жизнь запомнит.
— Э-э!.. — махнул рукой директор школы, примачивая из графина шишку на косице. — Толкуй больной с подлекарем! Я ему — стрижено, а он — брито. Нельзя же так, в самом деле. Они вовсе распояшутся. Вы хоть поговорите с ними, Взгрейте которых.
— Поговорить я с ними, конечно, поговорю. У нас назревает серьезный разговор. Разрешите откланяться? — Валериан Иванович не удержался, опять глянул на шишку директора и отвел глаза.
— Кланяйтесь. Никак у нас с вами не получается. Логика у вас какая-то… — Директор поискал сравнение и отмахнулся: — А никакой логики. Неразбериха! Анархизм педагогический. Всего доброго.
Когда Репнин с мокрыми калошами в одной руке и с шапкою в другой проходил мимо шестого класса, дверь сзади приоткрылась и вслед послышался голос Малышка:
— Робя! Варьяныч сердитый, спасу нет! Ой, чё только дома будет?!
Но ничего не было и потом. Валериан Иванович ходил по дому в серых подшитых валенках, сумрачно посматривал да придирчивей сделался к работникам детдома. Щеки его, впалые от природы, ввалились еще больше. Под крутыми скулами темнела щетина. Он или не мог пробрить ее, или перестал тщательно бриться.
В детдоме витало предчувствие каких-то событий, ну просто пахло ими. Ожидание, томительность взвинчивали ребят, бросали их из края в край: от грусти к веселью, от молчаливости к шуму, от доброты к злобе.
В четвертой комнате веселились. Дружно, не сговариваясь, ребята разделились на голоса, подголоски и «взухивали» песню:
На полочке лежа-а-ал чемода-а-анчик,
На полочке лежал чемода-а-анчик.
На полочке лежа…
На полочке стоя…
На полочке стоя-а-а-ал чемода-а-а-анчик!
Валериан Иванович тихо приоткрыл дверь, вошел в комнату. Тугой волной ударило в него непривычным в этом доме запахом водки и табака. Здесь вроде бы все навечно пропиталось вонью хлорки и карболки, так пропиталось, что к этим запахам казенного помещения жители его настолько привыкли, что даже не замечали их. А тут резануло по носу таким ароматом, хоть ладонью закрывайся. Паралитик, раскачиваясь, дирижировал костылем. Толя Мазов запевал…
— Гражданка, уберите чемода-а-а-анчик!
Гражданка, убери-те чемода-а-анчик!
Гражданка, убери…
Гражданка, чемода…
Гражданка, убери-те чемода-а-анчик!
Пели здорово. Паралитик сиял и размахивал костылем. Голоса у него не было вовсе, и потому он затесался в дирижеры. Валериан Иванович слушал, нюхал. Его не замечали. Лишь ломче на поворотах сделался голос Толи Мазова и нахальней чеканился припев:
А я его выброшу в око-о-ошко!
А я его выброшу в око-о-ошко!
А я его вы…
А я его бро…
А я его выброшу в око-о-о-шко!
— Где вы взяли деньги на водку? — громко спросил Валериан Иванович, вклинивались в песню. «Хор» недовольно смолк. Один Малышок еще тихонько повторял, увлекшись: «А я его вы… А я его бро…»
Кинув костыль с вырезанными на нем письменами под мышку, Паралитик прошелся по комнате и весело подмигнул компании:
— Деньги-то? На водку-то? Шли, шли, шли — и кошелек нашли.
— Пофартило! — восторженно поддакнул Борька Клин-голова и обвел лукавым, хмельным взглядом ребят, — Купил, нашел — едва ушел, хотел деньги отдать, да не могли догнать!…
Сдержанный смешок прокатился по комнате. Паралитик философски закатил глаза, собираясь пуститься в рассуждения, но проворный Попик, хвативший больше других, сломал комедию и, обращаясь к ребятам, только к ребятам, выкрикнул:
Робятё, робятё,
Где вы деньги беретё?
Вы, наверно, робятё,
По карманам шаритё.
Ох, как хотелось дать по стриженому затылку этому парнишке с продувной рожицей и всем этим гулеванам, с тайной радостью ждущим скандала! Но этой радости Валериан Иванович им не доставил.
— Если я еще хоть раз замечу в детдоме пьяных, ты будешь в три шеи вытурен отсюда, — бесцеремонно объявил он Паралитику. — Ясно?
— А почему я? — изумился Паралитик, нагоняя на себя возмущение.
Валериан Иванович уже не слушал его.
— Мазов, зайдешь ко мне вечером. Нужен. Попов, отправляйся колоть дрова, а ты, артист, тоже займешься полезным физическим трудом, — махнул он Борьке Клин-голове. — Остальным прибраться в комнате, проветрить ее. Пахнет, как в кабаке! И спать! Еще одна попойка — и я расселю эту резвую компанию!
Веселье было нарушено. Вслед Валериану Ивановичу Паралитик с вызовом пролаял:
Гад я буду, не забуду этот паровоз!
Тот, который чи-чи-чи-чи…
Чимодан увез!..
Но подхватили «Паровоз» недружно, и никуда он не увез. Валериан Иванович вернулся, недобро глянул на Паралитика, развалившегося на кровати, и вдруг громко рявкнул:
— Встать!
Паралитик, стукнув костылем, подпрыгнул. Заведующий показал ему на дверь. Паралитик мелко-мелко, по возможности негромко, зачастил костылем и только в коридоре опамятовался, зашипел:
— Раскомандовался, понимаешь! Шибко испугалися! — однако убрался с глаз долой.
— Ульяна Трофимовна, сейчас к вам придут два песельника, заставьте их колоть дрова до самого вечера. Те лиственные чурки, которые с прошлого года валяются. И чтоб не отлынивали!
— У меня не больно отлынят, — заверила его тетя Уля. — Ишь ведь сопляки! Выпили на грош, на рупь ломаются! Ну сопляки-и!
— Вы об этом особенно не шумите.
— Да чего шуметь-то? Весь дом знает. Затаились и ждут потехи. В старое время вожжами бы, язвило бы их…
— Сейчас вожжами нельзя. Гороно велит воспитывать по новому методу, индивидуальные беседы и хоровое пение рекомендует, — мрачно пошутил Валериан Иванович. Заметив, что шуткой своей он не развеселил тетю Улю, сказал уже серьезно: — Не давайте тут вольничать, особенно тем, из четвертой. Я в милицию пойду, за детишками кассирши.
— Иди, Иванович, иди, чего поделаешь? Может, Бог даст, все обойдется. — И, понизив голос, добавила: — Больше на мово землячка жми, на запевалу-то сопливого. Он возворотит деньги. Я знаю его. Он характерный, но и понятлив тоже…
— Добро. Попробую, — согласился Валериан Иванович, а тетя Уля, приметив поблизости Маруську Черепанову, уже нарочито громко, с неумелым притворством продолжала:
— У меня не больно забалуются. Я чуть чего — и огрею… Не больно у меня-то…
Валериан Иванович тихо улыбнулся. Он знал: попадало ребятам от тети Ули и черпаком и поварешкой, а чаще веником или полотенцем. Но никто не обижался на нее. «Рукоприкладство» тети Ули как-то всерьез не воспринималось. Ребята даже вроде бы радехоньки были, если им попадало. А попробуй-ка кто-нибудь другой тронь! Возмущение будет. Бунт. Есть откажутся. И слушаются ребята тетю Улю больше и подчиняются охотней, чем Маргарите Савельевне. А уж как Маргарита Савельевна старается, как старается, но слаба она характером для таких ребят. Подлаживается под них, угождает им, а делать это, оказывается, надо с осторожностью и умением. Нельзя ребятам показывать никакой слабинки. Они тут же воспользуются ею и потом уж никогда не забудут, на чем можно «купить» или обвести старшего. Они тоже по-своему борются со слабостями людей.
«М-да, а дирижера этого с костылем все-таки придется отправлять с первым пароходом, — думал Валериан Иванович, шагая в милицию. — И Деменкова тоже. А тех архаровцев, что с ними приехали, ребята воспитывать будут. И воспитают, сами того не заметив».
Воздух был синеват, студен и резок. После нудного, застоялого духа карболки на улице дышалось так, что даже кружило голову. Воздух ощутимыми толчками бил в грудь, приятно бодрил и тревожил.
В логу подняло снег. Наверх пробило рыжеватую пену. Табуном линяющих куропаток она ползла, шевелилась по всей низине. На протоке, в устье лога, затемнела узкая промоина. В ней плавал мусор, обрезь досок — торец, как его зовут в городе, а у самого уреза воды светилась фиолетовая пленка мазута. Из промытого льда торчали угрюмые, замытые сваи. Протока сделалась проплешистой. Снег на ней почти съело, и она взялась лишаями. Но на острове снег лежал в непорочной белизне, широко и уверенно. До ледохода было еще далеко. Еще не раз и не два зазимок ударит, хотя, падая в промоину, и пошумливает под снегом пробравшийся по логу ручей, и солнце слепит в середине дня. Однако нет в нем ярости, нет еще силы. Игры в нем больше, чем работы. От игры этой нарушен ход природы, и оттого она вроде бы сбилась с ноги, кругом ощущалось замешательство.
Детей Валериану Ивановичу выдал под расписку дежурный милиции, сидевший за деревянным барьером. Заведующий взял мальчика Аркашку и девочку Наташку, дошкольницу, за руки и вышел с ними из дежурки с коричневыми тесаными стенами, на одной из которых сиротливо висел вырезанный из журнала пейзаж Левитана «Золотая осень».
Нетрудно было заметить, с каким облегчением покинули дети прокуренное и проматеренное насквозь помещение. На улице был полдень. Много солнца. Некоторые горожане, торопя весну, надели очки, хотя сгорающий снег слепил еще не очень больно и вредно. Девочка отняла руку, заметив на вытаявших досках тротуара мелом нарисованные «классы», и запрыгала по ним. Бомбошка на шапочке ее каталась по голове смешно и весело. Под ногами девочки заговорил и запрыгал много раз латанный пестрый тротуар. Мальчик был серьезен. Он спросил, куда их с сестрою ведут. И Валериан Иванович чуть было по привычке не сказал: «Домой», но дети могли понять его неправильно, и он проговорил:
— В детдом, дети, в детдом.
Аркашка и Наташка разом присмирели, однако шли покорно. За логом вдруг оглянулись, будто прощались с городом, и Валериану Ивановичу показалось, что лица у детей в эту минуту были совершенно взрослыми.
— Ничего, Натка, — вдруг заговорил Аркашка. — Мы ведь не насовсем. Маму скоро выпустят, говорили.
«М-да, разговоры дошкольного возраста. Вот тут и попробуй упаси их, сделай, чтоб они меньше видели и знали. У взрослых аукнется — на детях откликнется. Хорошо бы тем, кто решает мировые дела и судьбы людей, поработать в детдоме или в школе, прежде чем решать их, эти дела».
— Ты в какой школе учишься, Аркаща? — спросил Валериан Иванович, чтобы как-то отвлечься самому и отвлечь детей, робеющих все больше и больше.
— В тринадцатой. А книжки у меня дома остались. И Наташкины тоже. У нее букварь есть. Мама купила. Я схожу. Можно?
«Мама, мама… — повторил за мальчиком Валериан Иванович. — Трудно, видимо, отвыкать от этого слова. И кто смеет отучать детей от него? Ах, негодяи, негодяи! Знали бы, ведали, что творят!..»
— За книжками и тетрадками ты сходишь. Букварь Наташин можешь не приносить. У нас буквари есть. А игрушки прихвати. — Валериан Иванович хотел сказать Аркашке о том, что переведут его в четвертую школу, где учатся детдомовцы. Не сказал. Пусть мальчишка ходит в тринадцатую, в свой класс. И пусть надеется, пока возможно. Может быть, и в самом деле все обойдется. «Во всяком разе, я шеи посворачиваю воспитанникам своим дорогим, но мать ребятам верну!» — дал он себе слово.
Осторожно, как по каткому льду, шли Аркашка с сестрой впереди Валериана Ивановича по детдомовскому коридору, пугливо втягивая головы в плечи. Пока Валериан Иванович доставал ключ и открывал дверь, они стояли, прислонившись к стене. И откуда эта привычка даже у маленьких детей стоять к стене спиной в минуты любой опасности?
Войдя в комнату, Репнин перво-наперво открыл форточку, велел ребятам раздеться. Из-под шапочки возникла жидковолосая челочка, и лицо девочки с зелеными глазами сделалось совсем шаловливым. Аркашка был в вельветовой курточке с замком-«молнией» — редкой вещью по тем временам — и в неумело, через край подшитых валенках, с которых натекло на половичок. Волосы у Аркашки рыжеваты, жестки, взгляд синеватых глаз строг и прям, губы сжаты.
Этот малый человек уже умел чувствовать беду.
Валериан Иванович велел Аркашке снять валенки и дал ему свои покоробленные кожаные сандалии. Наташка была в сереньких ботиках со шнурками.
— А я не наследи-ила, — пропела она.
Потрепав ее по голове, Валериан Иванович выглянул в коридор. Борька Клин-голова шел, увлеченно подпинывая «жошку».
Валериан Иванович поймал вспорхнувшую в воздухе «жошку» и приказал очнувшемуся Борьке Клин-голове срочно позвать Мазова.
Борька Клин-голова почесался.
— А «жошку» отдадите?..
— Я, кажется, велел позвать Мазова!
Борька Клин-голова засвистел мотивчик песни и вразвалку отправился выполнять приказ заведующего. «Эк ведь его! Шагу ступить без фокусов не в силах», — сморщился Валериан Иванович.
Толя Мазов вздрогнул, когда ему передали, чтоб он шел в «канцелярию», к заведующему.
С тех пор как Валериан Иванович сказал, чтобы он зашел к нему вечером, Толя томился. Угадывал, что разговор будет, конечно, о деньгах, и боялся этого разговора. Думал, может, заведующий как-то забудет о нем, а тот, как видно, не забыл.
Толя протиснулся в комнату Валериана Ивановича и увидел девочку и мальчика, сидевших рядышком на стульях. И непонятное беспокойство нахлынуло на него. Девочка болтала ногами и крошила зубами печенинку. Мальчик держал печенье в руке, и оно совсем уже размякло в отпотевшей ладони.
Толя забыл поздороваться, ждал, поправляя рубаху, что скажет заведующий.
— Вот, — не поворачивая головы к Толе, что-то вытаскивая из ящика письменного стола, мотнул головой Валериан Иванович. — Это дети той женщины, кассирши из бани, у которой вы украли на пропой деньги.
Удивленно поглядел на Валериана Ивановича Аркашка, перевел взгляд на Толю, и лицо его вспыхнуло. Он опустил глаза, а сестра его все так же беззаботно болтала ногами и доедала печенинку. Брат незаметно положил на подол ее платья два кружочка, и глаза Наташки радостно заблестели. Девочка захлопала в ладошки, да так и застыла с поднятыми руками. Она обвела всех виноватым взглядом, медленно опустила руки и присмирела.
Толя стоял, как на суде, — руки по швам. Валериан Иванович был туча тучей, нервно пошвыривал какие-то бумаги на столе.
— Дети, Аркаша и Наташа, будут временно жить у нас, — жестко и медленно заговорил он наконец, давая Толе время уяснить смысл его слов. М-да, поживут. До тех пор, пока не сыщутся деньги. — И уже совершенно буднично, деловито закончил: — Они еще очень малы. Им присмотр нужен. Ты будешь им за…
— Вы — захлебнулся от разом вспыхнувшей ярости Толя. — Ну вы и… Смеетесь, да? Насмехаетесь? Я…
Толя выскочил из комнаты заведующего, свирепо саданул дверью. Ругаясь сквозь стиснутые зубы, заметался он по детдому и дал одному подвернувшемуся парнишке пинка. Тот горестно завыл и отправился искать Маргариту Савельевну, чтоб пожаловаться ей. Не принято было у старших ребят трогать малышей, и шкету этому, видать, не столько уж больно было, сколько обидно. «Изнежились, заразы! — ругался Толя. — Тронуть нельзя! И чего это все вверх тормашками пошло?! А Валериан-то Иванович? Вот ехидный, так ехидный! А я сам-то? Хорош! Чего наделали?! Чего наделали?!»
Вдали все еще завывал парнишка. Его окружили малыши, о чем-то расспрашивали, со злостью поглядывая в сторону Толи, затем гурьбой отправились в красный уголок и втолкнули туда парнишку, который из последних сил выжимал слезы и прибавлял голосу. Сейчас «воспиталка» заведет: «Вы, старшие, должны пример подавать, а вы…» Тьфу! Уходить надо, скрываться!
Глава 7
У Толи было в характере: чуть что неладно — из дома долой, хоть в злобе, хоть в тоске, на улицу, к реке, в лес. И там, в одиночестве, он чаще всего успокаивался либо совсем уж погружался во мрак и делался невыносимо вредным, злым, досаждал кому только мог.
Лес, или то, что называлось лесом, начинался тут же, за последним бараком. Хилый северный лес, прореженный топорами и пилами, и ветру-то негде заблудиться, немножко отряхнулся от снега. По вершинкам низких елок прошли лыжни. Одна елка так и держала на вершинке кусочек лыжни, будто обломок рельса. С нее катились капли. Кедрачи над рекою стояли по-зимнему тихие и сонные, завязив в сугробах лапы. Строгие деревья, много перетерпевшие перед тем, как прижиться в Заполярье, они не заигрывали с ранней весной. Они терпеливо ждали устойчивого тепла. И птиц перелетных не было — первый признак того, что зима побалуется-побалуется и выдохнет: «Ш-ша!» И понесет снег и упрячет за ночь все, что успела сделать весна за месяц. Да и какая это весна! Баловство одно! Одно баловство!
Баловство. Ничего хорошего от него нет. Вон в детдоме появились новички. Ну и что же? Разве мало пришло новичков с тех пор, как Толя оказался здесь? Почти все пришли при нем. И обжились и называют домом. Но те все пришли, как им полагается. Кто-то осиротил их, или же волей судьбы они сделались сиротами. А эти…
Девочка и мальчик. Брат и сестра. Они жили и жили где-то с матерью — и вот. Зачем же так получилось? Из-за денег. Из-за восьмисот рублей. Трое людей, три человека живьем страдают. А сколько осталось денег? Водку пили. Конфеты ели шоколадные. Папиросы курили «Казбек». И за все эти штуки кто-то расплачивается: трудом, тюрьмой, слезами. Да-а, а казалось все просто: взяли денежки — и веселись себе, гужуйся!
Вечерело. Солнце затуманилось в небе. Вокруг него пеленался туман. Проталины испуганно парили. Лес молчал. Птиц не было. Они еще не прилетели. Птицы знают, когда им надо прилетать. Они зря ничего не делают. У них жизнь веселая, но серьезная. Они не балуются.
Нет, сегодня и в лесу не было покоя. Толя пошел, а потом побежал из леса на биржу. Бродил меж штабелей, свернул к лесозаводу и долго стоял, наблюдая, как пилорама взлетала и опускалась, распарывая деревья, подъезжающие к ней на транспортере. Медленно подъезжает бревно, неохотно. Нервно подрагивая, проходит оно без остановки сквозь пилы. Доится струя в несколько ниток, и внизу поднимается сдобная желтая груда опилок.
Вот и все.
Бревно как будто расчерчено толстыми карандашами, и от него отваливаются длинными пшеничными ломтями горбыли, катятся по мерзлым желобам вниз. Под горбылями обозначаются в золотых прожилках шершавые плахи, и едут они на транспортере дальше, в длинные, насквозь пропитанные деревом и продутые ветром цехи. Там их сортируют баграми и крюками туда-сюда и распределяют по участкам биржи. А на бирже — в штабеля. Это и есть та самая продукция, ради которой из-за моря-океана приходят в Краесветск иностранные и наши корабли. Говорят, за вес такой доски иностранные буржуи дают нам такой же вес сахара или чего еще. Вес на вес. Толя этому верит. И все ребята верят, потому что зовут краесветский пиломатериал золотым. Толя сам видел, как старый бракер на морпричалах погладил рукою пачку досок, Поднимающуюся на иностранный корабль, и прищелкнул языком: «Земляница — не доска! — и со вздохом пошутил: — Сам бы ел, да деньги надо!»
Как его пилят, как он получается, этот пиломатериал, можно смотреть часами. Но смотреть уже было невмоготу. Замерз Толя. Подался в кочегарку к Ибрагиму, к тому самому Ибрагиму, что жил когда-то в сушилке и помогал вытаскивать мертвого прадеда. Звали карачаевца не Ибрагимом, а как-то по-другому. Но всех кавказцев кличут Ибрагимами. И сами люди настолько привыкают к этому, что порой забывают собственное имя. Ибрагим его тоже забыл. И когда во время получки кассир выкликал его: Акбар-Мамед-Оглы Мамедов, он даже и к окошку не сразу шел, полагая, что кричат кого-то другого.
— А, Толя! — улыбнулся Ибрагим беззубым ртом. — Как живешь, дарагуй! Садысь катлу. У меня здесь Капкас! Кушить хочишь? Хлеб есть, сахар есть. Кипяток берем катла. Павар-рачиваем эта гайка, и вада гар-рачий — пажалста! Садысь, дарагуй!
У Ибрагима умерли в сушилке все родные. Он остался один. Остался потому, что был молодой, очень молодой, белозубый, подвижный. И еще потому, что первые зимы работал кочегаром в столовой. Теперь он живет в общежитии. Зубы белые его давно выпали от цинги, и сколько ему лет — трудно сказать. Может, двадцать, а может, сорок. Лицо Ибрагима испеклось в кочегарке. Разговаривать ему не с кем. В общежитии много русских парней и девушек, а карачаевец он один, и, кроме того, все его считают гораздо старше себя, и потому он живет наособинку, как те мужики и старики, коим доводится мыкать дни свои в молодежных общежитиях. Ибрагим радуется, когда к нему заходит Толя. Он считает мальчишку своим человеком. Угощает его, потчует. Ибрагим любит угощать и разговаривать.
— Пачиму такой гурусный? Веселый всегда, теперь гурусный? Можит, болизн? Можит, тоскуешь родину? Я весной тоскую родину.
— Что такое родина, дядя Ибрагим?
— Родина? Родина — где родился. Понятно говорю?
— Понятно, дядя Ибрагим. А где ты родился, дядя Ибрагим? — Толе, конечно, заранее известен ответ, но Ибрагиму так приятно говорить на эту тему.
— Капкас родился.
— Я знаю Кавказ. По географии проходили.
— Шту география? Шту география? — задумчиво протянул Ибрагим и уставился в топку на бушующий огонь. — Шту можит знат география о Капкас? Ты куший, куший, Толя. Куший…
— А это верно, дядя Ибрагим, будто у вас там все ходят с кинжалами и режут кого попадя?
Ибрагим ответил не сразу, постоял, поглядел на пламя, шарахающееся в яростной утробе топки:
— Кто режит, кто землю пашит, кукурузу убираит, овцы пасет. У меня кынжал не был, суровна сказали — резал, и однову брат — одну сторону, меня, отсы, мать — другу сторону. Ты ешь, Толя, куший. Пачиму мало ходишь? Я тебе сердцем привет даю… — Он приложил руку к груди, но тут же смешался. — У меня весело — огонь. Много огонь, правда?
— Правда. На огонь глядишь, и думать хочется, да?
— Да, Толя, думать. Я муного думаю. Капкас думаю. Ты о чем?
— Я? — Толя закусил губу, тоже уставился на огонь и так, не отрывая взгляда от пламени, тихим голосом, как будто говорил с огнем, рассказал все.
Ибрагим какое-то время стоял с открытым ртом, ровно бы захлебнулся дымом, и вдруг загремел лопатой, дрова принялся швырять в печку.
— Ах, разбуйнык! Без кынжала резал человека! Дети где? Тебе шту директур гаварил? Деньги отдайте милисыю. Отдайте жизн тому женщина! Мало им слез! Мало им горя! Беги! Ибрагим лопатой можит.
Толя выскочил из кочегарки и помчался во весь дух с биржи. Никогда он еще не видел Ибрагима таким и никогда еще не уходил от него с такой тяжестью на душе, а, наоборот, бывало всегда светло и сладостно-грустно после посещения кочегарки, где много огня, много своего, какого-то таинственного и душевного уюта, где котел казался огромным, усмиренным Змеем Горынычем, в пасть которого дядя Ибрагим толкал и толкал деревянную пищу.
Детдом уже спал. Толя осторожно пробрался в четвертую комнату. В ней сделалось как будто теснее. Он осмотрелся и обнаружил рядом со своей кроватью еще одну кровать. Подошел ближе. На кровати под одеялом лежали Аркашка и Наташка. Он приподнял одеяло, простыню — пятна на простыне не было; не успели подлить ребятишкам чаю. Это первая, самая легкая «обновиловка»: налить чаю и дразнить «мокрухою».
— Чего тебе? — грозно спросил мальчишка, поднимая голову и загораживая рукою сестренку. Значит, он еще не спал и. видимо, спать не собирался.
— Ничего. Спи давай. Все спят, и ты спи. Не бойся.
— А я и не боюсь.
— Тебя как звать?
— Аркашкой.
— Верно. Валериан Иванович ведь говорил. А меня Толькой зовут. Спи давай и не бойся.
Мальчик затих. По окну шуршало, подрагивали рамы, начиналась пурга, весенняя, короткая, но зато уж снеговальная. Женька простонал во сне, бормотнул что-то, как косач на току, и затих.
— Вы зачем украли у мамы деньги? — приподнялся мальчишка на кровати.
— Ну, ты! — прошипел на него Толя.
Окно все шорохтело, за ним начинало посвистывать и подвывать. Загудели провода на столбе, и хрустнуло в невыключенном репродукторе. Толя. закинув руки за голову и заранее проникаясь жалостью, представил, как одиноко бредет какой-нибудь человек в этой ночи, в белой, разгорающейся замяти, и как дымится пока еще легким дымком каждый бугорок, каждая застружина, и как начинает он замерзать, одинокий этот человек, погружаясь в белый сон.
В коридоре или на чердаке что-то стукнуло. Толя очнулся, и обжигая босые ноги о холодный пол, просеменил к кровати Малышка. В полумраке он чувствовал следящие глаза Аркашки. Мимоходом Толя дернул за ногу Женьку Шорникова. Тот вскочил, не открывая глаз, нащупал ногами валенки. Толя прикоснулся к руке Малышка. Рука была спокойна. Малышок спал, улыбаясь узкой прорезью рта.
Возвратился Женька, юркнул в посгель, промычал что-то и свернулся, натягивая на ухо одеяло. Малышок спал. У него бывали такие ночи, когда он не лунатил.
Зажав голову руками, сидел Толя на кровати Малышка. Ему неодолимо хотелось разбудить всех. «Да чего же вы спите-то? — заорать. — Плохо мне, страшно!»
И оттого, что орать он не мог, не имел права, а сам по себе никто не просыпался и ни о чем его не спрашивал, не сочувсгвовал ему, Толя схватил штаны и, натягивая их, с досады не попадая ногой в штанину, с клекотом нервно прохохотал:
— Спят! Хоть провались, сдохни хоть — спят! Это мне, падле, не спится! Мне больше всех надо! — Он рывком надел штаны, рубаху, валенки, и стало нечего делать.
Он прокрался в коридор.
Никого.
Блестит мытый пол в широком коридоре. На полу кресты от рам качаются. Разносится по коридору противный запах хлорки. Днем он почему-то меньше слышен. Уборная там, за поворотом коридора, почти против комнаты Валериана Ивановича. Первая теплая уборная с тех пор, как Толя попал в детдом. Прежде все в бараках ютились.
Прежде и детдома-то не было, а детприемник был, и жили как на пристани, ожидая постоянной отправки на магистраль. Это уж потом стало как дома, и помещение вот доброе получили. Жить в нем можно, хорошо в нем. Комнаты светлые, уборная теплая, а то на мороз выбегать надо было.
Да, все это прекрасно: дом, комнаты и так далее. Но нужно идти, куда пошел. Нужно! Необходимо!
Толя убрал кии с бильярда, прислонил их к подоконнику, шарики ладонями в треугольник согнал, прислушался — кошка на кухне орет. Пошел, выпустил кошку, хотел ее погладить, пошептаться с ней, но кошка в детдоме пуганая, прыжком ушла в темный угол.
Все-таки надо идти.
Тихо как. И никого нет.
Никого.
На цыпочках прокрался Толя в раздевалку. Западня на чердак в раздевалке. Он приподнял ее, подождал, пока осыплются земля и опилки. Придерживая западню, проскользнул в темную, дующую холодом дыру. На чердаке завывало. По стропилам снова прочеркнуло полосами снега. В трубах гудело. Пахло пылью и Зинкиным истлевшим добром, раскиданным по всему чердаку. Нога наткнулась на что-то мягкое. Толя отпрянул в сторону, зачиркал спичками. Огонек заколебался, подпрыгнул и погас. Под ногами старый олений сокуй, изрезанный ребятами на «жошки» и разную другую потребу: новогодние бороды и усы Деду Морозу, хвост лисе, уши волку — мех везде нужен. вот и разодрали сокуй.
Еще зажег спичку Толя. Вот она, труба, которая требуется. Он на ощупь пошел к ней, на ошупь же нашарил и кирпич, тот, за которым сверток. Но прежде чем решиться вынуть кирпич и перепрятать деньги, сделать перетырку, как говорят ребята, Толя присел на холодную слегу, сгорбился, задумался.
Белый снег на стропилах или чердачная глушь напомнили ему белую, яснолицую, вечно что-то шепчущую прабабушку Антонину, мученицу за семью мазовских, как звали ее на селе. Когда всю ораву Мазовых выселили из большого дома и жили мазовские у каких-то родственников, Толю все равно тянуло почему-то к старому дому. Однажды он забрел в огород, спускающийся задним пряслом к реке, заросший донником, коноплей, жалицей и краснолистой огневкой.
В огороде было убрано, и оттого он казался необычайно просторным. На межах через силу бодрился чертополох, соря пушистое семя, жабрей звенел сухими колючками, и репейник липучий цеплялся за штаны. На репейнике висели пестренькие щеглы. В бороздах между гряд белело. Капустные кочерыжки с одним-двумя листами присолены инеем. В углу огорода баня, до дернового верха захлестнутая бурьяном. Она темнела зевом распахнутой в предбаннике двери.
Толя пошел к бане по хрустящей от ледка борозде и увидел хилую морковную прядку в земле. Морковь вытягивали наспех, за космы, и не вся она выдернулась. Толя покопался в холодной земле, уже схваченной корочкой, и вынул потную морковку с бледным хвостиком. Мальчишка так почему-то обрадовался ей, что сейчас же откусил сморщенный конец морковки, в заусеницах которой темнели полоски земли. Морковка оказалась до того студеной, что заломило зубы.
Тут, на огороде, и сыскала Толю прабабушка Антонина. Она вытерла морковку передником, выдавила мальчишке нос, погрела дыхом его руки. Мальчик обнаружил, что по блеклому лицу прабабушки, из несостарившихся, чистых глаз как-то сами собой катились слезы, катились на шею, на суконную мужскую тужурку, кругло катились, как сок из подрубленной березы.
Толя взял и тоже заплакал.
— Ну, а ты-то чего ревешь? — спросила прабабушка Антонина. — Я родное гнездо обревливаю. Твое гнездо другое будег. Дай Бог, не такое, где люди людей изводят, где грыжу да надсаду добывают…
Она открыла дверь в баню, посреди которой стояла шайка с мыльной водой, забрала с окошка лампу без стекла, серо-коричневый обмылок, приперла дверь предбанника батожком, и они побрели с осеннего, ровно бы состарившегося огорода…
Прабабушка Антонина хотела умереть дома и убралась на тот свет той же осенью, следом за матерью Толи…
Толя замерз, вскинулся. И не стало огорода с белыми бороздами, седенькой старушки, бурьяна, потрескивающего на ветру, грустно исчиркивающих щеглов.
Глухой, темный чердак остался, снежные полосы по слегам и поскрипывающий от ветра скелет дома. Ветер был тоже одинок, холоден и бездушен. Толя поднялся, вынул кирпич, опустил его к ногам. Зажег спичку, вытянул за бечевку сверток. Стряхнул со свертка пыль и сажу, засунул его за пазуху, а кирпич вставил на место. Сам отряхнулся, постоял, успокаиваясь. Словно во вспышке зарницы увидел он еще раз прабабушку Антонину, пустынный осенний огород, низкое небо со снеговыми тучами и спустился с чердака.
Прошмыгнув в уборную, он при свете мерклой лампочки стал считать деньги. Пересчитал. Еще раз пересчитал и уронил руки. Осталось триста восемьдесять рублей. Быстро же разлетелись денежки! А может, Паралитик ополовинил? Деменкову еще отдал? От Деменкова назад ничего не получишь! Бесполезное дело!
В уборной у Толи была своя древняя заначка, под плинтусом, выеденным крысами. Он отогнул ногой треугольник плинтуса и засунул в крысиную норку сверток. Крыс уже давно перевели и исказнили ребята, а нора осталась, и знает ее один Толя. Он — старожил. А у всякого старожила есть свои тайны, свои заначки, свои печали и радости… Плинтус, спружинив, щелкнул. Толя стукнул по нему ногой, подгреб в угол комья серой хлорки, без нормы насыпанной уборщией.
В дверь уборной внятно постучали. Толя расстегнул штаны и, придерживая их, откинул крючок. За дверью стоял Валериан Иванович.
— Ты чего, Анатолий, закрываешься? Ночь ведь, — строго и внимательно всматриваясь в лицо Толи, спросил Валериан Иванович.
— С животом у меня неладно, — буркнул заранее придуманное Толя и отвел глаза, но тут же скорчился, заспешил к очку.
Репнин притворил дверь уборной, прошаркав валенками, ушел к себе. Он странно ходил последнее время — будто не ноги его носили, а он их.
Толя затянул ремешок, постоял с минуту и на цыпочках пробрался в свою четвертую комнату. Все он делал как-то автоматически точно, строго.
Он знал, на что шел.
Внутри его появилась окаменелость, из которой сочился медленный, тонюсенький ключик. В сердце накатывали перебои, становилось то жарко, то ознобом пробирало. Но далеко-далеко все это, будто внутри другого человека свершалось.
Толя разделся, опустился на кровать.
— Арканя, ты спишь?
Мальчик не ответил. Толя прислушался. Малышок не шуршал простынями. Удивительно спокойно спал он сегодня. Выходной, значит.
Не притаился ли?
Толя закрыл глаза, распружиниваясь, громко, длинно выдохнул — и сразу отпустило, разжалось что-то в нем там, внутри. Его затрясло, заколотило, и снова сделались слышны все перепутанные запахи большого дома: сырых валенок, преющих от сырости половиц и опилок, насыпанных в завалины и меж рамами. Сверх того козырьем все крыла вонь карболки и едва доплывающий сюда сверлящий дух хлорки. Толя кутался в одеяло, в простыню, набросил на себя еще пальтишко — дрожь никак не унималась, и запах хлорки никак не исчезал.
Наутро он прокрался в умывальник и, стараясь не бренчать увесистым соском, с мылом вымыл руки.
Тетя Уля уже растапливала плиту на кухне, курила и кашляла. Она выглянула в дверь, заметила Толю. И он ее заметил, остановился и вдруг смело сказал, глядя на дымящую папиросу:
— Дайте покурить, тетя Уля!
— Я вот тебе дам! Так дам, что своих не узнаешь!..
— Пожалуйста, теть Уля!
Тетя Уля втолкнула его в кухню, двинула табуретку и достала из кармана фартука пачку дешевеньких папирос.
— На! Кури здесь! Скорее сдохнешь! — ругалась приглушенным голосом тетя Уля. — Знал бы да ведал отец да мать-покойница, по какой ты дорожке пойдешь! Последние крошки ему отдавали, лелеяли его… Выкормили! Вырастили сукина сына!..
Толя курил и горбился, как старик, возле поддувала плиты. От табаку во рту сразу сделалось горько, кружило голову и подташнивало, но он не бросал папироски и не уходил из кухни. Ему очень хотелось слушать и слушать ругань тети Ули, и хорошо бы еще, чтоб стукнула она его чем-нибудь по башке, так стукнула, чтобы вылетела боль из этой чугунно-тяжелой головы.
Глава 8
На большой перемене Толя быстро собрал под лестницей школы Женьку Шорникова, Мишку Бельмастого, Малышка, Глобуса.
— Кто проболтается — зубы выбью! — предупредил Толя и мрачно помолчал. — Я перепрятал деньги из трубы. — И, подождав, когда дойдет до ребят эта новость, продолжал: — Осталось триста восемьдесят рублей. Надо восемьсот. Покумекайте, где взять остальные. И не трепаться — еще раз говорю!
Женька забегал глазами. Мишка Бельмастый очнулся от постоянного полусна. Малышок все улыбался. Глобус поглаживал свою огромную голову.
— Тебя зарежут, Толька, — первым заговорил Женька. — Против Паралитика, да? Против Деменкова, да? Лучше отнеси деньги обратно. Отнеси, ну их…
— А ребятишки?!
— Аркашка-то с Наташкой?
— Аркашка с Наташкой.
Задумались ребята. Натужливо сомкнув расползающиеся губы, стоял Малышок. Мишка Бельмастый сунул руку в карман и почесался. Забылся. Думает, насупив брови над хрящеватым переносьем. Весь он коренаст, мужиковат, большерук. Сильный парнишка. Если не струсит — надежной опорой будет.
— Так чего? — обратился именно к нему Толя.
— Не знаю — чего, — голосом неповоротливого человека, нелюбящего и неумеющего рассуждать, отозвался Мишка Бельмастый. — Это… Надо их домой… — И замолк уже накрепко, и пошел из-под лестницы, опасаясь опоздать на урок. Возле своего класса оглянулся, помаячил рукой. На него можно положиться. Он был с Толей.
— Я Деменкова боюсь, — признался Малышок, — и Паралитика боюсь. Они чего захотят, то и сделают…
— Ну, ты! — вспылил Толя. — «Захотят, захотят…» Затеньгал, — и, невольно скривив рот, передразнил парнишку. Тот прикрылся ладонью, как в классе у доски. — Нас-то вон сколько! — стараясь поправить неловкость, бодро продолжал Толя. — Нас целый дом! И если не трусить… Если не трусить…
— Толька, ты не злись, ладно? — просительно заговорил Глобус, парень уважительный, честный и попусту делать ничего не умеющий. Толя повернулся к нему со вниманием. — Я, может, неправильно скажу. Но надо поскорее отнести остаток денег в милицию. Чтоб мать Аркашкину и Наташкину выпустили. А остальные вернем потом. Может, где возьмем.
— Где? — Толя спрашивал жестко, прямо, отметая тоном своим и взглядом всякие «может» и «как-нибудь». Ребята еще не совсем понимали, на что он их звал, чего добивался от них. А ему требовались помощники, все сознающие до конца. Помощники, которые не могли и не должны были бояться ничего. — Я спрашиваю, где? — повторил Толя и опять уставился на Глобуса.
И все, не только Глобус, но и Женька и Малышок, вдруг почувствовали превосходство над собою этого парнишки, Тольки Мазова, вчера еще дуревшего и игравшего вместе с ними, а сегодня ровно бы отделившегося от них силою какой-то или той ответственностью, которую он взвалил, а главное, смог взвалить на себя.
Вот так, наверное, и рождается командир. Все он человек как человек, незаметный, такой же, как все, но приходит минута опасности, минута, требующая, зовущая того, кто готов ответить за других, и он подает свой голос и становится впереди всех, зная, что отныне он ответственный не только за себя, хотя было бы, конечно, удобней, лучше и спокойней, если б вперед вышел кто-то другой и заслонил бы тебя своей спиной.
— Ладно, Толька, понятно все, не заводись, — потупился Глобус. — Я хотел как лучше. Мне… Мне очень жалко ту женщину. И Аркашку с Наташкой… — Глобус отвернулся. — Может, оттого, что мои папа и мама тоже…
Все тяжело и надолго замолчали. Вдали задребезжал звонок. Потекли ребятишки в классы. Коридор опустел. Оседала в нем пыль, устаивалась тишина.
— На урок нам надо, — несмело подал голос Женька. — Звонок был, а у нас Изжога. Напишет, падла, записку Варьянычу. Запросто напишет!
— Мне тоже надо, — грубо обрезал Толя. — Я тоже учащийся, нужно вам заметить! — съехидничал он, повторяя слова одной учительницы. Как всегда, обидев кого-то, он тут же поправился и все тем же грубым тоном, но уже с заметной помягчалостью прибавил: — Рисковать, братва, боязно. А что, если возьмут вместе с остатком: с триста рублями-то и нас?! Нас возьмут и раззяву-кассиршу к тому же не выпустят?
— Ой, Изжога в класс прошел! — Женька аж затанцевал на месте. Как видно, отношения с учителем физики у него были не очень отрегулированы.
— Хорошо, дуйте! — разрешил Толя, и парни рванули с места в карьер. Но ноздрей мух не ловите! Шевелите мозгами!.. — крикнул он им вслед.
И он тоже нехотя поплелся в свой класс, сумрачный, подавленный.
Приоткрыв щелочку двери, Малышок (его просунули вперед, как личность, способную вызвать сострадание) жалостным голосом спросил:
— Можно, Терентий Афанасьевич?
Учитель, на то он и был Изжога, выдержал продолжительную паузу и ехидно спросил, медленно пройдясь взглядом по всем троим:
— Накурились?
— Нн-е… Хоть понюхайте. Дыхнуть можем.
— Еще мне этего не хватало! Обнюхивать вас! — пренебрежительно фыркнул физик. — Марш на место!
Ребята с облегчением, по возможности тихо расселись за парты. Физик метался у доски, вдохновенно объясняя новый материал, размашисто чертил мелом, рассыпал цифры и формулы по доске. Он любил свой предмет, но ребята не любили учителя за желчность и какую-то холодную неприязнь ко всему маленькому народу, а возможно, и к большому.
Совсем уж терпеть его не могли курильщики. В свободное от уроков время Изжога перед переменой прятался в уборной за дверью. Дождется, когда и без того проклятый законом и преследуемый всем взрослым населением мира, курец школьного возраста зажжет папиросу, — цап его за руку и ведет с горящей папиросой, а чаще всего с «бычком», поднятым с дороги. Ну, вел бы и вел, на то он и учитель. Так нет ведь! На лице Изжоги в этот момент такое выражение, будто он куропатку в силок заловил или повидла сладкого наелся. А уж в учительской он так обличал и срамил изловленного курильщика, что тот с горя, а может, из чувства протеста, начинал курить еще больше, и так, чтоб Изжога его видел, а поймать не мог, например — у кинотеатра, где можно скрыться в толпе единомышленников.
Особенные нелады у этого учителя были, конечно, с детдомовскими публикой непослушной и почти сплошь балующейся табаком. Редкий урок не выдворял он из класса кого-нибудь из «голубых».
Ребята не сразу узнали, что так пренебрежительно именовал их Изжога в честь какого-то атамана Голубого, возглавлявшего недобитую банду и впоследствии вроде бы шлепнутого красноармейцами.
Но на этом уроке «голубые» вели себя удивительно смирно. Физик даже оборачивался несколько раз, озадаченный — не творят ли «голубые» чего тайком? Нет, все трое сидели, подперевшись руками и уставившись на доску. Правда, вид отсутствующий, нездешний, но за это из класса не погонишь. И физик прикрикнул:
— Эй, голубые! Слушать внимательно. На следующем уроке буду спрашивать новый материал.
Женька толкнул Малышка ногой, и они настроились слушать учителя, а Глобус так и не очнулся.
Толя тоже попусту сидел в классе. Ничего он не слышал и не видел. Все думал. И чем больше думал, тем мрачнее на душе становилось. А тут еще Маруська Черепанова выползла на последней перемене и, поглядев по сторонам, предупредила:
— Толька, у Паралитика ножик! Bo-острый!.. — И исчезла Маруська, прямо на глазах сгинула, как будто нечистая сила из болота вынырнула и в хлябь снова провалилась, а слова «ножик вострый» оставила.
«Ну, шпионка! Ну, шпионка задрыганная! Наподдаю я тебе когда-то!» сердился Толя, хотя твердо знал, что никак наподдавать Маруське не сможет, он был к ней по-непонятному привязан.
После уроков Толя вышел из школы со «своими ребятами». Крыльцо школы замело белым снегом. Улицы замело. Дома замело. Все замело. Снова вернулась зима. Лишь на взгорках видны зализанные ветром темные проталины да над карнизами крыш висели обломанными клыками сосульки — жалкое напоминание о приходившей не ко времени весне.
Толя попросил ребят оставить ему обед и долго бродил по городу. Миновал центральную улицу, жилые дома, пролез в дыру деревянного забора на биржу и меж штабелей потащился по заметам, прочерченным конскими санями. Сейчас только кони и могут ездить по бирже и городу, а машины будут стоять до расчистки улиц.
Пробрало Толю ветром сквозь пальто. В тепло захотелось. Больше всего тепла было в кочегарке у Ибрагима.
— А-а, прибежал! Кушить хочешь?
— Хочу, дядя Ибрагим.
— Сэйчас, сэйчас, кипяток будит, хлеб будит, сахар будит. Этот гайка пава-р-рачиваим, иии… на тебе кипяток! Сэйчас, сэйчас!
Ибрагим, точно фокусник, из-за спины выкинул кружку с кипятком, подал кусок хлеба, сыпанул горсть сахару в кружку. Оставшиеся крупицы стряхнул с ладони себе в рот и принялся шуровать в топке. На шее и потном лице его рябели крошки коры.
— Денги как? — спросил Ибрагим, утираясь тряпицей, повешенной на вентиль котла. Спросил не оборачиваясь, едва слышно.
Толя дул в кружку, медлил с ответом. Ибрагим, нацелясь длинным чурбаком в печку, ждал.
— Денег осталось мало, дядя Ибрагим.
— Ух! — бухнул очередное полено в печку Ибрагим так, что поднялся столб искр и в зевастое отверстие сильно шибануло дымом.
Ибрагим бросил в притвор котла тяжелую чугунную дверцу и засверкал глазищами из сумрака кочегарки:
— Канпэт жрали! Папиросы курили! Вина, можит, пили?! Пили вина?
Толя наклонил голову, отставил кружку:
— Пили.
— Вот! — подпрыгнул Ибрагим и хлопнул кожаными рукавицами, будто выстрелил: — Капкас — разбуйник! Ты — разбуйник! Кынжал нэт, суравна разбуйник!..
Ибрагим еще долго бушевал, кидал поленья в топку, гремел лопатой, ломом ворочал головни в котле, махал метлою так, что щепье разлеталось во все стороны. Затем, захлебываясь, попил воды из горла закопченного чайника и немного успокоился. Однако с Толей не разговаривал: сердился, видно.
— У миня денги нэт, — заговорил Ибрагим, опираясь на лопату. — Послал денги. Вернулся Капкас мой брат. Дом строит. Я приеду Капкас — родину, буду жить этом доме. Хлеб, сахар, кипяток — пожалста… Денги нэт. Нэт денги. — Последние слова Ибрагим проговорил совсем уж виновато.
— Ладно, дядя Ибрагим, не горюй, придумаем что-нибудь. Придумаем… Не горюй…
— Не гаруй! Придумаим! — заворчал Ибрагим и постукал согнутым пальцем по лбу Толи. — Шту хорошего можит придумат такая башка? Вместе думать будим. Я думат буду. Школа как идет?
— Ничего.
— Ничива — пустую место!
— Хорошо.
— Пуст будит хорошо! Иди домой. Ты миня… — Ибрагим поискал слово, но не нашел его, а Толя мысленно произнес за Ибрагима: «Огорчил», — и чуть было не попросил у него прощенья.
Побрел Толя из кочегарки на улицу, на холод. И никак не уходил из его головы потный, закопченный Ибрагим. Он, даже умирая с голоду, не взял ни у кого ни одной крошки, а, наоборот, еще, бывало, туда, в сушилку, принесет похлебку или кашу, а то и капусты щепотку-другую — сам не съест, людям отдаст. Ребятишкам чаще. Вроде бы только затем и появлялся из человеческого скопища Ибрагим, чтобы людям помочь. И опять растворялся в густо смешанном населении сушилки, как соль в хлебе — незаметная, но и необходимая человеку. А они? Ради забавы! Ради прихоти и озорства. Провалиться бы или под коня попасть! Хоть бы отлупил Ибрагим, так не отлупил ведь. И никто не отлупит. Паралитик разве? «Пусть попробует! Горло вырву! Зубами загрызу, но деньги не отдам!» — накалялся Толя, сжимая кулаки.
И первым, кого Толя встретил дома, был Паралитик. Ждал у дверей.
— Потолковать надо! — защурил и без того узкие зрачки Паралитик и пошел впереди Толи, грозно постукивая своим костылем.
Особым, вышколенным в беспризорничестве чутьем, каким-то редкостным, почти птичьим наитием детдомовцы всегда и заранее чувствуют надвигающуюся беду, как покалеченные люди чувствуют перемену погоды.
В четвертой комнате битком народу. И ни одной девчонки. Схоронилась было Маруська Черепанова в уголочке, за голландкой, но ее выковырнули отгуда, леща хорошего дали и авансом еще одного дали, чтоб не вздумала подслушивать и подсматривать.
Ребята сидят на кроватях, на тумбочках, на подоконнике, Деменков стоит скучный, безразличный ко всему, прислонясь спиной к голландке. Его-то первого и отыскал глазами Толя. В комнате тугим узлом стянута тишина.
Паралитик плотно захлопнул створки дверей и вставил ножку стула в дверную ручку, вгоняя стул до самого сиденья. Все. Комната закупорена.
— Ну-ка, подвинься! — толкнул в бок сидящего на койке Борьку Клин-голову Толя и, закинув ногу на ногу, по-деловому предложил: — Аркашку и Наташку выпустите! Малы! И вообще, у кого гайка слаба — пусть сразу…
— Когда кузнец кует, пусть лягушка лапу не сует, — солидно заметил Борька Клин-голова.
Аркашку и Наташку выпустили. Они, держась за руки, поспешили без огладки, должно быть, понимали, что тут неладное начнется скоро.
— Ну-с, — небрежно обняв руками закинутое колено и чуть покачиваясь, снисходительно обратился Толя к Паралитику, — так о чем же мы потолкуем?
Уж, кажется, и нельзя быть тише, чем было в комнате, однако сделалось вовсе мертво. Это «ну-с», вычитанное в книгах, выхваченное из какого-то кинофильма, и тон человека, соизволившего снизойти до беседы с этими личностями, обескуражили Паралитика и его корешков. Он забегал глазами, скрипнул костылем. Деменков курил, усмехался. Ребятишки пооткрывали рты. А глаза Попика, и без того выпуклые, вовсе подались наружу.
Парни думали: Толька испугается, может, со страху застучит в дверь или полезет в драку. И никому невдомек было: все, что делал и говорил Толя, было как раз со страху, и сам он не совсем еще сознавал, что делал. Просто эти ребята мало читали и потому мало знали того, другого Мазова, который собрался в нем из героев разных занимательных книг и жил вовсе самостоятельно, скрыто от всех. В нем было немножко от благородных разбойников, подобных Робину Гуду, и от рыцарей Вальтера Скотта. Были там и Роберт Грант, и капитан Немо, и Чапаев, и Арсен, и Тарас Бульба. Кого только там не было, в этом другом Мазове! И народишко-то все как на подбор отчаянный! Все как на подбор!..
Костыль застучал от двери и уткнулся мокрым концом с прибитой к нему блямбой в грудь Толи:
— Ты взял деньги?
— Я взял деньги.
— А-а-ах! — пронеслось движение по комнате, как вздох, как эхо.
И опять все замерло.
И опять получилось не так, как предполагали ребята. Думали: Толька станет запираться, в крайности пошлет Паралитика подальше, и тот станет душить его. Толька в конце концов скажет, а может, и не скажет. Парнишка он с закавыками. На него как когда найдет. То ни из-за чего слюни распустит, готов всех обнимать и все, что у него есть, раздать. А то ходит злой, как старая Сидориха, что живет в Иланском бараке. Тогда он заедается на всех и, глядишь, даст кому-нибудь или сам схватит колотушек. За дикость и покладистость нрава его, кажется, уважали даже Деменков и Паралитик и, уж конечно, вся остальная братия. И возьми эти разнесчастные деньги кто-нибудь другой — стали бы они с ним «беседовать»?! Прислонили бы к боку ножик — и выложил бы денежки, не пикнул.
— Т-ты знаешь, что эти д-деньги к-колхозные? — снова поднял костыль Паралитик.
Он начал заикаться — худой признак. Напускает на себя бешенство или в самом деле начинает беситься? С ним даже припадки бывают… Вот сейчас-то и начиналось самое страшное. Сейчас-то всего труднее удержаться в характере. Сейчас всего труднее…
Толька удержался.
— Деньги касанули зря! Почти половину отдали ему! — мотнул головой Толя в сторону Деменкова. — Это колхоз, по-вашему? Колхоз? Зря касанули деньги, и все!
Лишь до предела напряженные детдомовцы могли уловить чуть заметную уступку в голосе Толи. И еще уступка была в том, что он употребил блатное слово, а надо бы «ученое». Он знает их дополна. И глаза Толька опустил, на руки глянул. Правда, тут же поднял их, сощурился, но все уже заметили, что он «раскололся», и потому Паралитик изо всей силы пхнул его костылем.
В стену влип Толька.
— Деньги на кон, отец дьякон! — грозно ощерился Паралитик.
Но и Толька тоже был не из таковских. Тоже имел детдомовский нюх. Он чутливо ухватил — гнев Паралитика еще не в полном накале и с ним еще можно «толковать», а там уж что будет.
Толя коротким ударом отшиб костыль Паралитика. Качнулся Паралитик, не удержался на костыле, повалился на ребят, сидевших на кровати. Пока Паралитик не вскочил, пока не кинул опору свою — костыль под мышку, а беспомощно трепыхался, Толька стоял над ним сверху, зло выпаливал слова, припасенные им специально для такого момента.
— Деньги не отдам! Режьте на куски — не отдам! За эти деньги… Нам забава! А ребятишки? Чтоб как мы! Как Гошка! — выкрикнув про Гошку, Толя смешался на мгновение — о Гошке после похорон никто не говорил и не поминал. Это было в себе и должно остаться в себе. Проговорился Толя, лишнее брякнул. И, поняв, что оплошал, еще громче и нервней закричал: Т-ты, ур-родина, думаешь, всех поработил?! — Ох, как долго Толя подбирал это слово и как оно пригодилось! — Думаешь, поработил? А вот этого не хочешь? — потряс он штанами и вдруг увидел перед собой Паралитика, мерцающие, как в стылом тумане, глаза его с узкими зрачками, ровно бы пробитые долотом. Толька кинулся на них, на эти нахальные кошачьи глаза.
Раздался треск, звон.
За дверью комнаты послышался девчоночий визг и громкий топот.
Паралитик под Толей. Он подскребал к себе костыль. Толя откинул костыль подальше, под кровать, я, сжимая горло Паралитика, цедил:
— В тебе духу меньше, чем в моей ж… пшику! Да я ж тя одной рукой!
Это уж сверх всех возможных ожиданий! Это было немыслимо! Гроза всех живых людей на свете, сам Паралитик под Толей! Затылком его бухнул об пол Толька для убедительности и высказывал все, что ребята давно уже хотели бы высказать и не осмеливались. Детдомовцы — и не осмеливались! Срам-то какой!
— Отпусти калеку задрипанного! — презрительно закричал Женька Шорников, отцепляя Тольку от Паралитика. — Отпусти! Задушишь!
Толя нехотя разжал пальцы.
Деменков стоял у голландки, не шевелился. Он только подобрался весь, как перед прыжком, да глаза его освинцовели. Видно, драка подействовала.
Паралитик взвился, выловил костыль из-под кровати и скачком ринулся к Толе Мазову.
В руке у него блеснул короткий сапожный ножик.
— Эй, ты! — преградили ему дорогу ребята, разом повскакивавшие отовсюду. — Драться начистую!
Паралитик не хотел и не умел драться начистую. Для этого надо силу, а у него ее не было. Но Толя тоже осатанился, кричал что попало, рвался к Паралитику. Его держали.
— Да я его вместе с ножиком! Пусти! Пусти, говорю! Чувырлы боитесь! Недоделка боитесь!
На Тольке треснула рубаха.
Все-таки он добрался до Паралитика. Тот выдернул руку с ножом, но кто-то выбил костыль, и Паралитик повалился на пол. Толя сверху нырнул на него и напоролся бы на ножик, но вдруг увидел кованый ботинок. Деменков прижал к полу сухую желтую руку с ножиком!
— Ш-шя! — послышался грозный окрик Деменкова. — Чего хай подняли? Начистую так начистую! Но молча!
И раскатились ребята по комнате.
И сразу стало в ней два лагеря.
У дверей Паралитик, Деменков, Батурин, Борька Клин-голова. Попик почему-то сидел на тумбочке, по-восточному созерцательно сложив ноги калачиком. За опрокинутыми кроватями грозно стоял, отдыхиваясь, Толя без рубахи. На грудь его с расцарапанного лица капала кровь. Паралитик специально отращивал ногти: если не хватало силы — рвал ногтями. Толя слизывал с губ кровь, глотал ее, забывая сплюнуть, да так же в забывчивости все поправлял и поправлял волосы, спадающие на лоб.
К Толе молча пододвинулись Мишка Бельмастый, Женька Шорников, Глобус и все остальные ребята.
Дверь трещала, зыбалась.
Кто-то ломился в комнату.
На узких слинялых губах Паралитика дрожали слезы, рубаха на нем тоже была распластана, он пытался заправить ее в штаны.
— Гроши! — протянул грозную, властную руку Деменков, и его черные, затяжелевшие глаза — сплошные зрачки — закатились под густые брови.
— Н-на! — харкнул Толя кровью.
— Гроши! — повторил Деменков, стряхивая кровавый плевок с ладони.
Дверь прогибалась. Ее взламывали.
— Н-на! — снова харкнул Толя и чуть не попал Деменкову в лицо. Плевок шлепнулся прямо в белую бухающую дверь.
Деменков глухо зарычал, метнулся, сцапал парнишку за горло. Толя всхрапнул и повалился спиной на тумбочку. Тумбочка упала, и Толя упал. Из тумбочки вывалились книжки, чернилка-непроливашка, карандаши. Уже задыхаясь, хрипя, Толя крутанулся, нащупал ручку с пером «Союз» и воткнул ее во что-то мягкое раз, другой… Деменков вскрикнул, разжал каменные пальцы.
— Начистую, сука! Начистую-у-у!..
Толя отскочил за тумбочку и передавленным голосом выкрикнул, размахивая ручкой, с которой брызгала кровь:
— Не будет по-вашему! Не-бу…
— Ш-шя! Хохотальник порву!..
— Тут тебе не тюрьма!
— Ш-шя!
Р-раз! Толя грохнулся через кровать головой в пол. Увидев над собой ботинок с подковкой, сграбастал ботинок. Деменков тоже упал и, схватившись с Толей, покатился на полу. Он добирался до Толиного горла, подтягивал его к себе, а тот долбил его обломком ручки в лицо, рвал зубами, пинался, бил головой. Деменков никак не мог совладать с парнишкой, хотя тот был куда слабее его. Руки Деменкова скользили по голому, мокрому от крови телу противника.
Возник костыль, заплавал, замельтешил перед Толькиным лицом и, сверкнув блямбой, опять улетел.
Паралитика сшибли.
Мишка Бельмастый вовсю лупил Паралитика его же костылем.
Деменкова тоже ударили сверху чем-то тяжелым. Он вскочил, слепо бросился на ребят.
Оскаленное лицо Деменкова заливало кровью.
— Ребята! Откройте, ребята!.. — кричал за дверью Репнин. — Откройте!
Но уже никто ничего не слышал.
— Угроблю! Всех угроблю! — хрипел Деменков, и от него с разбитыми лицами один за другим отлетали разъяренные ребятишки.
Паралитик, разбрызгивая кровь, колотился головой о стену, не мог найти свой костыль. Борька Клин-голова бестолково прыгал по кроватям, тумбочкам и почему-то отмахивался подушкой.
Фокусник! Он и в драке фокусник!
В ход пошли железные прутья из кроватей. Кто-то сунул прут Толе в руку, и он с диким ликованием вытянул этим прутом Деменкова раз-другой. Деменков пятился, загораживался рукою, выжидая момент, чтобы выхватить железный прут и забить им, захлестать этого бесстрашного в ярости парнишку.
И в это время в комнату ударило холодом и снегом. Это Зина Кондакова вынесла полрамы, влезла в окно, промчалась к двери, вырвала стул из дверной ручки. Вбежал Репнин с намыленной щекой, в нижней рубахе.
— Ребята, что вы?! Деменков, негодяй! Мазов! Прекрати! Что вы делаете?! Стой!
— Пош-ш-шел ты!..
— Катись!..
— Отсыпься, пока самому не попало!
Репнин поймал Деменкова и с неожиданной силой швырнул его из комнаты так, что тот загремел коваными ботинками о порог и грохнулся в коридоре на бильярд.
— Р-разойдись! — с офицерским зыком рявкнул Репнин, выкидывая из комнаты ребят одного за другим.
Толя пытался поднялся с пола и не мог. Паралитик бился рядом с ним, хватаясь за стены и оседая на половицы, заляпанные кровью.
— Косарь! Дайте мне косарь! — выл он. — Пор-р-ре-жу-у-у!.. Пор-р-ре-жу-у-у!
Деменков громко отсмаркивался в коридоре кровью, вытирался подолом рубахи. Затем, сильно пошатываясь, убрел на улицу.
— Милицию надо! Говорят, Тольку зарезали!..
— Не-е, Глобуса!
— Потрепись!
— Чё ты, чё ты?!
— Тыришься, да?
— Получишь! Гад буду, получишь!
— Сам не получи!
Это малышня, взвинченная, раззадоренная дракой, заедается друг на дружку.
Все население детдома толпилось у двери четвертой комнаты. Толю подняли с пола. Лица его не видать, волосы склеены. Из носу толчками били ключи крови, изрезанная о стекла спина сочилась кривыми темными потеками. Он шел, нащупывая впереди себя рукой дорогу, а от тяжелых вздохов или всхлипов во рту у него тоже булькала кровь. Перед ним оторопело и почтительно расступались. Зина Кондакова, Маруська Черепанова (она уж не прозевает) и еще девчонки подхватили Толю под руки, повели в умывальник.
— Что ж это такое? Что ж это такое? — вздрагивая, твердила Зина. — За что они тебя? Гады! Людоеды! — и умывала его торопливо, неловко. За рукава ей лилась красная вода, и она с отчаянием закричала: — Не останавливается! Врача надо! Умрет!..
— Это они его за деньги за какие-то, — сказала Маруська Черепанова.
Но было не до нее, и никто не обратил внимания на Маруськины слова.
— М-м-м, не-е, — мотал головою Толя и, захлебываясь, кашлял, брызгая на стену кровью. — М-м-м…
На Паралитика, выползшего в коридор, лила воду из графина Маргарита Савельевна и, как малому дитяте, выговаривала:
— Как же это вы? Разве так можно? Вы инвалид. Беречься надо…
Паралитик пытался послать воспитательницу ко всем богам, но вместо ругательств у него, как и у Толи, получалось одно мычание. А Маргарита Савельевна думала, что он соглашается с нею, и все говорила, говорила торопливо, путано.
Кастелянша принесла рубахи — нижнюю и верхнюю, хотела помочь Паралитику переодеться. Он вырвал у кастелянши рубахи. Придерживаясь за стену, добрался до костыля и пьяно поволокся в комнату. Дверь он закрыл стулом, затих там и до вечера вообще никого в комнату не пускал.
По четвертой комнате потерянно, ровно во сне, бродил улыбающийся Малышок и осторожно подбирал стекла, ставил на место кровати, тумбочки, стулья. Девчонки испуганно помогали ему. Выбитое стекло заложили подушкой. На наволочке ее густо краснели брызги.
В умывальник заглянул Репнин, взял Толю за волосы, откинул голову его и, видя, что мальчишка захлебывается кровью, приказал: «Снегу! Быстро!..» а сам торопливо вытирал Толю полотенцем и, не обнаружив ножевых ран на теле мальчика, а только царапины от ногтей Паралитика, облегченно выдохнул: Н-ну, господа хорошие! Ну, гренадеры-воины! Вы меня доведете!..
Толя хотел что-то сказать, но во рту у него опять густо забулькало.
— Молчи уж, рыцарь! — Бросил красное от крови полотенце на умывальник Репнин и быстро пошел на кухню. — Ульяна Трофимовна, где Деменков?
— Снегом утирается. Снег глотает, бандюга-каторжанец! И что вы его не турнете? Куда вы его пасете? Перевоспитать надеетесь? Таких только тюрьма да могила перевоспитают. Наш-то как? Толька-то?.. Тошно мне, тошнехонько…
— Ульяна Трофимовна, на всякий случай уберите из дровяника топоры. Спрячьте. Толя ничего.
Тетя Уля сорвалась и прытко засеменила в дровяник, повторяя:
— Господи, спаси! Господи, спаси! Где-ка взялась на нас напасть эта? Бандюги эти? Жили тихо-мирно, так на-ка тебе!..
Валериан Иванович позвал к себе Глобуса и Мишку Бельмастого. Оба они взъерошены, поцарапаны, и в глазах у них все еще воинственное пламя. Валериан Иванович велел драчунам привести себя в порядок и незаметно наблюдать за Деменковым и Паралитиком — как бы не учинили что-нибудь еще.
— А главное, не оставляйте пока Мазова одного. Уж коли начали вместе, держитесь вместе до конца.
— Не беспокойтесь. Будет полный порядок. — заверили Валериана Ивановича Глобус и Мишка Бельмастый. — Паралитик еле дышит, так ему дали. А Деменков пусть лучше не суется…
— Ладно, ладно, не суется… — Заведующий начал успокаивать Глобуса и Мишку. — А с этим, с заводилой, вы поаккуратней. Болен он все же, на костыле.
— Болен! Поаккуратней! А когтями дерет так… — не соглашались ребята, но все же дали слово Паралитика не задирать и драк никаких не учинять.
Из умывальника привели Толю. Он виновато улыбался разбитыми толстыми губами. Глаза его были полны слез. Он прилег на кровать, накрылся с головой простыней, одеялом и не шевелился: плакал, видно.
Мальчишки и девчонки толпились возле его кровати, готовые помочь ему, выполнить любое его приказание. Но он ни о чем не просил, ничего не требовал.
Появились Глобус с Мишкой и удалили весь народ, оставив Толю в комнате одного.
На бильярде вяло гоняли шарики парни из старших классов — это сторожа, охраняющие четвертую комнату. По углам шушукались девчонки. Что-то будет дальше? По коридору шлялись возбужденные умытые ребята с пятнами йода на лицах, некоторые в бинтах. То тут, то там мелькали и распоряжались озабоченные Мишка и Глобус. Малышок, не переставая улыбаться, подметал в четвертой комнате. Женька Шорников, выполняя распоряжения Глобуса и Мишки, заколачивал найденной фанерой высаженное окно и старался как можно тише стучать молотком.
Толя выплакался, но так и лежал под простынею. Слышал, как принесли ему ужин и поставили на тумбочку, словно больному. Слышал, как, готовясь ко сну, на цыпочках ходили по комнате парнишки и, натыкаясь друг на друга или на кровати и тумбочки, пугливо замирали.
Рано все угомонились.
Попробовал дремать и Толя. Но голова гудела, боль была во всем лице, и очень горячо было глазам, и стучало в уши.
Ночью, сквозь горячий густой туман Толя услышал осторожные шаги. Кто-то наклонился над ним. Толя попытался открыть глаза.
Ресницы с трудом расклеились.
Возле него, оттененная светом, падающим из окна, стояла высокая девочка с косой, перекинувшейся на белую рубашку. Девочка схватила рукою разрез рубашки на груди. Она стояла и неотрывно глядела на него. И он уже начал думать, что видит ее во сне и что к нему явилась добрая и прекрасная Василиса, вся в белом, только почему-то ногами все время перебирает. «А-а, пол холодный, а она босая», — догадался Толя.
Девочка наклонилась, и он ощутил ее дыхание на щеке. Сердце, замершее было, колотнулось раз-другой и опять остановилось. Нет, не Василиса это пришла, а своя, детдомовская девчонка, но все равно хорошо, что она пришла, хорошо и немножко боязно.
— Толик, ты живой? — спросила девочка и коснулась теплыми губами его щеки, ровно бы для того, чтоб удостовериться, живой ли он.
Толю опалило жаром от этих губ, и он отозвался быстрым шепотом:
— Живой. Ты чего не спишь?
— Я об тебе беспокоюсь, — призналась девочка и, всхлипнув, отвернулась. — Ты мне как брат, может, еще лучше… Еще лучше…
Толя протянул к ней руку, потрогал за косу и удивился: какая коса толстая, мягкая. Как у Василисы Прекрасной. Он попытался удержать в себе ощущение сказочного сна, но уже трудно было это сделать.
Сердце, должно быть от стыда, билось с перебоями, и дышать делалось все труднее.
— Ты не переживай из-за меня. Я выдюжу…
— Толик, ты не сердись на меня, я вот что скажу — попроси денежки детдомовские у Валериана Ивановича и отдай. Ну, туда отдай… — Зина махнула рукою за окно, в сторону города, и рубашка разошлась на ее груди. Она быстро прихватила рубашку и заторопилась: — Мы все, девчонки, решили копить денежки, кому родные дают или присылают. Вот. И все отдавать тебе. А ты казенные покроешь. Вот. Ты не сердись. Это Маруська Черепанова сказала нам. Ты на нее не сердишься?
— Я надаю ей когда-нибудь, не погляжу, что она девчонка, — сказал Толя, но таким тоном, по которому нетрудно было заключить — никогда он Маруську и пальцем не тронет. — А денежки нужны большие. Вам с девчонками копить придется до старости лет. — Толя нагнулся с кровати и поглядел на Зинины ноги — она и в самом деле была босая. — Простудишь ноги-то. Беги спи.
— Хорошо, — согласилась Зина, но не торопилась уходить и, не зная, о чем еще сказать, начала: — Холодно опять стало, — оглянулась на окно, чтоб и он удостоверился, что за окном холодно.
Толя погладил ее руку: дескать, можешь не мучиться, не придумывать слова. Можешь и так стоять или посидеть даже. Он как бы ненароком отодвинулся, освободив краешек кровати. Она глянула на этот краешек, и крупная дрожь пришла из нутра и заколотила, заколотила ее.
— Если тебе ничего не надо, так я пойду, — едва слышно прошептала Зина.
Толя чуть сдавил ее руку — как, мол, хочешь, и почувствовал, рука ее вспотела, но сама она дрожит вся. Ему сделалось не по себе.
— Ты чего? — приподнялся он. Зина не ответила, а выпростала пальцы и попятилась к двери, подняв руки и ровно бы загораживаясь ими.
— Нет-нет, я побегу. Я замерзла. Побегу я. Ноги застыли. Ноги… частила она, будто Толя ее не отпускал, будто удерживал.
Она все пятилась и пятилась, а голос ее линял, и зубы постукивали. Еще секунду постояв в проеме распахнутой двери, она выскользнула неслышной ящеркой и притворила створку.
Толя слышал ее стихающие босые шаги, легкий скрип двери в девчоночьей комнате и даже чуть звякнувшую кровать как будто слышал, хотя отлично понимал, что этого он слышать не мог, стена все-таки между комнатами толстая, штукатуренная.
«Ну, что с нее возьмешь? Девчонка, она и есть девчонка!» — почему-то смущенно сказал сам себе Толя, отодвигая этим нехитрым умозаключением совсем другое, смутно-тревожное чувство, стараясь заставить себя забыть о том смятении, которое охватило приходившую к нему девочку.
Тайком. Ночью.
Heт, лучше об этом не думать. Ничего не было. Ему все-все приснилось.
Он осторожно потрогал разбитое лицо, чтобы болью отгородиться от мыслей о Зинке. Боль и в самом деле вернулась, как только вспомнил он о ней, жарко сделалось и душно. Толя резко откинул простыню и одеяло. Нет, видно, и болью не заслонишься от этого. Стоит босая девчонка перед глазами, и все.
Он смирился, притих.
Понесло его дремою, но впотьмах воровато подбирались, протискивались в голову и отдвигали дрему мыслишки о тайне, возникшей между ним и Зинкой. Тяжелела голова, и тело обременительным, чужим стало. Он начал слышать свое тело и тяготиться им.
Проходил час за часом, а мысли все же текли, бежали, перешибая одна другую. Неуклюжие, рваные и в то же время по-ночному грустные мысли.
Он был еще маленький, когда жил в сушилке, но успел наглядеться и наслушаться всего, да и ребята детдомовские знали всякой нечисти много и не таились с ней. Попадались в детдом уже и порченые, и порочные ребята — они делились своим опытом и воспоминаниями, жуткими и постыдными. Толя не хотел сейчас ничего знать об этом, отбивался мысленно от нечистых мыслей, все пытался свести к нежной сказке, к выдумке, а на щеке его ощущалось нежное прикосновение губ девочки, горячее дыхание ее, и рядом была стена, за которою не спала и мучилась сейчас Зинка. И страдание, неведомое до этого часа, стиснуло сердце парнишки.
Он рывком вскочил с кровати, подбежал к двери и засунул поломанный стул в дверную ручку — и сразу облегченно уронил руки — все! Отгородился. Тихо вернулся Толя на кровать, потрогал свое разбитое лицо…
Глава 9
В школу в этот день Толя не пошел. Комната постепенно опустела.
Уборщица передвигала кровати, шуршала веником и недовольно ворчала. Принесла ведро, плюхнула на пол тряпку. Ее заставили мыть полы в этой комнате безо всякого череда.
Полы в детдоме мыли перед выходными. Уборщице помогали девочки, а ребята носили из озера воду. Озеро близко, за дровяником. На нем катушка и прорубь. Уборщица руководила работой, и все, а сейчас вот изволь сама заниматься грязным делом. Недовольна уборщица, плюется, ругается, стулья швыряет, с работы грозится уволиться.
Деменкова дома нет. Куда-то убрел. В третьей комнате притих Паралитик. Костыль его сегодня не бодрился, не постукивал.
И во всем доме тихо.
Те ребятишки, что учатся во вторую смену, делают уроки в столовой, в классной комнате — она же и красный уголок. При тетушке Нениле была здесь строгая канцелярия, а сейчас там висит портет дедушки Калинина, несколько плакатов, карта мира, рамка от стоячих счетов к стене прислонена, потому что кругляшки ребята повынимали на свои разные нужды. Тут же шкаф с одной дверцей, и в нем навалом балалайки, и мандолины без струн, да тренога от фотоаппарата. Аппарат братва под видом ремонта постепенно разобрала на части, и он как-то уж больше не собрался. А тренога осталась. Ею чертят пол, как циркулем, начисто сдирая краску, и азартно в фехтовальщиков играют.
Время от времени на все это составляется акт в присутствии шефов из лесокомбината, и все приобретается вновь и снова задолго до срока приходит в негодность.
Толя поднялся, посидел на кровати. Кружилась голова и позванивало в ней. И еще болела сломанная когда-то нога. Болела отдаленно, однако ступать на нее больно. «Вчера досталось. Ладно хоть еще раз не поломали», успокоил себя Толя.
Сходил проверил, на месте ли деньги. На месте. Порядок. В умывальнике хотел посмотреться в зеркало и не посмотрел. Побоялся, Умываться тоже не решился — вредно небось болячкам. Постарался незаметно проскользнуть мимо кухни — не удалось.
— Мазов, завтрак на столе!
Тетя Уля все еще сердилась. Раз называла его по фамилии, значит, сердилась. Пришлось зайти в столовую, выпить чашку густого кофе с пленкой и съесть два ломтя поджаренного хлеба.
Веселей сделалось. Возле дальнего окна, сдвинув столы, делали уроки девчонки, и среди них Зинка Кондакова. Пока Толя ел, они все время смыкались носами и — «шу-шу-шу».
«Кумушки», — презрительно покривился Толя и подался в комнату, собираясь с пользой провести время — всласть начитаться.
Почитать не пришлось. Едва достал из-под матраца «Блеск и нищету куртизанок», явился Валериан Иванович, подсел, глянул искоса на корешок книги, помятой во вчерашней свалке.
— Нравится?
Толя заложил палец в книгу, полуприкрыл ее.
— Нет. Надоело уж читать про буржуев. Все про буржуев да про господ. Редко когда попадется интересная книжка про простых людей.
— Тут ты, положим, хватил! Книг о простых людях написано море. Золя не читал? И не читай — рано еще. И Бальзака тоже рановато бы. А Тургенева, Горького, Чехова небось вот не читал.
— Проходили, — махнул рукой Толя. — Горький босяков описывает. Ничего мужики, только говорят, говорят, и все. И пьяные и трезвые говорят, да такое говорят, что башка трескается — ничего не поймешь. А Тургенев ваш, как дамочка, все у него мужики какие-то смирненькие да покорненькие…
— Тут ты, положим, тоже хватил. Рудин? Базаров? Инсаров, наконец? Смирненькие? — А Герасим? — подхватил Толя. — У него собаку утопили, а он… А этот, как его? У Гоголя-то? Акакий Акакиевич? Герой! Шубу последнюю с него сблочили… А он?! И все какие-то!..
— Ну уж и все! А Пугачев? — подзадоривал Валериан Иванович. — А Степан Разин? А Болотников?
Толя шевельнул разбитыми губами и вызывающе ска- зал, глядя на Репнина:
— Эти сами по себе. Эти будь здоров мужики были! А их баре исказнили. А потом в книжечки вставили. Ворами обзывали. — Брякнув про воров. Толя даже съежился, глаза забегали.
Репнин не давал ему спрятать глаз, ловил ускользающий взгляд. Но мальчишка — хитрец, вспомнил, что у него все лицо в синяках, и рукой прикрылся.
— Анатолий, за что ты дрался с Деменковым?
Толя сидел, прикрывшись одной рукой, а другой загибал и разгибал голенище валенка.
— Ведь не просто так, признайся, не из одного же интереса вы схватились?
Толя все загибал и разгибал валенок.
— Не встревали бы вы в наши дела, — отвернувшись, еле слышно проговорил он.
— М-да! Вот и раз! — сраженно крякнул Валериан Иванович и угрюмо спросил: — В чьи же мне тогда встревать? В тети Улины?
Толя ничего на это не ответил.
— Значит, в тети Улины, — с обидой подтвердил Валериан Иванович. — И еще в банно-прачечные. Разрешаешь? Ничего, широкое поле деятельности…
— Валериан Иванович… — Толя смотрел прямо на Репнина. Левый глаз у него, весь ровно бы в темной окалине, едва светил щелкою, а над правым нависла разбитая бровь. «Кованым каблуком, сволочь!» — заключил Репнин. Валериан Иванович… — Толя помедлил и оставил в покое валенок и глуше продолжал: — Я, может, никого так в жизни не уважал, как вас. — Такого признания, да еще от Мазова, да еще в такой момент, Репнин никак не ожидал. — Я сейчас все скажу вам потому, что хоть вы офицер были, а вы к ребятам относитесь хорошо, по-строгому относитесь, но жалеете их. Вот…
Толя перевел дух. Валериан Иванович понимал, чего стоило мальчишке такое признание, молчал, склонив голову, ждал, не двигался.
— Из-за денег мы дрались, — как будто перекатив огромную булыжину, выдохнул Толя. — Мы должны добыть деньги, чтобы у Аркашки с Наташкой мать была… Мы тиснули деньги, мы и вернем.
Валериан Иванович понял, что это все, больше Толя ничего не скажет, и больше он сейчас не имел права от него требовать. Конечно же, Репнин знал, из-за чего и почему случилось в детдоме побоище, и шел к Толе с намерением предложить свои услуги — вернуть оставшуюся часть денег (сколько их у Толи, Валериану Ивановичу известно не было), а остальные вложить из своей зарплаты. Но говорить ни об этом, ни о чем другом сейчас не следовало, не нужно, нельзя.
Валериан Иванович поднялся, сунул книгу «Блеск и нищета куртизанок» в тумбочку с оторванной во время драки дверцей и буднично сказал, ткнув в нее пальцем:
— Привинти шарниры. Отвертку возьмешь у меня.
— Хорошо.
Уже в своей комнате Валериан Иванович до того разволновался, еще раз перебрав в памяти короткий разговор с Толей, что вынужден был заварить чайку покрепче, посидеть наедине, поразмыслить. «Нет, решительно работу эту ни оценить, ни понять нельзя. — И сам себе, совсем уж потихонечку: — Как хорошо, что нашла она меня, эта работа!»
Ему легко думалось сегодня о ребятах, и то, что он их не понимал и не принимал иногда, не раздражало его, как это случалось не раз. и даже недавнее происшествие, выводившее его из себя, сегодня он обдумал до конца, а сумев обдумать, и понять его сумел.
И случай-то вроде пустяковый, но, однако, сложным оказался, озадачил всех, в тупик поставил видавшего виды Валериана Ивановича.
В новой четвертой школе открыли буфет. Городские ребята, сшибая друг дружку, мчались к этому буфету в перемену и покупали там всякую еду: конфеты, молоко, печенье или чай.
Детдомовцы носились по коридору. Те, что посмирнее, жались к стенкам. И только малыши-первоклашки иногда забредали в буфет и глазели на бурную торговлю. Женька Шорников на глазах у всей публики выдворил малышей из буфета, дал им леща: «Нечего кусочничать!»
Обо всем этом услужливо и не без прицела сообщила Валериану Ивановичу все та же Маруська Черепанова. Заведующий распорядился: к большой перемене носить ребятам в школу чай и бутерброды.
Тетя Уля до блеска начистила ведерный медный чайник, приготовила бутерброды, заварила не чай, а какао, надела чистую белую куртку и вместе с дежурными торжественно понесла снедь в школу.
Вернулась она вконец расстроенная и убитая. Почти все бутерброды принесла она назад и какао тоже. Ребята не пришли в буфет. Их приглашали, звали, за рукав тянули, а они не шли. Даже под лестницей прятались.
Маруська Черепанова, Попик да Борька Клин-голова дали пример, нажрались бутербродов до отвала. На них косились. На другой день и они не явились в буфет. Однако, раздобыв где-нибудь мелочишку, детдомовцы с удовольствием и даже с вызовом толкались в очереди, лезли напропалую в тот же самый буфет.
Вот и весь случай. «Зело поучительный, — заключил Валериан Иванович. И ничего в нем загадочного нет. Такта, такта побольше каждому, кто работает с ребятами и пытается влиять на них. Да еще с такими вот трудными и легкоранимыми ребятами. Из них, между прочим, тоже формируется новый человек. Что за человек будет, мне лично неизвестно. Но, глядя на одного только Мазова, с уверенностью могу сказать: пойдет прямо, напролом, вилять и дешевить не станет!»
Репнину невольно вспомнился Толин взгляд, его неприязненные, даже вызывающие слова насчет бар, которые «исказили» русских героев — мужиков.
Валериан Иванович понял, что мальчишка зачислил своего заведующего в ту категорию людей, из которых выходили баре и буржуи. И раздражен тем, что Валериан Иванович сбивает его, парнишку, с толку своим добрым отношением. У Валериана Ивановича шевельнулось подозрение насчет писем Толиного отца — не пронюхала ли Маруська Черепанова о тайне? Уж очень тонок, обострен у этих ребят нюх, и по одному нечаянному взгляду, по слову неловкому какому-нибудь…
«Господи, какая ересь в голову лезет!» — отмахнулся от этих липучих мыслей Валериан Иванович. Но тут же ему представился отец Толи, тоска его, ожидание, надежды. Представилось, как он спешит к почтарю после работы и не спрашивает уже, а ловит взгляд и по взгляду читает: снова нет, снова нет, снова нет…
И однажды…
«Нет, это наваждение какое-то!» — ругает себя за мнительность Валериан Иванович и заставляет себя не думать о Толе, о письме, о Светозаре Семеновиче, но не удается ему это. Он-то знает, что человек, получивший его ответ, сухой, казенный, может впасть в отчаяние, плюнуть на все, уйти в бега, скатиться к лагерным волкам…
Да мало ли что он может…
А Толя между тем лежал, прикрыв книжку, и тревоги одолевали его. «Где взять столько денег?» — сверлила голову одна-единственная мысль. И он уже каялся, что проявил непреклонность и отсек намерения Валериана Ивановича помочь им, а о том, что у заведующего такие намерения были, Толя догадывался. Вспомнил парнишка, каким застенчивым сделался Валериан Иванович, когда он сказал ему про уважение, как покраснел этот тяжеловатый, насупленный человек, как засуетился, отыскивая очки в кармане, а очков-то с собою у него и не оказалось.
В комнате оставил.
Толе было неловко и в то же время приятно, что решился сказать такое Валериану Ивановичу. Сказал и ровно бы невесть какую работу важную сделал или дал кому-то подарок. И лицо побитое уж меньше болело. И вообще стало легче как-то, уютней на душе, и мысли ровнее пошли. Каким-то далеким, отмякшим проблеском сознания, еще не склееным сном, Толя отметил: «Вот это, видать, и есть счастье: не болит, теплынь под одеялом, и о деньгах можно не думать».
За полдень ребята вернулись из школы. Женька Шорников браво напевал:
Дер фрюлинг,
Дер фрюлинг,
Трам-трам, тара-ра-рам!..
Значит, проходили немецкий стишок в школе, раз напевает Женька. Он все, что проходят в классе, услышит где-либо, обязательно напевает, переиначивая слова на свой лад. «Тетушка Ненила лесу попросила на ремонт квартерки» — это он, Женька, выдумал. «Встань скорей, о Терезита, от влюбленных слон бежит» — это он с пластинки песню «подправил». А уж с песней «Легко на сердце» он устроил такую распотеху, что весь детдом покатывался: «И любит выпить директор столовой, и вместе с ним любят выпить повара!» — пел он.
Песня эта быстро разошлась по городу. А недавно Женька подхватил новую песню из кино и тут же переиначил ее: «У высоких стен универмага спекулянты в очередь стоят». Сейчас вот попал ему на язык немецкий стишок. Дня три-четыре будет Женька бормотать, изворачивая так и этак стишок, покамест не получится что-нибудь сногсшибательное, глупое, но смешное.
Немецкий стишок о весне из учебника немецкого языка Женька напевал на мотив блатной песни, и ничего, славно получалось.
— Немку доконали! — доложил он Толе. — Пришпилили стишок на спинку стула и дуем по написанному. Потом вышла эта цыпочка, Щелованова. И до звонка-то ноль целых хрен десятых осталось. Ну и тоже не выучила. А мухлевать не умеет. Ну и: ты… мы… фрю… ист… да… — Женька подыскал к Щеловановой рифму и продолжал: — Немка говорит: «Вы почему все время смотрите мне на спину? Что у меня там имеется? Стих?» Только сказала и догадалась… Ну, зарыдала, из класса нах хаус. Всем зер шлехт, и мне тоже. А я немецкий люблю, сам знаешь. Зато мне по литературе «отлично» поставили. За Герасима. Я его так обрисовал — жуть! Только зря он по сопатке той барыне не съездил за собаку, на прощанье… Да, чуть не забыл: Ибрагим в школу приходил, тот, твой знакомый капказец. Велел тебе сегодня в общежитку… Как у меня фонарь? — приблизил Женька свое лицо к Толе.
— Сходит.
— Я к нему пятак прикладывал все уроки. Пятак гнутый. В чику им зубились. А то бы уж сошло. Может, тебе дать? Попробуй!
— Мои фонари пятаком не закрыть.
— Точно. Изукрасили тебя. Где недобитые враги?
— Помалкивают.
— Враг ушел в подполье, но он не дремлет! — продекламировал Женька, перекладывая учебники в тумбочку и напевая. «Изукрашу тебя, как картинку, и куплю я тебе ли-са-пе-ед!..» — Он ринулся в коридор, поиграть до обеда на бильярде. — Кто последний? Я за вами дергать в носе волоски! Ха-ха-ха!
«Выдумщик проклятый! — улыбнулся Толя. — Бодрится. Потому бодрится, что в драке был, хотя и силенок-то у него… Не отступил, человеком себя почувствовал… Зачем же я понадобился Ибрагиму? Срочное чего-то, раз он в школе появился. Вечером схожу. В потемках фонарей моих, глядишь, не заметит».
Ибрагим в шапке, в полупальто с меховым воротником и в серых загнутых валенках. Сегодня он на отдыхе и вот приоделся. Смущаясь парадности этой, он как бы говорил всем видом: «Шту сделаишь, выхатнуй!»
Они шли по улице, и Толя сторонился освещенных окон и лампочек, нацепленных на столбы. Примораживало, неохотно тянула поземка. Пурга сделала легкую передышку. Ночью заметет, завертит и понесет все, что можно понести.
Почему-то в Заполярье пурга ночи любит. Добавляет к ним жути. А они без того не больно веселые.
Ибрагим сообщил Толе новость. Городской драмтеатр, где работает кочегаром его знакомый, из-за легкомысленной доверчивости к природе остался без дров: в театре понадеялись на весну, так рано нагрянувшую в этом году, и спешно распределили меж работниками и артистами запас топлива. Теперь срочно нанимают поденщиков, платят им большие деньги — восемнадцать рублей за кубометр. Есть возможность подработать ребятам. Толя сам знает для чего.
— Хорошо, дядя Ибрагим, мы будем возить дрова.
— Пилу, топор я точил. Возьмешь кочегарке. Нарты?
— Есть. Их только подморозить.
— Латна. — Ибрагим остановился, посмотрел на серые валенки, на криво заглаженную по суконным брюкам «стрелку». — Скажи, кто тебя бил?
Толя вздрогнул, зашарил руками по карманам.
— Кто тебя бил? — В голосе Ибрагима Толе послышался кинжальный звон.
«Ибрагим-то ты Ибрагим, а все-таки кавказец!»
— Это ты про ряшку-то мою? — беспечно воскликнул Толя. — Я об столб ее своротил! Умора! Катался на лыжах, с берега на протоку, и бемс об столб! Умора!
— Какой столб на протоку?
— Да не об телеграфный. У лесотаски.
— Зачем катаишь лесотаски? Апасна! Два ноги ломать нада? Адын мала? Ух, нет роды-тели, ремни драт!
«Слава аллаху! Пронесло!» — сглотнул Толя слюну и перевел разговор на другое. Начал рассказывать о школе, о Женьке Шорникове, как он все песни переиначивает. Ибрагим развеселился, вытирая перчаткой слезы с глаз, кричал: «Хароши парень! Веди его маю кочегарку. Слушить хочу!» На прощанье Ибрагим небрежно сунул Толе в карман пальто рубль.
— Тому девочку и малчику канпет угощай. Женька угощай. Хароши парень! Пока! Ибрагим клуп пошел. Самодытельность. Лызгинка. 3-замечательны капкасский танец! — Он сунул руки в боковые карманы полупальто и пошел враскачку. Над левым глазом Ибрагима серебрилась острая синевато-черная челка.
«Кавалер! Хоть ты сдохни — кавалер!» Рот у Толи растворился от восхищенного удивления и не закрывался до тех пор, пока Ибрагим не скрылся за поворотом.
Толя достал рубль из кармана, разгладил его, свернул вчетверо и спрятал в рукавичку на всякий случай.
Бродил по городу, чувствуя себя богатым. Он, правда, не уходил с центральной улицы и не приближался к «Десятой деревне» — там могло попасть от городских ребят.
В «Десятой деревне» уже прочно обосновался Деменков, имел там, по слухам, роскошную маруху, и если попадешь в руки ему или его дружкам живым не уйдешь.
И рубль был в кармане, и работу вроде подыскал. Но беспокойно на душе у Толи. Домой идти не хочется. Прошлялся допоздна. Сегодня Маруська Черепанова дежурит, ужин обязательно оставит.
Метель раздурелась. Закрываясь пальтишком от снега, Толя пятился спиной к ветру и миновал уже пушной магазин по прозвищу «Крыса». Дымились мелким снегом все крыши и сугробы. Толя шел по тоннелю, образовавшемуся на мостовой. У Волчьего лога тоннель кончится. Дальше снег не чистят, дальше по песне Ибрагима, который сам их перевирает еще хлеще Женьки: «Калакольчек оторвался, звини, дуга, как хочишь сам…»
Толя плотнее запахнул пальтишко, надвинул шапку на самые глаза, собираясь сделать пробежку встречь ветру, но заметил цветастую рекламу кино, пришпиленную гвоздями к углу пушного магазина. Там всегда прибивали рекламы новых кинокартин.
Повернувшись на поветерь, Толя поплыл к «Крысе».
Рекламу забросало снегом. Виден лишь большой карий глаз с непостижимой печалью в глубине да изящная рука с белой манжетой, высунувшейся из-под черного рукава. Толя осторожно обмел рукавицей снег с рекламы и увидел человека со скрипкой. Взгляд человека из-под полуопущенных ресниц одновременно беспокоил и притягивал к себе. За скрипачом птицею парила женщина в белом платье, длинном и легком. Она пела что-то очень веселое, запрокинув голову. Рот ее, полный красивых и ровных зубов, смеялся во всю ширь, а глаза подернулись хмельным забытьем, но в то же время они все видели, эти веселые и лукавые глаза…
Из сенок магазина вылезла сторожиха, заорала на парнишку, полагая, что он хочет содрать рекламу. Толя поплелся на улицу Смидовича, к кинотеатру.
Он долго топтался у кассы, тиская в рукавичке рубль.
«Ладно, займу у кого-нибудь, хоть у той же Маруськи, и куплю конфет», — наконец решился Толя и, приметив чубатого парня, вкатившегося на обмерзлых валенках в кинотеатр, попросил его купить билет.
— Тебя ж не пустят, малый, — сказал парень, но посмотрел на мальчишку, тряхнул белым от снега чубом и купил билеты. Оторвав один, посочувствовал: — Пропал твой целковый, хлопец.
Теперь взамен рубля Толя стискивал в рукавичке билет, стараясь не измять его, а то подумают: на полу поднял, либо подделал. Нет, билетик у него что надо, голубенький, хрустящий, рубль стоит. Взрослый билетик. Вот годов только еще без месяца пятнадцать — маловато для вечерних сеансов. И денежки вот издержал на билет, вместо того чтобы сладостей ребятишкам купить, а так все хорошо. Пустили бы только в зал, и совсем было бы все замечательно.
Мимо него проходили разные люди, совали контролерше билеты и шагали дальше, молчком или разговаривая. Они совсем-совсем не понимали, какие были счастливые! Какие счастливые!
За спиной контролерши фанерный щит. На щите, подняв руки, стоял героический Арсен. Прямо в лоб целились жерластые пушки «Потемкина». В обнимку шли Столяров и Орлова из кинофильма «Цирк». Дико мчались на диких конях басмачи из «Тринадцати», и грозно спрашивал матрос Артем с плаката: «А ну, кто еще хочет Петроград?!» Но Толя не смотрел на боевого любимого матроса, он видел только что приклееного на щит скрипача, который даже из-за спины контролерши, из-за скучающих зрителей отыскал печальными глазами мальчишку и звал, да что там звал — прямо притягивал к себе взглядом. Толя и не заметил, как двинулся к нему навстречу.
— Ты куда, шпана чернорылая?
Контролерша толкнула мальчишку в грудь. Не ожидавший толчка, Толя сильно поскользнулся на стылых валенках и упал.
— Зачем же так-то? — заметил контролерше гражданин в меховых бурках, должно быть, летчик, мимоходом подняв Толю.
— Работать мешают, толкутся тут, прошмыгнуть норовят, — смущенно оправдывалась контролерша, отрывая билет, и уже примирительно обратилась к Толе: — Уходи, уходи. Ишь, морда-то вся в синяках! В кармане небось поймали? Так в народе и шныряете, жулье! — и нажала кнопку за косяком.
Вдали задребезжал звонок. Сердце у парнишки толкнулось в грудь, как в стену, и сжалось. Ему нужно быть в кино сегодня, сейчас. Сегодня, именно сегодня должно что-то решиться в его жизни. Непонятная сила влекла его к скрипачу. Ожидание чего-то неведомого вселилось в парнишку. Очень плохо будет, если он не попадет в кино, не свидится со скрипачом, очень плохо.
Контролерша вторично нажала кнопку, выглянула за дверь и, не обнаружив зрителей, убрала стул, собираясь уже уходить.
«Все! — резануло парнишку. — Неужели все?!»
Толя торопливо, захлебываясь, залепетал:
— Тетечка, милочка, пусгите, ради Христа! Пустите! У меня билет! Взрослый билет! За рубль. Тетенька!..
Понимал Толя — таким скудным запасом таких скудных слов едва ли проймешь контролершу, но другие на ум никак не приходили.
— Как же я тебя пущу? Вечерний сеанс. Приходи завтра. Завтра «Волочаевские дни», военное, как наши самураев сокрушили…
— Что вам стоит, тетенька? Ну, пустите, пожалуйста… Я… Всем ребятам скажу, чтобы не бузили в кино, чтобы не пробирались без билетов, только пустите…
— Я тебе русским языком сказала — нельзя! — отчеканила контролерша, уже сердясь. — Приходи завтра. Завтра, говорю, для вас, военное.
— Не надо мне военное! Я это хочу! — выкрикнул Толя, но тут же сообразил, что вышло у него капризно, а никаких прав у него на капризы нет, он — детдомовец. Будто оправдываясь, уже без всякой надежды, начал объяснять он, что сядет тихонечко в сторонке и никому мешать не станет.
В это время сзади раздались торопливые шаги, и контролерша рукой отстранила мальчишку.
Мимо Толи в фетровых ботах пробежала дамочка. За нею шел артист драмтеатра. Толя видел его однажды, когда всем детдомом ходили на спектакль. Этот артист здорово и смешно изображал Скапена, и даже Валериан Иванович, сам вон как умеющий играть, смеялся и после спектакля сказал, что, мол. играет актер вполне профессионально. Что это означало, ребята не уразумели, но догадались, что артист — будь здоров! Шел он, артист, в кино так, будто у него в запасе еще целый час и никаких звонков не было. Он благодушен, улыбчив, выпил, стало быть, маленько. Подав двумя пальцами билеты контролерше, артист внезапно спросил у Толи:
— А что, братец, рыжики в Греции растут?
Толя засмущался (еще бы, с таким артистом разговаривает!), подергал пуговицу у пальто и ответил, прикрывая разбитое лицо рукавичкой:
— Не знаю, дяденька артист.
— Ха, а ты откуда меня знаешь, братец? — удивился артист.
— Постановку смотрел.
— Ха, да ты памятлив зело, братец! — воскликнул артист. — И тебе, судя по всему, не терпится взглянуть на прекрасную женщину из этой кинокартины, а? — подмигнул он и рассмеялся, довольный собою.
Мальчишка прижал рукавицу к груди — билетом жгло ладонь.
— Мне в кино охота.
— Так пустите ж молодого человека в кино, — обратился артист к контролерше. — Сделайте его счастливым. Это так легко! — и хлопнул Толю по плечу.
— Ну уж, ладно уж, если с вами уж, — не в силах отказать такому завлекательному человеку, согласилась контролерша и дала третий звонок.
Толя юркнул впереди артиста в уже темный зал и присел на первое свободное место, сбоку ряда, чтобы, упаси Бог, не помешать взрослым, хотя на других сеансах вместе с горластой ребятней здорово портил им кровь.
Экран замерцал, как бы прилаживаясь и нащупывая людей в зале, и озарился музыкой.
Музыка была как глаза скрипача: зовущая, грустная. В ней не гремели барабаны, не брякали тарелки. В ней пели скрипки, журчала вода, шумел дождь, шел белый снег. Потом музыка завихрялась веселостью и раздольем. Но веселость была такая, что от нее щипало глаза.
Обо всем на свете забыл Толя. Музыкант лучше всех понимал, что у парнишки, как у всех прочих людей, тоже бывают свои печали, свои мечты и своя, пусть еще мальчишеская, жизнь. И принимал он его как равного, со всеми бедами и радостями, со своей еще маленькой жизнью и с только-только нарождающейся жаждой любви, о которой парнишка и сам-то еще ничего не знал, а в снах, что виделись в последнее время, признаться себе стыдился. Но все неясные еще, тревожные и стыдливые желания вдруг из стыдных превратились в радостные, сладкие, будто было у них две стороны — темная и светлая. Музыкант касался лишь светлой, и все вокруг, как от волшебной палочки — от одного ее взмаха, преображалось в доброе и прекрасное. Толе казалось, что попал он в перекрестье лучей, исходящих от музыканта, и виден весь, и ничего в этом страшного и стыдного нет. И зло исчезло из мира, и горя нет, и смотрит на него мир усталыми, все понимающими глазами умного и сердечного человека. Своей музыкой он ослепил в людях зло, неуживчивость, зависть, тьму душевную, а высветил то, ради чего их рождали и растили матери с отцами, — самое доброе, самое лучшее, что есть или было в каждом человеке!
Музыкант жил своей, не совсем понятной Толе жизнью. Он любил и страдал, даже помогал делать революцию, нисколько не похожую на ту, какую Толя изучал в школе, видел в кино: с кровью, со смертями, с тифом, вшами, голодом…
Такую мелкобуржуазную, как в школе говорят, революцию — детдомовская братва, напусти ее — разгонит и еще карманы обчистит при этом.
Непривычные люди в этой картине. У них и страдания-то какие-то ненашенские. Певица, что чайка вольная и разлетистая, жена музыканта, сильная, умная и слабенькая, бедный чудаковатый извозчик, и даже граф, и даже король, о каких не так, совсем не так рассказывают на уроках литературы и истории.
Неужели и короли бывают добрые?
Может, оттого, что все люди эти, короли и не короли, вышли из утреннего леса, в котором музыкант легко сочинил такой славный, такой простой вальс, что его уже не забудешь никогда, потому что такие вальсы, такие песни в каждой душе, и стоит только тронуть их волшебной палочкой, как они тут же и зазвучат.
Может, все люди как лес. Он был сумеречный, темный. По нему ехала форсистая кибитка. Дремал извозчик. Дремал он, и дремала она. Но проснулись птицы, проснулось солнце, и лес вдруг заиграл всеми цветами и каплями. Каждое дерево стало красиво по отдельности и в то же время было частицей большого леса с мохнатой и доброй душой. Сосны, солнце, бьющее сквозь лапник, очень похожи были на наши сосны, пестрые коровы на лугах — на наших коров, и солнце было такое же. Только пастухи не наши, не в дождевиках, ичигах или котах, а в коротких штанах, как у Скапена, и еще, в отличие от наших, непривычно трезвые.
…И опять полилась музыка… Музыка не лжет, не обманывает. Потому-то картину такую можно смотреть с закрытыми глазами, и все понять, все почувствовать, и главное — ощутить, что с тобою разговаривает и страдает живой человек, и никто не помешает любить его.
Давно Толя перестал различать слова, возникающие внизу экрана, да и видел он уже плохо. По лицу катились и катились слезы. И когда в темноту отчалил белый пароход, с него раздался голос той, которая навеки покидала музыканта, перед этим успев доконать жену его, графа и Толю вместе с ними:
О прошлом тоскуя,
Ты вспомни о нашей весне!
— О, как вас люблю я!
В то утро сказали вы мне…
Грязной рукавицей заткнув рот, захлебнулся мальчишка слезами умиления, счастья, горя и радости и неожиданно для себя услышал, как публика во тьме зала дружно зашмыгала носами.
Один только раз плакал Толя в кино, когда матрос Артем хоронил своего комиссара, закладывая его плитняком, а волны навально бились о берег, и не верилось, что комиссар погиб насовсем. Хотелось, чтобы комиссар приподнялся и чего-нибудь сказал или хоть моргнул бы близорукими глазами. Но он не поднялся, не моргнул. Матрос бережно прикрыл могилу комиссара своею бескозыркой и ушел. Ушел мстить белякам за друзей-моряков и за родного комиссара, которого Артем сначала не слушался.
А ребята плакали. Кажется, все плакали, сколько их было в кино.
И сейчас в зале люди тоже плакали — всяк о своем. И Толя плакал о своем. Ему жалко было певицу, оставшегося на набережной музыканта, жену его, тоскующую в большой и теперь уже богатой квартире. Но еще больше жалко было Гошку Воробьева, который лежал один на кладбище в такую студеную ночь, Зину Кондакову, Малышка жаль, даже Паралитика жаль, изувеченного на всю жизнь, и Мишку Бельмастого, и Аркашку с Наташкой — рублишко вот у них зажилил…
В зале вспыхнул свет, и зрители двинулись к выходу. Те, что шли поближе к последнему ряду, вытирая глаза, невольно обратили внимание на мальчишку, сидевшего на боковом месте. Он горько плакал, размазывая грязной рукавицей слезы по исцарапанному лицу, темному от синяков и ссадин.
Артист драмтеатра — он снова никуда не торопился, — подойдя к мальчишке, весело, по-свойски хлопнул его по плечу перчаткой;
— Э-э, молодой человек! Если на заре туманной юности искусительница вбила вас в тоску, что же будет потом?
Люди кругом заулыбались.
— Как вам?! И чего вы?.. Чего вы?.. — Толя чуть не крикнул задушенным голосом: «Фасоните!», но сдержался и, расталкивая людей, выскочил из кинотеатра.
На дворе мело-завивало, свету белого не видать. Люди, вышедшие из кинотеатра, растворились в пурге, и снова стало пустынно вокруг. Лишь гуляли по городу тучи снега, и ветер рвал лампочки со столбов, и казалось вот-вот они каплями упадут в сугробы. Снегом заносило по застрехи бараки и домишки, окончательно захоранивало не ко времени нахлынувшую весну. Она подразнила, подразнила и сгинула. И музыка эта в кино тоже, как вздох весны, как зарница, мелькнула и погасла.
Воет, завывает ветер, кружит снег, и куда-то катится, несется в темноту земля вместе с этим городишком, с горсточкой его огоньков среди огромного, неоглядного мира и с этим маленьким человеком, который бредет, не закрываясь от ветра и снега, неся музыку в сердце, содрогдувшемся от призрачного счастья…
Он выдохся, остановился, устало сел в сугроб. Его быстро засыпало снегом. Дремота вкрадчиво пеленала в мягкое. Мысли делались плавными, уютно и покойно на сердце становилось. Запела пурга скрипкою, возник пронизанный лучами солнца утренний лес, зацокали копыта лошади, и женщина, зовуще улыбаясь, протянула мягкие, ласковые руки.
«Нельзя!» — вздрогнул Толя и очнулся, сел, свалив с себя ворох рыхлого снега. Пересиливая дрему, разом вскинулся, вскочил и побежал встречь ветру, больно хлеставшему по лицу.
Тучи снега раз-другой пробило светом. «На кухне, — догадался он, картошку чистят на кухне», — и побежал еще быстрее, уже на последнем дыхании гнал себя к этому кухонному огоньку, и ничего не было ему сейчас дороже светящегося настоящим, живым светом детдомовского окна.
Проснулся Толя утром, задолго до подъема, облил водой, зачерпнутой из озера, полозья нарт, вернулся домой, обмел валенки, коротко постучался к заведующему.
— Валериан Иванович, скажите, чтобы мне, Женьке Шлоникову и Мишке кастелянша выдала рукавицы новые, лыжные штаны и телогрейки. Мы будем дрова возить, зарабатывать, чтобы вернуть деньги…
— Почему втроем? Разве крали трое? — хрипловатым со сна голосом спросил Валериан Иванович и, недовольно взглянув на карманные часы, лежавшие на столе, решил одеваться.
— Нам больше никого не надо. Сами справимся.
Валериан Иванович пристальней посмотрел на Толю. Парнишка был угрюм, собран, и от синяков ли, уже скатившихся со всего лица к подглазьям, или от другого чего, на всем лице его лежала сумрачная тень, а во взгляде утвердилась злая решимость.
— Хорошо, — недовольно, однако уже приветливее заговорил Репнин и тут же нахмурился. — Коллективом быстрее. Кассиршу ведь держат, не выпускают. Я думаю.
— Сами справимся, — негромко, но твердо отрезал Толя. — А она, может, поумнеет, посидит так…
Валериан Иванович растирал ладонью грудь: «Поумнеет! Ишь, как его…» Кинув на плечо полотенце, Репнин вышел в коридор и, проводив взглядом парнишку, заключил: «Взрослым становится, — и покачал головой. — Таков удел этих детей — рано становиться взрослыми. Но сколько в нем неразберихи, злости и доброты! Все в куче».
Глава 10
Нарта в детдоме была своя.
Она лежала в дровянике кверху полозьями. Сооружение это особенное, изобретенное краесветскими жителями и, насколько известно, ни в каких городах и странах больше не повторялось, а с северными нартами общее у нее одно название.
На отвалах лесозаводов выбираются четыре тонких, гибких доски. Две заостряются на концах и чуть стесываются топорами на изгибе. На них накладываются еще две доски и тоже немного заостряются. Концы связываются веревкой или проволокой — что есть под рукой. Меж досок вставляются два копыла. Тесины, которым предназначено быть полозьями, немножко распариваются в горячей воде.
И все. Ложись на верхние доски брюхом и гни их изо всей силы. Загнув, прибивай гвоздями одну, потом другую к копыльям и смотри: если верхние доски шибче загнулись — плохо, снег будет носом зачерпываться; а если нижние — хорошо, нарта пойдет как щука. Только для этого нужно сделать самоглавнейшее: собрать на дороге конского помета, хорошо замешать его и не толстым слоем, но и не тонким, облепить полозья. Когда замесь примерзнет к полозьям, надо взять рубанок или острый топор и подровнять его. Тогда уж обливай полозья холодной водой. Нарта получается стылая, тяжелая, но по крепости и транспортабельности нет ей в мире равных.
Свирепствовала в Краесветске еще одна стихия — в нарты запрягали собак. Нет, не тех собак, что нарисованы в учебнике географии. Ребята ловили на улице первого попавшегося пса, чаще всего какую-нибудь горемычную дворнягу, привязывали к ней нарту или ее к нарте и гнали вперед. Ни одной бродячей собаки не осталось в Краесветске — все при деле.
Ребятишки, да и взрослые тоже, возили на них дрова, воду — все, что придется. А еще состязались в скорости и устраивали борьбу на центральной улице города.
Пробовали и детдомовцы прикормить пару чьих-то псов, но Валериан Иванович дал разгон собакам и ребятам. Да и то сказать — слишком уж быстро зажирели псы на детдомовских харчах и ничего возить не хотели.
Последними в расписании значились уроки пустяковые, с точки зрения Толи: физкультура, пение, рисование, труд, и удирать с них считалось делом привычным, — он забрал в кочегарке Ибрагима топор, пилу и затем в дровянике детдомовском осмотрел нарту. Вздохнув еще раз о собаках, он пошел на кухню. На кухне тетя Уля гремела кастрюлями. Здесь же сидела Наташка, побалтывала ногами. Перед нею на столе горсть косточек из компота и на блюдечке сгущенное молоко. На голове Наташки маком пылал и трепыхался красный шелковый бант. Его купила тетя Уля.
Наташка прижилась возле тети Ули, и, пока Аркашка был в школе, она безвылазно находилась на кухне. Тетя Уля стучала ножиком, ложками, помешивала поварешками варево и что-то наговаривала девчушке, иногда прикрикивала на нее.
Шумливая, одинокая, эта женщина так ко всему в детдоме привыкла, что называла его тоже домом. В соседнем бараке дали ей отдельную комнатку, но когда она там бывала — никто не знал. Вставала тетя Уля раньше всех, ложилась позже всех. Кто она? Откуда она? Были ли у нее когда-нибудь семья и дети? Спросить об этом никто не догадывался, а сама о себе рассказывать она, видно, времени не выбрала.
Толя тоже как-то привык к тому, что на пароходе ехала совсем другая женщина и в сушилке жила тоже другая. Очень уж переменилась внешне тетка Ульяна с тех пор, как уехала из села.
Курить Ульяна начала в сушилке, после того, как потеряла всех родных и осталась одна. Толя и сказал о ней Ступинскому, когда тот искал деловую и хозяйственную женщину в детприемник.
Поначалу тетя Уля была в нем кастеляншей, уборщицей и поварихой, а потом уж твердо определилась в одной должности.
У тети Ули в доме есть любимчики — аккуратненькие, чистенькие дети и еще те, что слушались ее или делали вид, что слушались, и не крали папирос. Папиросы она зорко стерегла, прятала их в разные места и все же не могла упрятать. Были такие ребята, которых тетя Уля жалела, — это больные, убогонькие, тихонькие. Были и те, кого она презирала, но побаивалась и не допускала дежурить на кухню.
Тех, с которыми тетя Уля начинала дом, она считала вовсе своими и по-свойски вмешивалась в их жизнь, даже требовала, чтобы они показывали ей табеля, и шибко честила их за неуспехи.
К Толе у тети Ули отношение особое — как-никак почти родня. Она уважала его за начитанность, но пугалась Толькиного норова. Никак не могла она его постигнуть, потому и прикрикивала на Толю чаще, чем на других ребят, давая этим понять, что хоть он и норовист, а все же пока соплячишка.
И стоило Толе попросить для себя и для Женьки с Мишкой обед пораньше, как тетя Уля тут же подбоченилась:
— Что это? Ишь вы, деляги какие! По отдельности кормиться, с отдельных блюдов? — Оторвавшись от своих дел и прикуривая папиросу, выуженную из-под передника, тетя Уля настроилась на длинный и громкий разговор. — У меня ноги не казенные и руки тоже! — и громыхнула кастрюлями. — Ходют, бродют, а я вертись тут, жарься… Дала б я вам кушанье, будь вы мои дети, за то, что женщину безвинно страдать заставили. Березовой кашей бы попотчевала…
Толя потрепал Наташку по банту и ушел, не дослушав тетю Улю. Она завелась надолго.
Женька и Мишка Бельмастый срядились на работу, надели новые валенки, напустили на них лыжные брюки, подпоясались брючными ремнями. Сделались парни толстыми, неуклюжими. В глазах у парней возбуждение. Толя тоже начал переодеваться, а Женьке сказал, чтоб он шел на кухню к тете Уле просить обед.
— На меня она опять злится.
Женька скоро вернулся.
— Тарелки с борщом на столе. Тетя Уля шумит: «Налито, так чего не трескаете? Подогревать не стану!»
Ox уж эта тетя Уля! Второе не поставила, а прямо швырнула на стол. Но макарон все же навалила больше, чем полагается, и в компоте по полстакана косточек — этого детдомовского лакомства, из-за которого шли вечные споры и раздоры за столами.
Поели. Толя отнес Наташке косточки, ссыпал на стол. Девочка обрадовалась, захлопала в ладошки и подгребла косточки к себе.
— Поздно вернетесь — ужин у дежурных спросите! — крикнула тетя Уля в раздаточное окно и, видно спохватившись, не мягко ли у нее вышло, заворчала, орудуя у плиты: — Рабо-о-отнички! Драть некому!..
Сборы закончены. «Работнички» весело скатились на нарте под гору и очутились на протоке. Разговаривали громко. Правда, разговаривали Женька с Толькой, а Мишка лишь одобрительно помигивал живым глазом. Дорогу перемело. Нарта то зарывалась щучьим носом в снег, то катилась по выдутому льду сама и бодала ребят в пятки.
На протоке дуло. Правда, снег уже не тащило, но ветер был холодный. От весны не осталось ничего, будто ее и не было вовсе. Лишь на штабелях леса слоеным пирогом спрессовался снег, подернутый коркой льда, у берегов кочковато схватилась выступившая в оттепель наледь.
Протока. Как это по географии? Старое русло реки? Или часть реки?
Но какая же это часть?
В Краесветске протока — самое главное. С весны и до осени вся жизнь тут. И не будь этой тиховодной, глубокой протоки, и города вовсе не было бы здесь, и оставалось бы тут все мертво, пустынно, как сотню и тысячу лет назад.
Сейчас зима. Конец зимы. На протоке лед. Из него торчат сваи, бревна, щетина древесных отбросов.
Китами лежат вмороженные плоты и лодки. Облупившейся краской светят красные бакены с пустыми, безглазыми фонарями. Баркасы на берегу кверху дном опрокинуты, вехи возле прорубей поставлены, замело их до вершинок. Проруби в ямках, в заветрии.
Возле лесотасок дымится вода. Тянет из промоин прелой корой, тиной и страхом. А с пирамид лесотасок свисают огромные и грязные, как редьки, сосулищи. Обледенелые бревна нехотя ползут на скрежещущих крючьях вверх. И вдруг раздается гром, гул, рабочие внизу, бросая багры, разбегаются в разные стороны — это скользкое бревно сошло с крючьев и, ударяясь о цепи и зубья, пластая в клочья рубаху из коры, рушится вниз.
И опять тихо, мирно, бело вокруг. Тоска на протоке. Большая тоска. Глаза бы не глядели.
То ли дело летом!
Кишмя кишит протока! Катеров, рыбосборочных ботов, лодок-моторок, пароходов разных — речных и морских — тут, как рыбки тагунка в мотне невода. А ребятишек! Ребятишек! Удят, купаются, а накупавшись, греются у костра ребятишки, потому что вода в краесветской протоке и среди лета холодная. Шныряют по пристани парнишки: глазеют на иностранные пароходы; стреляют душистые сигареты у негров; угоняют лодки от дебаркадеров и спасательной станции; жуют вяленую рыбу, потихоньку снятую с мачт рыбосборочных ботов; катаются на бревнах и плотах; принимают и отдают чалки с судов; бегают в магазины по просьбе матросов, выпивая в награду глоток-другой; вечером делают налеты в овощной совхоз на острове; палят из тайком добытого ружья. Да мало ли дел у ребят на протоке! Спать некогда.
Не то сейчас, совсем не то.
Пароходы и баржи спрятаны в затон, в устье речек — в Медвежий и в Волчий лога.
Отстаиваются.
А в устье Волчьего лога у барж шла работа. Вымораживались баржи. Люди поддалбливали пешнями лед и постепенно забирались под брюхо барж, укрепляя их на деревянных клетках, проконопачивали суда, делали ремонт и пробивали для них ход в лог. Весной поднимется вода, баржи сгрудит в стадо за мысом лога, и они будут смирно стоять, пока не протащится лед. Затем баржи выведут по большой воде пароходами в протоку и отправят куда нужно с караванами.
Возле одной баржи горел костер, на нем котел со смолой. Вокруг толпились, потанцовывали, хлопали себя сами, почти все толсто и одинаково одетые люди. Поодаль, у другого костра, грелись стрелки. Из тех мужиков, что толпились вокруг котла, один колобком подкатился к ребятам. Стрелки сделали вид, будто нарушения не заметили.
— Нет ли курить, мальцы? — то и дело озираясь, неестественно бодрым голосом вскрикнул подбежавший. Подбородок у него прихвачен обледенелым от дыхания серым полотенцем. — Курить, хлопцы, не найдется? — повторил он вопрос и, подмигивая, пытался улыбнуться стылыми губами.
Толя знал: ни у Женьки, ни у Мишки курева нет, и все же смотрел на них — вдруг завалялось где? Они виновато переглянулись:
— Нету, дяденька.
— Пошукайте, родимые, может, где в карманах, в швах, пусть хоть с крошками. Разок бы зобнуть!
Ребята послушно обшарили карманы, вывернули их — нет ничего. Штаны и телогрейки из кладовой. Уже отчаявшись, человек, прибежавший от костра, быстро заговорил:
— Мы здесь все время работаем. Уведите табачку у корынцев, у папочек своих…
— Мы детдомовские, дядя.
— А-а, детдомовские! — обрадовался незнакомец, и сразу тон его изменился, сделался родственней: — Ну, вы-то достанете… Хоть бычков соберите…
— На место! — крикнул один из стрелков, и человек так проворно стриганул от ребят, что диво-дивное, будто и не было на нем тряпья, толсто подшитых валенок, латаных ватных штанов и бушлата, под которым чего только не надевано.
Ребята помаячили было людям у костра: завтра, мол, но стрелок и на них прикрикнул:
— Давай, давай отсюда!
До самого леса ребята виновато молчали. В лесу расшумелись. Дроворубы-шабашники, побывавшие уже здесь, проторили дорогу по Темной речке, узкую, правда, но проторили. А в лесу всяк торил себе ус. Ребята упарились, пока пробились к ложку. По скосам ложка кучками стояли узловатые, корявые лиственницы. В теплых краях купыри внушительней этих деревьев выглядят. Одно деревце отоптали, принялись попеременке подпиливать. Вскоре телогрейки побросали на снег, работали только в лыжных куртках.
Ширк-ширк! Ширк-ширк!.. Женька совсем плохо пилит. Толя тоже не сноровист по этой части. Никакого труда в детдоме нет. Не приучены к работе. Дрова, правда, возят и пилят сами. Но что на сотню голов те дрова? С удовольствием и веселостью сделают десяток резов — и больше уже не достается пилить, а только складывать.
Стоячее дерево подпилили криво, вернее сказать, перемозолили лиственницу. Мишка, поживший в бараках и изведавший всего барачного, терпеливо учил Толю и Женьку.
Ширк-ширк…
Наконец лиственница хрустнула, словно костяная, и упала в снег, искрошив черные сучья.
Сели передохнуть.
— Наденьте фуфайки, — подсказал Толя. — Простынете. А нам еще работать да работать… Ни шиша не умеем, воровать только.
Ребята как воды в рот набрали, ни звука. Редкий лес, подбитый березкой да чахлым ельничком, чуть пошумливал на ветру. В нем было просторно и уныло. Весь он просматривался насквозь. Строчки следов белых куропаток петляли меж деревьев по свежим наметам, и кое-где в них вплетались быстрые, крадущиеся следы песцов. В озеринах и логах, где козырьком нависали тальники, сплошная топанина. Снег истолчен дикими оленями, мохнолапыми куропатками и зайцами. Весь лес искрился и позванивал. Он покрылся ледком после оттепели и теперь, шатаясь, расковывался. В снег сыпались ледышки, дырявили его сахаристую гладь. За речкой по сухой гриве темнела стена кедрачей. Сюда осенями ходили ребята за шишками. Зимой кедрач казался гуще, строже и печальней, будто грустили кедры по лету и по шишкам. Впрочем, в Заполярье все вечно ждут лета и вечно грустят о нем.
Под мягким снегом, набросанным ночью метелью-перекруткой, крепкий наст. Ребятишки провалились неглубоко и поэтому не сразу выдохлись.
Они раскряжевали лиственницу на три части, каждый кряж вывезли по отдельности к дороге и там уж погрузили на нарту. Потом свалили еще одно дерево. Получилось шесть кряжей, но воз все равно мал.
— На первый раз хватит, а там видно будет, — рассудил Толя.
Мишка ничего не сказал, впрягся в коренники; Толя с Женькой в пристяжку. И двинули. Сначала на Темную речку, а по ней уже на протоку.
По речке, почти сплошь затянутой стылой наледью, тонко припорошенной снежком, нарта катилась ходко и даже кое-где норовисто рвалась вперед, и ребята со смехом тормозили ее: «Ну ты, все бы брыкалась!»
На протоке подналегли на лямки. Мишка с Толей впереди супряжно тащили, а Женька толкал воз сзади. Перли воз молча. Ругались по-мужицки, основательно, если нарта застревала в наметах или съезжала с дороги на раскатах.
За поворотом протоки показался город. В нем зажигались огни. Возле порта, за причалом, в скоротечных сумерках чуть виднелись привязанные к столбам самолеты, будто лошади у стойл. Один маленький самолет был оранжевого цвета и угольком светился на снегу.
По мере того как разгорались огни в городе, затухал уголек-самолетик на снегу и пестрая «колбаса», качающаяся на мачте над зданием авиагидропорта, погружалась в небо, в сумерки.
Издали город, прилепившийся на правом берегу протоки, почти в устье ее, казался разбросанным, дома в нем разбрелись куда попало: где густо, где пусто, будто с самолета горстями раскидывали дома по лесотундре. Но вот зажглись огни повсюду, домов не стало видно, и все приобрело порядок. Огни городские всегда что-нибудь прячут, скрывают собой. Почти сливаясь в сплошную цепь, окаймляют пятна огней лесобиржу. В середине ее, возле штабелей, уже редко и нехотя помигивают полуслепые лампочки. Ближе к Старому городу, у проходных, гудят непрерывным гудом лесовозы. Возле них огней больше. В Новом городе еще один квадрат — самый светлый — каток. На окраине уже квадрат не квадрат, а кривая дуга из лампочек, вытянутая вдоль берега, — нефтебаза.
Город заключен в огни. Люди живут и работают, высвеченные со всех сторон, а за ними темнота без конца и края. Верстах в девяноста от города, в сторону севера, лес исчезает совсем. Там тундра. Там ночь светлее от снегов, незатененных лесами и жильем. Ночь беспредельная и неспокойная от позарей.
Ребятишки по-своему любили свой снежный, заброшенный на край света город. В нем меньше радостей, чем в других городах, и оттого эти радости запоминались надолго и ценились своей дорогой ценой.
Самая большая радость в городе Краесветске — первый пароход.
Его начинали ждать сразу же после ледостава. И все разговоры, о чем бы они ни шли, никак не могли миновать первого парохода.
Стоят бабы в магазине в очереди, судачат, ругаются: «Вот придет первый пароход, и понавезут всего: и картошки, и луку, и свеклы. Тогда у них сушенку никто не возьмет. Пусть сами едят!»
Расшумится нервный человек на производстве и грозит: «Ладно, до первого парохода дотерплю, а там вы меня только и видели!»
Совсем плохо хворому в больнице, смерть подходит, а его доктора обнадеживают: «Ничего, голубчик. Дотянете до первого парохода, а там уж…»
Там уж и сам больной знает, что все будет хорошо.
Жители вольные, те с середины зимы, как наступят морозы да длинные ночи, клянутся часу не остаться здесь, наплевать на большие деньги, на все блага, уехать куда глаза глядят.
Первый пароход ждут ученики-отличники, жаждущие за успехи попасть на разные слеты, в лагеря, а кое-кто даже и в «Артек».
Его ждут артисты драмтеатра и сама «аргонавт искусства», как называют в местной газете знаменитую московскую артистку, добровольно приехавшую работать на Север. Она вместе с другими артистами на лето ездит в Москву отдыхать и набираться мыслей.
Пароход ждут летуны, зазимовавшие здесь оттого, что пропили денежки и осенью им не на что было выехать.
Ждут рыбаки, прихваченные шугой в пути и тоже спустившие заработки от безделья, зимующие с судами, не поднявшимися к родному затону. Отпускники, уволенные в запас военные и всякий разный народ спит и видит первый пароход!
И вот после частых и продолжительных задержек в пути с юга на север является капризная, избалованная вниманием певцов и поэтов весна. Утомленная приходит, цвет и краску порастерявшая, но здесь и такой бедноватой весне рады.
Распирает нетерпением город, и все куда-то спешат, о чем-то громко говорят, поют даже и слушают сводку погоды, как ее никогда и нигде не слушают.
Если случается весной такой же зазимок, как нынче, город совсем замолкает, молчаливыми становятся жители его. В такую пору бывает много драк. Каждый день ползут слухи один страшнее другого из барака в барак, из дома в дом.
Нехорошо бывает в Краесветске, если задерживается весна. Однако весна все равно наступит. Непременно придет…
Заюлят ручьи по городу, засинеют лога на острове, зашелушится, блеснет оголившимся мокрым льдом река. Видна сделается вся нерадетельность людская: брошенные на лед доски, бревна, лебедки и даже машины выпрут наружу и будут укором маячить, пока не утащит ледоход все это казенное добро. Баржи и лодки уведут с фарватера в закоулки. Перестанут летать и садиться на протоку самолеты.
Город на какое-то время останется без почты, без газет и новостей.
Но издалека по каким-то неведомым проводам идут слухи:
«Говорят, возле Вейска подвижка была!»
«Да что вы мелете ерунду! Возле Вейска уже пароходы шпарят, а подвижка наблюдалась у Ханска!»
«Так это что же выходит, — дня через три-четыре и у нас подвижка будет? А потом?..»
Что будет потом! Потом, как обычно, нарушив предсказания, протомив лишнюю неделю, а то и две краесветских жителей, неторопливо, надменно двинется широкая река. Следом за нею, как падчерица, послушно тронется тиховодная протока. И весь народ, какой свободный от работы и занятий, примчится на берег. В школах начнется повальная симуляция. С каждым днем станет подниматься, что квашня на опаре, возбуждение, и все будет казаться, что река нынче пошла неходко и вообще в природе с годами что-то не так делается.
Вот раньше бывало…
У Плахино вон затор будто бы образовался! С чего бы? На Севере, в таком широководье — и затор! Вот и смекай что к чему? Радио? Радио, оно и есть радио, а жизнь, она, брат, не по радио идет, она, брат, о-го-го!.. Да что за примером ходить? Возьмем погоду опять же…
Но туг скрипуны, а их на берегу не так уж много, стопорят.
Дело в том, что с погодой в Краесветске происходят вещи прелюбопытные. Климат здесь сделался мягче, слух есть, что скоро в Краесветске прямо под окнами возделают огороды, будет расти картошка, капуста и так далее.
Говорят, будто бы там, где появляется человек, вообще теплее делается. Земля вроде бы добреет.
С этим, конечно, спорить трудно. Вот он, Краесветск, вот она, земля, вот он, остров, и на нем овощи растят уже в открытом поле. Вот он тебе и Север! И вот он, ледоход! Побыстрей бы ему, ледоходу-то быть. Да уж и то хорошо, что пошел лед, что весна, что-климат лучше делается.
А как же иначе? Человек, он… И по радио опять же сообщили…
Спор на берегу непостоянен. Он волнами ходит, и что на волну попадает, о том и спор.
Вон ребятишки спорят, смотались из школы и спорят. Тема спора: какой пароход придет первый? «Спартак» или «Ян Рудзутак»? Одни говорят: «Спартак», другие — «Ян Рудзугак», третьи — «Косиор», превращая его при этом в «Костиора». Четвертый заявляет, что придет вовсе новый пароход, невиданный по красоте и неслыханный по силе, и что «Рудзутак» теперь уже вовсе не «Рудзутак», и «Косиор» вовсе не «Косиор», и все пароходы совершенно по-другому называются.
Всезнаек в Краесветске не любят и боятся, поэтому могут люди примолкнугь и разойтись, а если под горячую или пьяную руку попадешь ребра переломают. Не ври, не болтай! И без того слухов много, и один другого нелепее, непонятнее…
Поредел лед на реке.
Косяки уток стригут над водой, падают у берегов, ждут, когда сойдут ледяные бельма с озер. Тальники по берегам и устьям речек залило. На кусты крысы повылазили. Их ребята достают палкой, к концу которой прибит острый гвоздь. Сдают шкурки по двадцать копеек за штуку в «Охотпушнину». Курева и конфет у ребят полны карманы, бойней от них разит.
Вода прибывает и прибывает. Уж вровень с ярами сделалась, смыла ледяные гряды по берегам и, миновав этот рубеж, пошла вода по логам в город, подняла хлам, своротила ларек, сапожную мастерскую, многочисленные поленницы и потащила все это по улице Смидовича, как по бурной реке, переворачивая и ломая. На протоке течение сделалось мощнее, а уж по реке и вовсе несет так, что моторки и те еле-еле поднимаются.
Но вот совсем очистилась ото льда и загрустила по пароходам пустая протока.
Редко-редко пронесет по ней заблудшую льдину, редко-редко проплывет бревно-утопленник, измученно погружаясь в воду и затем ниже по течению выбиваясь тупым срезом из воды. Тащит хворост, щепу, кружит нефтяные пятна, шлепается глина из подмытых Яров. Поднялись, воскресли кусты по берегам. Все в тине, все измученные водою, они торопятся с листом, готовятся раскрыть на вершинах почки, иначе не успеть — лето здесь не любит ждать.
Протока пуста. Город полон ожиданий.
И как всегда, ожидание разрешается внезапно:
«Иде-о-о-т!!!»
Все, кто способен двигаться, сломя голову бегут на пристань.
В иную весну раз по пяти паника в городе поднимается из-за какого-нибудь рыбосборочного бота либо катера паршивого, показавшего дымок у горизонта.
Боты, катера ходят, чтоб они все перетонули! А парохода все нет. Раздражение нападает на людей, недовольство — ребятишки под руку не попадайся.
Когда все уж устанут, изнервничаются, показывается он, пароход!
Ребятишки лезут на крышу давно не работающей графитной фабрики, на столбы и снова спорят: кто это — «Спартак» или «Ян Рудзутак»? Но важно это уже только мальчишкам. Главное — идет! И не какой-нибудь катеришко, а самый настоящий белый пароход! Приблизившись к совхозу, что на острове Полярном, он начинает отрабатывать к другой стороне реки, к маленькому поселочку, и удаляется, удаляется…
Все знают, чтобы зайти пароходу в протоку, нужно обогнуть ягру отмель, уходящую от мыса острова в реку, сделать большое полукружье, и все же находится худой человек. «Этот вовсе и не к нам, а в дальний порт!» худым своим языком роняет он сомнение в публику.
Проносится ропот, бабий стон с причетом: «Да что же это такое? Ждешь его, ждешь, а он…» — «Да чего вы орете? — успокаивают их и себя мужики. Как это он может мимо пройти? Сроду не бывало!»
И правда, сроду не бывало, чтобы первый пароход прошел мимо Краесветска. Ох, бабы, бабы!.. А где тот змей, что панику наводил? Змей примолк, затаился…
А пароход-то, пароход все идет да идет к прибежищу!
И плицами похлопывает: хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп!
Конечно, отсюда плиц не услышишь. Должно быть, это истратившееся сердце каждого краесветского жителя хлопает так ладно да громко. Ребятишки и мужики которые, не выдержав, бегут навстречу пароходу по берегу, соскальзывают по глине, скатываются с яра, машут руками, кричат всякую всячину.
Капитан, зная, как здесь ждут первый пароход, нажимает на гудок еще вдали, в самом устье протоки. Вспыхивает белое облачко над трубой, и спустя длинное время до города долетает мелодичный гудок. Тут же с лесозавода ему радостно откликается городской гудок. Весь берег ревет, как на стадионе, чего попало. Духовой оркестр ударяет в тарелки. Теперь оркестр будет играть до тех пор. пока у музыкантов не кончится дух.
Берег кипит, волнуется. Люди в праздничной одежде. Откуда-то и пьяных уж дивно набралось. Они плачут, ругаются, в воду лезут. Женщины вытаскивают их из воды, дают по загривкам. Мужики не обижаются на женщин — не тот момент.
Пароход возле самого прибежища, бочком-бочком подваливает он к дебаркадеру.
Все лезут на мостки.
Ребятишки, как обезьяны, карабкаются по канатам. Слышатся разнородные крики: «Карау-у-у-ул! Ратуйте-е-е-е! Ал-ла-а!..» Трещат сходни.
С парохода бросают чалку. Народ грудится на дебаркадере, каждый пытается лично схватить бечевку легости. Шкиперу дебаркадера никак не подойти к чалке. Он кроет публику, не подбирая выражений, — сорвал голос, и теперь уж все лето будет без голоса.
Капитан что-то дудит в рупор, не разобрать.
На берегу бухает оркестр.
Визжит девка, придавили ее, должно быть, а может, и щекотят охальники под шумок.
С парохода кричат. С дебаркадера кричат: «Анька! Анька! Я тебя узнал!», «Тихон, а Тихон, да где же вы так долго, мать вашу, размать вашу!», «Товарищи! Гражданы! Не напирайте! Товарищи! Дайте трап сбросить!», «Сбрасывай! Кто тебе не велит?», «А где Марья-то, где?», «Марья, брат, преставилась. Осенесь еще…»
Кто-то запричитал.
Кто-то рванул гармошку.
Хрястнули мостки на дебаркадере. Народ заплавал. Утопленники будут. Это уж непременно. Без этого весной никогда не обходится…
Команде все же удается просунуть трап прямо в народ торцом. Хлынула толпа с обеих сторон, обнимаются, целуются, плачут. Ребятишки шныряют по пароходу. Пьяные рвутся в пароходный буфет, к пиву. Всю зиму не пробовали в Краесветске пивзавода нет.
С борта парохода летят узлы, чемоданы. Один узел развязался, посыпались из него чугунки, ложки, поварешки, бутылка с красной соской разбилась.
Капитан парохода смотрит на все это спокойно. Такая уж стихия. Привык.
И вот все. На пароходе народа нет. А на берегу табор.
С этого дня в городе начинается совсем другая жизнь. Такая жизнь, что и уезжать никуда не хочется.
Правда, какого-то особого чуда, по которому так томились души людские, не произойдет. Те, что клялись плюнуть на все и уехать куда глаза глядят, обрадуются долгожданному лету. Им теперь зима кажется далекой и нестрашной. Да и подниматься надо, тащиться куда-то от хороших заработков. Стоит ли?
Вербованные, промотав деньги, завербуются еще на лето и осенью опять пропьются до порток. Рыбаки уплывут обратно на свои северные тони. Многих и многих первый пароход забрать на магистраль не сможет, ему есть кого везти, и срочно везти. Он, как правило, приходит «спецрейсом».
Но уже теперь ждать недолго.
Следом за этим пароходом пришлют еще один, потом еще, еще…
Пойдут караваны.
Через месяц-два забасит заморский гость, и до самой осени, до октября, будут гудки, гудки, гудки…
Тоскливо скрипит нарта на той самой протоке, где летом кипит тесная и шумная жизнь. Спешит нарта к тому самому городу, у которого от ледохода до ледостава вроде бы и шапка набекрень.
Вот и ввоз. Меж полозьями ископыть лошадиная вперемешку с навозом. Хорошо — ноги меньше скользят. Навалились ребята, вытянули нарту с возом на яр. А тут и театр рядом! За ним город в пухлых дымах, наполненный треском мороза, крепнувшего к вечеру.
Лихо подкатили ребята к театру. У-у-уф! Упарились! Но воз в другой раз можно прибавить.
За театром, возле кочегарки, шла работа. Шабашники рубили макаронник отходы с лесозавода, пилили лиственные кряжи на метровые чурки, раскалывали их клиньями надвое. Макаронник горит, как хворост. Жару от него мало. А вот когда к макароннику добавят мерзлых поленьев, тогда зрителям тепло и артистам жарко.
Там и сям виднеются кучки бревешек. Каждый шабашник выкладывает свою кучку, свой штабелек. Завхоз театра, когда его пригласят, обмеряет кучку, черкнет в блокнотик — и будьте здоровы, получайте денежки.
Ребята свалили свои бревешки в сторонку и пошли домой. У них еще замерять нечего. Вот уж дней пяток поработают, тогда сдадут свою продукцию. А пока домой. Сегодняшний упряг — худо ли, бедно ли — сделали. Начали. Начало есть. А начало — всему венчало.
Нарту поставили в дровяник, резво катнулись по крашеному полу коридора на стылых валенках — и в столовку. Холоду нанесли с собой, шуму полную столовку. Тут же на стулья покидали шапки, телогрейки — замелькали ложки. Тетя Уля домой не ушла, кормит ребят, любуется ими исподтишка, борща оставила от обеда, и гречневой каши, да еще чаю горячего. Сухариков к чаю дала и молока сгущенного. Это уж сверх всего, как ударникам.
Все смолотили ребята. В сон потянуло. Но еще надо уроки делать. Ох уж эти уроки! Пропали бы они пропадом! А делать надо! В другой раз и плюнули бы, как-нибудь выкрутились бы. Сейчас умирай, но домашнее задание делай. Иначе дадут взбучку и не отпустят на работу.
Собрались в красном уголке. Лица горят от ветра. Посторонний народ из красного уголка выдворили. Остались Наташка и Аркащка.
Толя проверил Аркашкины тетради, посмотрел дневник и почесал затылок: «Мне бы так!» Наташке дал обертку от конфеты «Мишка на Севере», найденную у театра. Она довольнехонька, фантик из «Мишки» свертывает.
Толя полистал литературу. Задание: пересказать своими словами содержание поэмы Лермонтова «Мцыри».
«Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас…» пробормотал Толя и посчитал, что этих строчек достаточно. Дальше уж как-нибудь само собой расскажется. «Свободолюбивый образ, дитя гор», «проклятое время, когда царил мрак, суеверие, страшный закон…», «но люди согревались мечтами о свободе…». Главное, насчет мечты не забыть, все, мол, мечты исполняются в наше время, и сказка становится былью. Это учителя очень даже любят, когда своими словами.
С литературой покончено. Для Толи литература — пустяк. А вот с алгеброй и геометрией хуже, тут насчет мечты не загнешь. Решай задачу и еще доказывай, правильно ли решил ее, подлую. Не докажешь — пеняй на себя и на Изжогу. Завтра Толе опять придется списывать по алгебре и по физике у тех, кто хорошо учится по этим предметам и плохо по русскому и литературе. Взаимовыручка — главный конь в учебе. Без него никуда не уедешь. Полистал, почеркал Толя кое-что, вызубрил одну формулу по физике на всякий случай Изжоги он побаивался. И подался в свою комнату — книжечку почитывать. Женька и Мишка остались, хмурят лбы, пыхтят.
В коридоре шло состязание на бильярде. Трое или четверо мальчишек сидели уже под столом и кукарекали. Вокруг бильярда ковылял Паралитик и натыривался на ребят, пытаясь сыграть без очереди. Ребята не обращали на него внимания. Толя попер на Паралитика грудью:
— Ты, чувырло, цыть с глаз, пока я тебя не доделал!
— Кто?
— Я!
— Ты?
— Я!
Они стоят, поталкивая друг дружку плечом. Ребята перестали щелкать шарами на бильярде, посматривают. Те, что под столом, откукарекались.
У Паралитика спеклись и потрескались губы. Под глазами черно. Лицо его еще больше пожелтело и усохло. Должно быть, занемог после боя Паралитик и потому не показывался дня два из комнаты. Деменков куда-то исчез, он и раньше пропадал по нескольку дней, а иногда и по неделе, кантовался в «Десятой деревне». Появлялся сумрачный с перепоя, отсыпался сутками.
Паралитик без Деменкова — нуль. После драки — и того меньше. Малыши еще побаивались его по привычке, но те, что побольше, или избегали, или не уступали. А Толя настырничал, рыпался. Он так напоследок двинул Паралитика плечом, что тот едва удержался на костыле. Ребятишки кругом прыснули.
— Отойдем в сторонку, шибздик! — прошипел Паралитик, по-блатному пришепетывая, чтобы хоть этим прикрыть свое унижение и сохранить гонор.
— Что, думаешь, испугаюсь? — Толя двинулся в раздевалку.
Ребятишки следом. Меж ними Маруська Черепанова шныряет, принюхивается. Мелькнуло за спинами ребят встревоженное лицо Зины Кондаковой, и Толя совсем распетушился и на Паралитика глядит с вызовом.
— Ты лягаш! — сказал Паралитик Толе, будто и не замечая притаившихся в раздевалке ребят, но говорил так, чтобы им тоже было слышно. — Перышко по тебе скучает! Перышко!
— А чего это, перышко-то? — явно издеваясь, спросил Толя и поковырял мизинцем в носу.
— Перышко? — растерялся Паралитик. — Перышко-рондо! — многозначительно сощурился он.
— А-а, — снова с издевкой протянул Толя. — Я рондом не пишу. «Союзом» больше, — намекнул он, и Паралитик аж подпрыгнул на костыле.
— Живешь до парохода, лягаш, понял? Нас — в исправиловку. Мы тебя — к маме. Понял?
— Ты, моща из святой обители! Будешь на ребят тыриться — и до парохода не доживешь! Задавлю! Припухни, как мышь в норке!
— П-п-псых! — прокатилось по всей раздевалке.
Очень уж ребятам понравилось, что Толька не сдрейфил. А больше всего им поглянулось, какому унижению подверг Паралитика Толька учеными словами. «Хорошо, что книжки читает: скажет — как оплеуху даст! Вон Паралитик-то скис и в комнату потопал, тук-тук костыликом». Вслед ему свистнули. Он обернулся и, оскалив зубы, погрозился костылем с железной блямбой. Топай, топай, не больно теперь костыля твоего боятся!
А Толька молодец! Он идет по коридору — грудь колесом, и всяк старается попасть ему на глаза и услужить чем-нибудь. Но Толька бескорыстный человек, никаких услуг и наград не требует. Он герой новой формации! Эх, не забыть бы ему еще этими словами на литературе бухнуть! Сразу «отлично» поставят. В крайнем случае «хорошо».
Глава 11
Деньги чаще всего водились у Маруськи Черепановой. Дядя ее до водопровода греб деньгу, что капиталист. Тогда люди бегали на протоку с ведрами и на речку — не больно это сподручно, особенно зимой да в метели. Воду развозили в бочках по домам и баракам, копейка ведро. Дядя, встретив племянницу на улице, садил ее рядом с собой на бочку, расспрашивал про жизнь. Сам тоже не молчал. И Маруське становилось известно: кто где и как живет; кто кого побил или побить собирается; кто не скупой и не просит сдачи с гривенника, кто ждет эту сдачу, дрожа на улице с ведром из-за какой-то паршивой копейки; и какая будет погода: если худая — прибыль, хорошая — убыток; и что кино новое привезли, жуткое, про летчика, как он с неба упал; и что пожарного с работы сняли — уснул на каланче.
В последнее время из-за водопровода Маруськин дядя урезал гостинец до гривенника, но деньги все же у Маруськи водились — скапливала. И хотя она девчонка, просить деньги у нее не стыдно, потому что она хоть и выжига, но «своя в доску».
Толя скараулил Маруську на перемене у школьного буфета.
— Манька, дай мне тридцать пять копеек взаймы. — Тридцать пять копеек стоила пачка махорки. — Нет, дай лучше семьдесят. Заработаю — верну.
Маруська не сразу дала деньги, хотела выведать, куда они ему и зачем. Однако Толя хорошо знал Маруську и давнул ей пальцем нос:
— Много будешь знать — скоро состаришься!
И тогда Маруська, несколько разочарованная, развязала зубами носовой платок, в уголке которого был свернут фантиком рубль.
— Разменяй, — сказал Толя. — Мне нужно семьдесят копеек.
— Ладно уж, бери уж, — сказала Маруська недовольно и, убегая, зыркнула глазами. — Хоть сколь задавайся, я все равно узнаю про все…
«Узнает ведь, узнает, пройдоха! — почесал затылок Толя, засовывая деньгу в столбик рубашки, специально распоротый для того, чтобы прятать туда разные ценности. — Надо бы Аркашке с Наташкой за рублишко дяди Ибрагима купить чего. Ну ладно, заработаем, и я им не на рубль, а на тройку накуплю всего…»
С последнего урока ребята опять удрали. Пообедали и рысцой двинули на протоку. Возле порта забежали в ларек, в который во время навигации не протолкнешься, а сейчас в нем пусто. Продавец, хромой еврей по фамилии Кисский, а в народе — Киска, грелся у раскаленной печки. На рубль и мелочишку, копеек двадцать, завалявшуюся у Женьки, Киска дал целый карман добра: две пачки махорки, пачку «Ракеты» и еще три книжечки тонкой курительной бумаги добавил от себя, узнав, куда и зачем потребовалось ребятам курево.
Для начала парни по «ракетине» закурили сами. Женька накашлялся до слез, но выдюжил, докурил папироску до мундштука. Кинули окурки в снег, упали на нарту, скатились с яра и опрокинулись в снег. Фартовая жизнь!
Ветер утих. Спокойно было и немо все вокруг. Рыхло наметенный снег чуть искрился. Небо серое. Из него высыпались редкие, ленивые снежинки и медленно, косо плыли в воздухе. Вороны, куда-то исчезавшие зимой, в ростепель появились и теперь кружились над протокой, каркали недовольно: дескать, была весна — и нету! Каркали, каркали вороны и черной шайкой подались к острову, в совхоз, — там есть чем поживиться.
На острове дымят избушки. Сотнями кошачьих глаз горят в теплицах стекла, где колдует уж который год женщина-агроном, приехавшая из Ленинграда. Недавно ее сфотографировали в газете, потому что она орден получила за картошку, за лук и еще за разные овощи, которые она вывела в теплице, и приучает их расти в Заполярье. Вот уж не думали ребята, что за такую работу ордена дают! Зимовщикам, пограничникам — это другое дело, те замерзают во льдах, диверсантов ловят. Герои!
Морозец стоял градусов на пятнадцать — звонкий морозец, и не верилось, будто совсем близко, в теплицах совхоза, зеленело все, и даже огурцы цветут желтеньким. А ведь цветут, точно, ребята сами видели, когда ходили на экскурсию в совхоз прошлой весной.
Мимо парнишек с лаем и воем промчалась собачья упряжка. В упряжке коренниками шли три шавки, за ними — два лохматых пса. Псы гавкали, наступали на пятки шавок. Те, высунув языки, мчались во весь дух. Хозяин благодушно лежал на нарте и ни во что не встревал, а курил себе цигарку и ехал по дороге за дровами в лес.
Завистливыми взглядами проводили упряжку ребята. Поравнялись с логом, где у баржи орудовали пешнями люди. Продолбленная ими в толстом льду майна курилась студеным парком. По ту и по другую сторону майны, в которую целилась тупым носом баржа, лежали горы синего толстого льда.
У костра никого не было. Видно, не наступило время перекура. Но стрелки, их было трое, сидели на бревне и на чурбанах возле огня, не обращая никакого внимания на тех, кого стерегли. Убежать из Краесветска можно только летом и весною, ближе к пароходам. А сейчас куда побежишь? Вот и торчат стрелки для вида и для порядка.
Ребятишки подвернули к костру стрелков. Те уступили им место на бревне, и один стрелок, в буденновском шлеме, с помороженными щеками, полюбопытствовал:
— По дровишки, мальцы?
— По дровишки. — Толя достал пачку «Ракеты» и небрежно щелкнул по ней. — Закурите.
— Отчего и не закурить? — согласился второй стрелок, кряжистый, пожилой, с клешнястыми руками.
А третий стрелок, тот, что сидел на чурбаке, должно быть старший, потому что у него был наган, а не винтовка, упрекнул ребят:
— Молокососы, а туда же, курить! — но папироску тоже взял.
— Мы не курим, — отозвался Толя. — Это мы для форса. Берите, берите, заметив нерешительность молодого стрелка, заторопился он.
Стрелок поглядел на старшего. Тот поморщился вроде бы от напахнувшего на него дыма и ничего не сказал. Стрелок сунул пачку «Ракеты» в карман полушубка. В это время к костру, как и вчера, колобком подкатил кругленький, тот, коренастенький парень в строченой бушлатине и, преданно глядя на стрелка с кобурой, нарочито бойко спросил, будто отрапортовал:
— Перекурить разрешите, гражданин начальник!
Стрелок с кобурой неторопливо пошевелил валенком головню в костре и нехотя, как полководец, кивнул.
— Пер-р-реку-у-ур! — заблажил на всю протоку колобок и, укатываясь, подмигнул Толе: дескать, мы тебя помним и ждем.
— Можно отнести им закурить, гражданин начальник? — немного робея и льстиво называя стрелка гражданином начальником, попросил Толя.
Два стрелка тоже просительно глядели на начальника. Тот снова пошевелил головню, снова поморщился вроде бы от дыма и лениво разжал губы:
— Один. Остальные на месте.
«Ай да „Ракета“!» Толя поспешил к барже и вмиг оказался в кругу людей, одетых в одинаковые бушлаты, в шапки с крысиными меховыми ушами. «Вот куда так много шкурок-то крысиных идет!» — сделал он открытие, вспомнив, как люто и небрезгливо изничтожают веснами крыс городские ребята; и детдомовцы не отстают — им тоже деньги нужны. Парни лупят водяных крыс и свежуют, а девки «с крепкой кишкой» обезжиривают, обрабатывают и сортируют шкурки.
Все работавшие у баржи грудились вокруг огня, будто заклиная духов, тянули руки к нему. Почти у всех струпьями сходила со щек, с носов и ушей помороженная кожа. Все они небриты и толсто одеты. Все усталы и покорны.
— Здорово, браток! — поприветствовали Толю сидящие у костра.
Они не спрашивали насчет курева. Они деликатно ждали, взглядом прощупывали карманы мальчишки. У круглого колобка жадностью горели глаза. Толя не стал томить курильщиков, скорее вынул табак.
— Есть махорочка, есть! Курите, пожалуйста!
Куда и как исчезли обе пачки махорки, когда и как успели эти люди скрюченными от холода пальцами свернуть цигарки, Толя не заметил. Враз все задымили, гулко закашляли, заплевали, принялись со сладкими стонами лаяться.
Лица у всех сделались довольные-довольные.
— Дров добавьте в костер, дров! — спохватился молодой парень в реденькой, но пушистой от куржака бородке. Губы у него сухие, растрескавшиеся, нежные, избалованные когда-то были эти губы, вот потому и изветрели сильнее, чем у его напарников — мужиков.
— Да, да, — разом поддержало несколько голосов. — Пусть корешок погреется.
Кто-то метнулся за дровами. Больше эти люди ничем не могли отблагодарить Толю за добро. Он, счастливый тем, что смог им услужить и что среди этих людей быть не так уж страшно, как думалось прежде, возразил:
— Да сидите, сидите, я же не замерз. Я ж из тепла, — и вдруг осекся. Кто они, откуда? Всякие, наверное, тут: бандиты и головорезы — преступники, одним словом. А вот нету против них сердца у Толи. Мальчишка, конечно, и не подозревал, что сейчас в нем пробудилась и заговорила российская жалость, та ни с чем не сравнимая жалость, которая много вредила русским людям, но и помогала сохранять душу, оставаться людьми.
— Я ж говорил — принесет! — нарушил молчание колобок. Полотенце, намотанное им вместо шарфа, приспущено, он хлебает, хлебает дым от цигарки: — Наша кость, подзаборщина! — хлопнул он Толю по коленке.
— Ну, как вы живете-то хоть? — спросил широкоплечий мужик не в бушлате, а в озеленелом старинном полушубке. Он, кажется, один только и был не обморожен. Взглядом и голосом этот мужик напоминал Валериана Ивановича, но говорил по-деревенски, на особый манер, растягивая «е» и чуть заметно мягко окая.
— Хорошо живем, учимся. Ну, учимся кто как. Ничего в общем.
— С питаньишком-то как? — задал человек этот, в полушубке, непременный мужицкий вопрос. — Чем хоть снабжают?
— Ну, чем? И кашей, и супом, и компотом, и какао дают.
— Какаву? — изумился мужик. — В детдоме — какаву?! В детдоме!
— А что?
— Заливаешь, парень! Коли б какавом кормили — не поехали бы в лес за дровами, — деликатно не согласился заключенный, присевший на корточки к огню, обутый в новые валенки, подпоясанный ремнем без пряжки.
— Да мы дрова возим не себе, — отозвался Толя, не понимая, почему ремень без пряжки.
— А кому же?
— Ну кому, кому?.. Надо одно дело провернуть…
К огню сунулся узконосый такой и узкоглазый парень небольшого роста, сильнее всех обмороженный, запаршивевший, в издырявленной от огня одежонке, и полюбопытствовал — с ними ли живут девчонки?
— С нами. А с кем же им жить?
Узкие глаза человечка замаслились, сделались еще уже, и он сунулся чуть ли не в самый костер:
— Спите вместе? Фити-мити, а?
— Вместе? Почему вместе? Мы в отдельных комнатах. Аркашка с Наташкой у нас. Они брат и сестра… — Внезапно Толя вспомнил, как приходила ночью Зинка в четвертую комнату, как она прихватывала рубашку на груди. Парнишку обожгло стыдом, и он поспешно приподнялся с чурбака: — Да вы что? Мы ж как родные! Мы ж…
— Ушейся! — рыкнул на узконосого парня колобок в бушлате и бросил в снег окурок.
Катнулся узконосый вверх тормашками, показав изожженные подошвы валенок с торчавшими из запятников сенными стельками.
— Я пошутил, — отбежав в сторону и торопливо домусливая цигарку, заныл узконосый.
— Ушейся! — многообещающе поднялся от костра человек с ремнем без пряжки, которого все у огня почтительно именовали Бугром.
Узконосый знал, видно, что с Бугром шутки плохи, отскочил еще дальше, подметая снег стельками, и больше не подавал голоса и не показывался скрылся за баржей.
Но разговор уже разладился. Да и Женька с Мишкой махали с дороги.
— Я пойду, дяденьки. До свидания.
— Лучше прощай, дорогой, — мрачно, с далеко упрятанной горечью сказал Бугор, надевая рукавицы.
— Держи хвост дудкой, — посоветовал Толе колобок с выбитыми передними зубами, с курносым, когда-то, должно быть, озорным лицом.
Трудно стало дышать Толе, заложило грудь, но его тормошили, ободряли:
— Легкого возу!
— Учись как следует!..
— Дай Бог здоровья! — пробасил мужик в деревенском полушубке и пощупал грузной ладонью Толю за шапку. — Дай Бог здоровья, — глуше повторил он, отвернулся и пошел от костра, подобранный, подпоясанный, даже здесь выглядевший хозяйственным, степенным, с какой-то большой, но огрузшей спиною.
С дороги ребята обернулись. За баржей толклись люди, махая руками. Толя догадался — бьют узконосого.
— За что это они его?
— За дело. — Толя больше не оглядывался.
Под шорох нарты и под скрип снега он задумался. Все чаще и чаще Толя задумывался, и жить ему от этого делалось трудней.
Еще давно-давно видел он первый раз в жизни пароход. Из трубы его валил и расползался широко над водою дым, а по бортам висели красивые круги с буквами. По бокам парохода бушевал грозной силы огонь. Возле деревни пароход выбросил облачко пара и так загудел, что голос его разнесся по всем горам и долам. Поприветствовав деревню, дома, ребятишек на берегу, распутав коров, овец и коней на выгоне, переполошив стрижей над рекою и загнав собак во дворы, пароход промчался дальше, унося в подкрылках жутко ухающий огонь.
Когда везли на Север, Толя увидел круги на бортах и узнал, что они называются спасательными, а под пароходом вовсе не огонь — это вертятся колеса с ярко-красными плицами. Не хотел Толя верить лишь одному, что это тот самый пароход с добродушным названием «Дедушка», который проходил, да что там проходил — пролетал мимо деревни как сказочная птица.
В Краесветске, городе леса и пароходов, Толя облазил не одно судно. На тросах буксиров сушились рубахи и подштанники, на кормах сложены поленницы дров, на мачтах ветром болтает стерлядей и осетров — вялится рыба. Из кают пароходов щами и жженым луком пахнет. На одном пароходе он видел даже самовар с трубой и подле него самую обыкновенную, тушилку для углей.
И разочарование охватило Толю после того, как он дошел своим умом, что люди здесь тоже живут и работают, как на заводе.
Он сделал непростое открытие, что всяк человек на своем месте выполняет работу и оттого получается хлеб, соль, мясо, рубахи, ботинки, штаны, кепки, пальто и даже тетрадки, карандаши и учебники, и даже города, и все в городах, и все на этом свете сделано человеческими руками, рожденными для работы.
А он-то думал…
Толя с радостью стал отаптывать лиственницу — работа помогала избавиться от докучливых мыслей.
В этот вечер Толя, Мишка и Женька приволокли семь кряжей. А в следующий — восемь. Штабелек ребячий рос. Думали еще дня три повозить дрова и сдать завхозу театра первую партию своей законной продукции. Но на четвертый вечер появился Попик-бес и принялся искушать:
— Вахлаки! Волосатики! — обзывался он. — Сколько дров кругом, а они горбатят. — Попик ретиво принялся перекатывать лиственные кряжи из принятого уже к распиловке большого штабеля к унылой грудке бревешек, натасканных детдомовцами. — Так вам до гроба хватит! А тут раз — и готово! Что нам стоит дом построить — только печку заложить! — балагурил Попик.
Ребята сначала робели, а потом, махнув на все рукой, стали помогать Попику. «А что, если попадемся?» — Толя оттащил нарту в сторону и поймал весело работающего Попика за рукав.
— Ты зачем сюда пришел? Кто тебя просил?
— Хэ, ухарь какой! Год возить будете, и год твои бедные дети кантоваться у нас будут, да? А мама их за решеткой страдать, да?
Мишка и Женька перестали работать, вслушиваются.
— Тебе какое дело?
— Денежки все тырили, а? Все? — наступал Попик. — Прожирали и пропивали все? Все? Говори!
— Ну, все.
— Тогда чего ты один в патриоты прешь? Я тоже, блин, патриёт! И такого, как ты, командира, я знать забыл! — С этими словами Попик подхватил бревешко, катанул его и вытаращил глаза свои белые на Мишку и Женьку: Чего ждете? По щучьему веленью — ждете?! Ух, блин, народец! Каша в роте мерзнет!..
Были в Попике неотразимая привязчивость и натиск. Если он что затевал — устоять перед его напором невозможно было. Мишка с Женькой резво покатили бревешки, а Толе Попик сказал:
— Зырь! Если что — свистнешь! — и этим самым как будто его тоже вовлек в совместную работу.
Управились. Накатали штабель кряжей. Попик сбегал за завхозом. Тот явился с блескучим стальным метром-рулеткой и спросил:
— Где ваши дрова, молодые люди?
— Вот эти! — пнул серым валенком Попик в темный, напряженно сгрудившийся штабель.
— Значит, эти? — молвил загадочно завхоз и обежал штабель кругом. Фетровые бурки на нем музыкально поскрипывали. — Значит, эти? — повторил он и сдвинул на затылок шапку-пирог.
«Ну эти, эти, чего волынишь? Принимай!» — томились парни. «Ох, попадемся! — у Толи потную спину пробрало холодом. — Чего мы натворили?! Ой, попадет нам!» — терзался он и перебирал от нетерпения ногами.
— Дровишки — будь здоров! — тараторил Попик. — Первый сорт! Из лесу, вестимо! Отец, слышишь, рубит, а я отвожу… — припомнил он стих.
«А-ай, гад! Ну и пройда этот Попик! Он отвозит! Вот гад! Умора!»
— Минуточку внимания, молодые люди! — обратился к мальчишкам завхоз. Прошу сюда. Всех.
Ребята осторожно подошли. Толя остался в стороне возле нарты. «Засыпались!» Завхоз достал карандаш, а метр свернул и сунул в карман. «Неужели без обмера думает принимать? Не надул бы! Они такие, эти завхозы!» — такое подозрение мелькнуло одновременно у всех парней.
Завхоз постучал по торцу одного бревна толстым карандашом:
— Прошу прочесть здесь написанное!
Ребята дружно наклонились. На торцах бревен было размашисто черкнуто грифельным карандашом «Хы».
— Прошу взглянуть на нижние бревна! — так же вежливо потребовал завхоз. — Прочли?
— Прочли, — упавшим голосом ответили ребята. Попик забегал вокруг завхоза:
— Ну «жи», ну «хы» — не один ли хрен? Дровишки из лесу, вестимо, Принимай и гони монету!
— Монету? — уставился на ребят завхоз и, понизив голос, полюбопытствовал, как на экзамене: — А что обозначают эти «хы» и «жи», вы не задумывались, молодые люди? Не задумывались! Та-ак! Ну-с, ближе к делу: «Хы» — это значит хреновые работники. Поясняю: все шабашники, которые кормятся у театра, уволены с честных советских предприятий за прогулы, нерадение и прочие разгильдяйства. И выходит что? Выходит, они — хреновые работники. Отсюда и гриф — «хы». А ваш гриф — «жи». Я на хозработе собаку съел и вижу каждого пресмыкающегося насквозь. Вы — детдомовцы, значит, жулики. Ваш гриф — «жи». Дошло?..
Попик, подлый, первым махнул за театр. Женька и Мишка следом. Толя с нартой замешкался. На нарте пила и топор — бросать нельзя. Завхоз успел ему буркой привесить. Больно. Тяжелые бурки у завхоза.
Они одновременно — завхоз и Толя увидели топор на нарте. И у парнишки начало захлестывать голову какой-то мутной волной, что с ним случалось в минуты крайнего бешенства, когда переставал он себя помнить: «Все равно теперь. Денег не достать. Бабу погубили. Аркашку с Наташкой осиротили. Пропадать так пропадать!..»
— Еще пни! Пни! — сквозь зубы процедил он, с ненавистью глядя на завхоза. Пятясь к нарте, он протягивал руку за топором: — Еще только…
Ко времени вывернулся Попик, принялся махать руками и доказывать что-то завхозу.
— Но-но, не очень-то, — погрозил завхоз Толе и оттолкнул от себя Попика. — Сгинь, нечистый дух! — пугливо оглядываясь, посеменил завхоз к кочегарке. — Чтоб и следочка тут больше вашего не было! — прокричал он издали и быстро исчез с глаз.
Молча тащились до Волчьего лога. Попик пытался вести себя беспечно и похохатывал, заискивающе глядя на Толю:
— Во, блин, хитрый так хитрый! Во нарвалися, так нарвалися!..
— Заткнись! — замахнулся Толя.
— Чё ты, чё ты? — попятился Попик в снег. — Бешеный! Я ж помочь хотел. Если бы там свет не горел, не попухли бы. Э-эх, бли-ин! — простонал Попик. — Надо ж было лампочки на столбах побить, а потом уж ферта этого звать!.. Э-эх, блин!..
— Заткнись, говорю, пока я тебе сопатку не расквасил! — пуще прежнего озлился Толя, дергая нарту, запахавшуюся рылом в снег. — Откуда ты, вражина, на нашу голову только и взялся?
— У сопатки хозяин есть, — вяло огрызнулся Попик. Больше он не тараторил и не похохатывал, а о чем-то сосредоточенно думал. Возле дома он хлопнул одной рукавицей, порванной о бревна, о другую и заявил:
— Достану я вам эти гроши! Легавый буду, если не достану! — и вытер рукавицей нос. — Гутэн таг, дети! — Попик махнул ребятам и помчался на озеро, где катались и визжали девчонки да разная мелочь пузатая. Ему, этому Попику, все трын-трава, ни горевать, ни переживать он не умел и не хотел.
«Работнички» закрыли нарту в дровянике, упрятали топор и пилу. Ужинали они в этот вечер без всякого аппетита и удовольствия. Уроки и вовсе не стали делать. Пропади они, эти уроки, и все на свете пропади!
«Убежать бы куда-нибудь, скрыться и забыть обо всем», — сидя в комнате над раскрытой книгой, думал Толя.
Мишка и Женька виновато помалкивали. Попик на глаза не показывался. Очень был смутный и гнетущий вечер, раздражали шум и беготня ребятишек в коридоре. Толе хотелось подняться со стула, сходить в коридор, наорать на ребятишек, поддать разок, если потребуется, но даже пошевелиться было трудно.
Глава 12
Цинга давно не косит людей в Краесветске, но все же таится, как в загнете жар, и веснами разгорается. У краесветских жителей, в особенности у ребятишек, кровоточат десны, шатаются и выпадают зубы. Беззубые ребятишки в школах сюсюкают у доски, и учителя на них не кричат. Есть, конечно, которые придуриваются и сюсюкают нарочно, чтобы непонятно было, что они говорят, или за щеки держатся, гримасничают в расчете на сострадание. Глядишь, и не спросят. По классам несутся запахи чеснока и лука. Учителя не чуют — они тоже едят лук и чеснок.
Года три назад новое дело началось в Краесветске — нигде доброй воды не напьешься. В клубах, на производстве, в школах, в больницах — всюду отвар из хвои — «чудодейственное средство против цинги». Поэтому везде убирают бачки с водою, и хочешь не хочешь — пей отвар, спасайся от цинги. Мужики хоть водку хлещут. А у ребят один выход — снег лизать. Вот и тащат они в классы катышки снега, осколки льда, лижут его, сосут, а остатки за воротники девчонкам опускают. Визг в классах, хохот, веселье… Горлом маются, кашляют и хрипят школьники и пропускают занятия. Водолазов на улице атакуют встречные, глохтят ледяную воду прямо из черпака, ругают власти и медицину.
В детдоме дают по кусочку сахару или по конфетке-горошине за каждый стакан выпитого отвара. Есть охотники на конфеты, штук по десять зарабатывают, а иные нередко и обжуливают тетю Улю — конфетки и сахар получают за так.
От лесозавода спешно увозят отходы — опилки, корье, обрезь — на ближние озера. В городе плакаты: «Выйдем!», «Очистим!» — это все от пожара. Перед каждой весной дрожат краесветские пожарники.
Крутые утренники начались, и днем не отпускает. Еще будут ветра. Еще пометет да пометет. Но все равно скоро весна. Солнце нет-нет да и покажется. Показывается оно чаще всего по утрам, тусклое, как пятак, каким зубятся ребятишки в чику. Но скоро, уже скоро перестанет оно хмуриться, хлестанет сквозь дымы и туманы по Краесветску так, что зайдешь с улицы домой, и ничего не видно. Взрослые люди очки надевают, а ребятам где их взять? Так обходятся. Прибегут с улицы, постоят-постоят, проморгаются.
Педсовет четвертой школы совместно со своим директором решил вплотную заняться детдомом, развернуть в нем воспитательную и культурно-массовую работу с целью подтянуть ребят к экзаменам. Для начала послали в детдом пионервожатую с активом — провести пионерский сбор и установить контакт.
Пионервожатая собрала детдомовских девчонок и нескольких тихих парнишек в красном уголке. Кричала: «Будь готов!» Ей отвечали: «Всегда готов!»
Кобылка ломилась в дверь, насмехалась, строила рожи. С совершенно бессмысленным видом в красный уголок забрел Борька Клин-голова, пиная «жошку». За ним тащились счетчики.
— Зуб! — сказал Борька Клин-голова.
— Дергай! — откликнулись счетчики.
И Борька Клин-голова «дернул» так, что пришлые аж содрогнулись.
Убрел Борька Клин-голова. Появился Попик. Он вежливо постучал в дверь, вошел смирненький, с балалайкой и попросил разрешения спеть песню, несмело давая понять, что хотел бы участвовать в самодеятельности пионерского отряда!
— Пожалуйста! — обрадовалась пионервожатая и захлопала в ладоши: Ребята, тише!
Но ребята, особенно те, что толпились за дверьми, и без того замерли, ожидая потехи.
Попик ударил по двум струнам балалайки, потому что третьей не было, и с серьезнейшим видом запел:
Гражданы, послушайте меня!
Гоп со смыком — это буду я!..
Сбор получился недостаточно удачным. Мало того, после сбора активисты были подкараулены за дровяником детдомовской шпаной. Ордою налетели детдомовцы, натолкали гостям снегу куда надо и не надо. И после уж никаких пионеров-отличников в детдом заманить было невозможно. Детдомовские пионеры ходили на сборы в школу сами и резвились там, мешали проводить эти сборы. Педсовет четвертой школы не отступал и по настоянию Ненилы Романовны принял более энергичные меры, «бросив» на детдом Изжогу, но он дальше кабинета Валериана Ивановича не просочился, ушел оттуда красный, взволнованный: видно, не допустил его к своим ребятам заведующий.
Учителей как отрезало. Валериану Ивановичу из гороно влепили выговор, а он влепил выговор Маргарите Савельевне, ответственной за пионерскую работу в детдоме. Маргарита Савельевна сначала поплакала на кухне, а потом тетя Уля налила ей стакан холодного киселя. Она его выпила, причесалась и бесстрашно сказала, глядя в распахнутую дверь кухни:
— Этот выговор меня многому научил! Я не могу и не хочу больше быть слепым орудием. Я сама…
— Вот-вот, — поддержала Маргариту Савельевну тетя Уля, с хитрой улыбкой слушая речь воспитательницы. — Построже, построже с ними, а где и наоборот, подобрее. Они хорошие, ребятишки-то, но сорвиголовы. Вот галстуки не носят. Старые галстуки-то, обмахрились на концах, застиранные. Наши-то ребятишки уж очень всякие разности меж собой и другими школьниками больно переживают, а тут еще галстуки. У тех новенькие, с зажимами, а у наших… Вот вы и поменяйте галстуки-то новые им. Затребуйте денег, купите материю и пошейте. Они всякой обнове рады. Дети ж…
— Благодарю вас за совет, — сказала Маргарита Савельевна и направилась в канцелярию, а тетя Уля строго вслед кинула:
— Меня на сбор позовите. Если что, я и огрею…
И тетя Уля полновластной хозяйкой распоряжалась на первом сборе. Народу было на нем немного, больше девчонки и ребятишки, посмирнее которые, да отличники учебы и поведения. Пробовали было снова затесаться на сбор Попик и Борька Клин-голова, но тетя Уля так их шуганула, такой крутой оборот делу дала, что они сразу оказались в канцелярии, а из нее уж направлены были заведующим таскать дрова с улицы на кухню.
На следующий сбор приглашен был артист театра, с которым вместе трудился когда-то на бирже Валериан Иванович. Он изобразил басни Крылова: и Слона с Моськой, и Волка, и даже Стрекозу, которая лето красное пропела. Сильный попался артист. Провожали его не только пионеры, но и все ребята до самого города, просили, чтобы еще приходил, и он обещал бывать у ребят почаще. И завязать «тесную дружбу» между артистами и ребятами. И даже сколотить драмкружок обещал, говоря уверенно, что дети здесь «сплошь одаренные, а Борька Клин-голова и Женька Шорников рождены исключительно для искусства».
Маргарита Савельевна теперь не ходила, а летала по детдому, и вокруг нее роились девчонки. Валериан Иванович снял выговор с воспитательницы, и она по этому поводу опять ходила плакать к тете Уле на кухню.
Ступинский вместе с Валерианом Ивановичем побывали в комсомольской организации лесокомбината, и Ступинский напрямик спросил: знают ли комсомольцы о том, что в Краесветске существует детдом? Поначалу секретарь комсомольской организации удивился, но потом все же вспомнил и подтвердил, что да, существует, да все недосуг с ним познакомиться. Тогда Ступинский еще спросил: знают ли комсомольцы о том, что их предприятие шефствует над детдомом?
Ругался потом Ступинский, а секретарь помалкивал и краснел.
Секретарь этот оказался бывшим детдомовцем, после окончания техникума добровольно приехавшим сюда с небольшим отрядом комсомольцев. Очень обрадовался Репнин этому и разговорился с парнем, как с совершенно близким человеком, и впервые подумал о том, что скоро, через год-два, и его старшие воспитанники вот так же где-то будут работать и, возможно, даже руководить чем-нибудь. Даже руководить…
Валериан Иванович как-то поинтересовался:
— Лесозаготовка скоро кончится?
— Да… скоро, — соврал Толя и заставил себя бодро улыбнуться: все в порядке будет скоро.
— М-да… — выразительно, как только он один умел, пожевал губами Валериан Иванович и, что-то прикинув в уме, добавил: — Н-ну. хорошо, хорошо, превосходно!
«Куда уж превосходней!» — уныло подумал Толя.
Вот уже несколько дней он, Мишка и Женька слонялись по городу после школы и домой являлись затемно, будто с лесозаготовок. Толя начинал склоняться к мысли плюнугь на все, заявиться в милицию с теми деньгами, какие есть, признаться в содеянном и выручить кассиршу. Но неожиданно столкнулся в городе с тремя парнями. Во рту у них коронки из блескучих оберток из-под индийского чая. Пальто у парней настежь распахнуты. Валенки загнуты до пят, брюки с напуском, широкие, грузчицкие. Парни из шайки Слепца.
Посвистывая сквозь выпадающие коронки, «слепцы» приказали деньги принести в «Десятую деревню» не позднее ближайших трех дней.
«Деменков подослал! — догадался Толя. — Ишь, гад! Со Слепцом связался! Сроки устанавливает — не позднее ближайших трех дней! Ты у меня получишь ровно! На этот ультиматум я тебя покрою матом!» — заключил Толя свою мысль строчкою из блатной песни. Однако отчаянности его хватило ненадолго.
Нужно было что-то срочно делать. Иначе…
«Иначе на нож нарвешься, кассиршу эту задрипанную не выручишь, ребятишек обездолишь. Действовать надо, действовать, и поскорее…»
Толя — к Попику. Издали подъезжает к нему, с осторожностью. А тот сразу в лоб:
— Сколько грошей осталось?
Толя замялся.
— Я же не спрашиваю, где они лежат, псих! — вспылил Попик. — Откуда знать Юрию Михайлычу, сколько надо грошей? — продолжал он, навеличивая себя. Говорил он так, будто денег у него спрятана целая куча. Осталось только их отсчитать и развязаться со всей этой канителью.
Толя и на это никак не ответил. Боялся еще раз попасть в проруху с этим Попиком. А тот его заминку истолковал по-своему.
— Продавал я кого? Продавал?
Нет. Попик никогда никого не продавал. И в любом щекотливом деле он умел остаться в тени. Натворит, нашкодит — и в сторонку. Во время драки был в четвертой комнате и ни одной царапины не добыл.
Толя все-таки сказал Попику, сколько еще нужно денег. Куда денешься? Без Попика теперь хоть пропадай: он и беда и выручка.
Попик, закатив выпуклые глаза, свистнул:
— Как вода деньги текут! — Потом подумал вслух: — Послезавтра выходной. Так, шкеты?
— Так.
— Вы все эти дни ездите по дрова. Для понта. Так?
— Так.
— А в выходной гроши как из ружья! Блин буду!..
— Не божись за каждым словом, — обрезал его Толя и пригрозил: — Лучше на глаза не попадайся, если деньги не добудешь…
— Заяц трепаться не любит! Раз Юрий Михайлыч сказал…
— Все! Тебе тоже трепаться не доведется в случае чего! — Толя не принимал сегодня шутовства Попика. Конечно, яснее ясного было — деньги Попик украдет. Не с неба ж они к нему свалятся. Но другого выхода не было. Вернее, другой не придумывался, в голову не приходил. А Попик если сказал значит, точка! Попик не вор, а фокусник-вор! Он, как стрекоза, видит вокруг и сзади даже, и нюх у него что у пограничной ищейки. Он унюхает, он изобретет! О его воровской находчивости ходили разные легенды.
Еще когда Попик был в компании «вольных людей», компания эта стала «зубарики играть». Так охарактеризовал трудное положение, в каком они оказались, сам Попик. Покупатели и покупательницы, торговцы и торговки берегли карманы пуще глаза, а мужики и бабы деревенские, те вовсе прятали деньги в самое чуткое место. Так вот в эту гиблую пору Попик сделал классный «хапок» на базаре областного города.
Попик поотирался возле мужиков, торгующих скотом, посоображал маленько и на последние гроши в скобяном ряду купил молоток у глухого старика и с десяток разных гвоздей.
С этим молотком Попик появился возле дядьки, одетого в собачью доху, в лохмашки собачьи и в шапку собачью. Дядька сельский, только что продал корову. Сидел он в молочном ряду на деревянном прилавке, муслил пальцы и пересчитывал деньги.
Попик крутился вокруг него, молоточком постукивал и насылался:
— Дяденька, купи молоток!
— На што он мне, молоток твой?
— Пригодится в хозяйстве. — Попик вокруг ходил да постукивал, ходил да постукивал.
— Цыть! — прикрикнул дядька. — Тьфу, спутал сатана! — и снова принялся пересчитывать деньги.
А Попик все ходит да постукивает, ходит да постукивает…
— Так не купишь, дяденька, молоток-то? Гляди, какой чинный молоток! и стук да стук…
— Да отвяжись ты, нечистая сила! — горестно взревел дядька. — Опять спутал!
Попик сунул на колени дядьке молоток и скучно так вымолвил:
— Ну что ж, раз ты не покупаешь молоток, я вынужден так просто гроши взять! — Цап у дядьки из рук пачку денег и ходу с рынка в базарную дыру. Дядька как ринется за Попиком, да не тут-то было! Попик приколотил доху к прилавку. Ну и…
— Держи-и-и! Лови-и!
Да разве Попика поймаешь?
Попик не взял Толю на «дело».
— С тобой вечно завалишься. Злосчастный ты, блин, что ли?
Толя намеревался возразить, но и ребята поддержали Попика.
— Правда, Толька, не ходи ты с нами. Если в случае попадемся, ты останешься, сообразишь что-нибудь насчет бабы той, да и нас выручать некому будет.
— Если уж тебе не терпится внести свой вклад в общее дело попереживай за нас и помолися за Юрия Михалыча, чтоб не дрогнула, блин, его рука, — ораторски возгласил Попик и довольный собою свалился на кровать, задрав ноги.
— Трепло! — сказал Толя. — Я в городе на центральной улице буду ждать. Здесь не вытерпеть мне, — признался он.
Снарядившаяся компания уныло поплелась в город, а Толя сидел на кровати и курил, желая, чтобы вошла сейчас воспитательница, поймала его с папиросой и мораль бы прочитала, а он бы надерзил ей, может, легче бы на душе стало.
Маруська Черепанова надернула пальтишко и ринулась следом за парнишками, пытаясь подслушать разговор. Но разговору никакого не было, и она вернулась домой ни с чем, а пока следила за Попиком и его сподвижниками, улизнул из дому и Толя.
У входа на рынок Попик почитал на воротах объявления, принюхался по-собачьи и с удручением сказал:
— Это базар?! В Крыму на хитрой толкучке у мечети и то больше. Ну, ничего, — утешил он себя и ребят. — Не тушуйся, братва! Все штаны у краесветских граждан Юрий Михалыч вывернет, но гамзу добудет!
Женька Шорников, хвативший ледяной воды из бочки, потерял голос, шептал второй день. Он взял за шапку Попика, наклонился к его уху, с тугим напряжением прохрипел:
— Ты бедных не тронь! Тырь у богатых.
Попик прочистил пальцем в ухе:
— Знаю! Тоже кое-что по литературе проходил!
Попик взглядом победителя обвел барахолку и пошел, засунув руки в карманы, и еще раз напомнил: — Обеспечить залом, если что.
Залом — это как на сплаве: куча. Только здесь не из бревен, а из ребят. Если Попика «защучат» и он побежит, нужно падать под ноги преследующих, это и будет залом.
Но залом не понадобился. Через полчаса мимо ребят, дрожащих не столько от холода, сколько от переживаний, просеменил Попик, показав глазами на выход. За воротами он вынул из кармана мятые рубли.
— Вот все. Две наколки сделал, партманет взял, а там серебрушки. Третью наколку не могу. Третья меченая. Всегда, блин, попадаюсь на ней. Попик уныло цыркнул слюной. — Попадусь, кто вас, патриётов, выручит?
Ребята приуныли, Попик задумался. Увидев в снегу «бычок», поднял его, прикурил и опять погрузился в размышления. Ему не мешали мыслить. Дососав окурок до картонки. Попик воткнул его ловким щелчком в сугроб.
— Жмем в новый универмаг!
В новом универмаге народу полно. В него ходят не столько покупать, сколько глазеть. Тамбур в универмаге двойной, чтобы меньше холода в помещение просачивалось. Попик покривился. Двое дверей, да к тому же с пружинами — это худо, но ребятам он ничего не сказал.
Парнишки околачивались возле дверей у голландки, среди покупателей и ротозеев, гревшихся здесь же. Попик переходил из отдела в отдел, скучно и зорко следил за покупателями. Наконец он «закрючил» даму в беличьей дохе, с шикарным кожаным ридикюлем и с золотыми серьгами в ушах. На руке у нее был перстень с клюквиной. Попик мысленно примерил этот роскошный перстень на свой палец и полюбовался им. Дама долго, с пристрастием смотрела в меховом отделе еще одну беличью шубу.
«Спекульнуть хочешь? — ухмыльнулся Попик в воротник пальто. — Давай, давай, увлекайся шибчее!»
В Краесветске меха были гораздо дешевле, чем на магистрали. Пушнина здесь добывается. Эту даму и облюбовал Попик, решив взять ее на шарап.
Дама отдала распоряжение завернуть шубу. Кассы в универмаге не было. Покупатели рассчитывались с продавцом. Попик обернулся, вытер нос двумя пальцами. К нему приблизились двое: Мишка Бельмастый и Женька. Остальные околачивались у дверей, на залом.
Дама отсчитывала деньги и жевала лиственничную серу. Ее суетные, костистые пальцы с кольцом, магически действующим на Попика, проворно перебирали, щупали, складывали деньги в стопку. В углах ее крашеных губ выступала пена, И всякий раз, как заканчивалась сотня, дама слизывала рыжую от губной помады пену и с прищелком давила зубом серу.
Попик все замечал, но кольцо с клюквиной просто сводило его с ума.
«Двести… двести пятьдесят… триста…» — отсчитывала дама, шевеля линялыми губами. Попик, считая, еще раз примерил кольцо на свой палец. Он даже ощутил его жесткую студеность на руке и мечтательно вздохнул: «Как вырасту, обязательно такое же куплю себе, блин я буду, если не куплю!..»
У прилавка добавилось народу.
Дама считает. Попик считает. Женька стоит сзади дамы. Он сделает ей «ласточку», если дама кинется за Попиком. Иначе говоря, упадет ей под ноги, и она полетит, как птичка, растопырив крылышки.
«…Триста семьдесят пять… четыреста… четыреста двадцать!»
Все! Больше не надо!
Но Попик чего-то ждет.
Попик все еще скучно смотрит на коричневое полупальто, аккурат его размера, и ровно бы цену разглядеть не может.
«Он же знает — нужно четыреста двадцать. Чего же тянет? Неужели скиксовал? Или на кольцо загляделся и…» — проследив за восхищенным взглядом Попика, испугался Женька, но додумать до конца догадку не успел.
«Четыреста семьдесят!» — прошептала дама.
И в этот миг денег не стало. Попик резко повернулся, накрыл стопку, и деньги будто корова слизнула языком.
Дама там и осталась стоять с прикушенным от напряжения кончиком языка, с занесенной над прилавком рукою, в которой краснела тридцатка, но еще краснело, прямо кровяной каплей светилось кольцо, которое сразу перестало интересовать Попика.
Дама еще стояла в столбняке, она еще и моргнуть не успела, а деньги ее — четыреста семьдесят рублей — уже оказались в кармане у Женьки, и он пошел от прилавка со скучающим видом на разом ослабевших ногах, ровно бы валенки оказались набиты тряпками или в них вовсе не было ног.
Мишка Бельмастый занял его место. Все шло по плану.
В стеклах двери заискрилась снежинка. Она делалась все ярче, ярче. Горело и еще много снежинок на стекле двери мелкозвездной россыпью. Но Женька целил прямым, напряженным взглядом одну среди них.
«Если не погаснет — уйду!» — загадал Женька. Снежинка вошла в полный накал, вот-вот мигнет и погаснет. Так бы и рванул дверь парнишка. А сзади?
Сзади надвигающая тишина. «Машинист не так-то прост… Машинист не так-то прост…» А как же дальше?
Забыл. Надо сначала: «Шла машина из Тамбова…» — Торопиться нельзя. «Под горой котенок спал…» — Нельзя, нельзя-а-а… Поспешай тихонько. Сейчас спекулянтка заорет. Все заорут. Все забегают.
Снежинка вспыхнула, искорка-звездочка ее взорвалась и мелкой пылыо рассыпалась.
Сзади визгом лопнула тишина, смяв ровный многолюдный гул магазина.
Дверь. Вот она. А за нею улица. На улице снег. Много снега. Снег вспыхивает и гаснет. И искры. Снег. Холод. Там хорошо.
Дохнуть бы холодом…
Попик наводил на себя. На стекле видно. Дама метнулась за Попиком. Продавщица пытается откинуть створку прилавка. Створка по голове ей. Правильно! Не лезь не в свое дело!
Дама кувыркнулась вверх ногами — Мишка устроил-таки «ласточку». Попик уходит.
Женька у двери. Вот она, скоба. Вот она… А-а-ах! Все!
Тяжелая дверь, раскатившись, поддала ему в зад и выбросила из магазина.
Визг, грохот, крики, толкотня остались позади, за дверью.
Женька пересек улицу Шмидта, завернул в барак напротив магазина и только тут вытер испарину со лба, осмотрелся, подождал, пока выровняется дыхание. В коридоре барака никого нет. Женька выглянул в приоткрытую дверь.
Из магазина вылетел Попик с шапкой в руках и бросился в сторону «Десятой деревни». Хитер! «Десятая деревня» и этот грех примет на себя. Да и не сыскать в дровяниках да поленницах возле «Десятой деревни» человека, к тому же такого маленького, как Попик. И шапку не оставил! Шапки у детдомовцев из синего сукна с крысиным мехом — заметная улика…
Из магазина выхлестывало волну за волной. Люди кричали, махали руками, хохотали, возмущались. Один по одному выныривали из толпы и тут же растворялись ребятишки из Попиковой команды.
Барак, где пережидал Женька, был со сквозным коридором, как и большинство бараков города. Парнишка вышел в противоположную дверь барака, сорванную с петель, сторожко прокрался меж дровяников и заборов на другую улицу.
Часа через два промерзший до всех жилок Женька столкнулся с Толей, который искал его по всему городу, передал ему деньги и с чувством великого облегчения побежал домой.
Теперь деньги носил по городу Толя, и они, как свинцовые, оттягивали карман, жгли бедро поломанной ноги, и пах жгли, и грудь жгли.
Сам не сознавая, что делает, куда и зачем идет, Толя внезапно очугился возле кочегарки, на бирже, и спускаться начал по крутой узенькой лестнице, но шаги его замедлялись, замедлялись, и он остановился, послушал, как гремит ломом там, внизу, в жаркой преисподней, дядя Ибрагим, как с дикой хрипловатостью напевает шуточную свою песню: «Вот мчится тройка адын лошадь…» И такая зависть разобрала Толю к этому человеку, который ничем не запятнал, не запутал свою жизнь, и никакая беда. никакие передряги и несправедливости не смогли согнуть его! И хотя чаще всего видел Толя дядю Ибрагима в смоляной копоти, въевшейся в морщины, видел его иссаженные занозами, темные от работы руки, он не встречал еще человека чище и светлей его.
Грязь к дяде Ибрагиму не приставала.
Толя покусал зубами отворот пальто, утер ладонью глаза и нехотя убрел от кочегарки. Не мог он допустить, чтоб дядя Ибрагим знался с таким ворюгой и проходимцем. Ему с Попиком да с Паралитиком только и водить компанию.
Ходил Толя, ходил и до Нового города незаметно добрел. В Новом городе он нежданно-негаданно встретил Ваньку Бибикова. У Ваньки Бибикова родители переселенцы, не зная броду, кинулись однажды в воду — без разрешения, без документов умотали из Краесветска.
В дороге их, конечно, ссадили с парохода. Ребят по детдомам: двоих в Ейск, а Ваньку почему-то в Краесветск.
Два года прожил Ванька в детдоме. И вдруг родители вернулись. Переполоху было! Шутка ли, в детдом за парнишкой родители пришли! Не каждый день такое случается. А в этом детдоме и совсем первый раз случилось.
Ваньку провожали торжественно. Дали ему всю одежду, какая полагалась, конфет и печенья два пакета. Ванька со всеми прощался за руку, будто уезжал не за Волчий лог, а невесть куда.
Мать, пришедшая за Ванькой, прослезилась, кланяться начала ребятам, тете Уле, Екатерине Федоровне, Маргарите Савельевне, Валериану Ивановичу.
— Спасибо, что сберегли парня. Спасибо, что худому не научили. Век за вас Богу молиться стану…
Ребята с шумом высыпали за Ванькой, а возвратившись, разбрелись по углам.
Ванька в выходные дни приходил в детдом. Конфет-подушечек и пряников приносил, угощал малых ребят. Одет он в новую клетчатую рубаху, галстук на нем стиран-перестиран, черные валенки подшиты, но он форсил и хвастался.
— Мама купит мне таку вот, — крутил он пальцем над головой, — кепку суконную с пуговкой. А еще летось заберут из детдома Ольку и Тишку. Им уж по катанкам купили, по новым.
— Чё фасонишь? — взъедались младшие ребята. — Подумаешь, кепка! Подумаешь, катанки! А бильярд у тебя есть? А шашки? А компот тебе дают?
Нет, компота Ваньке дома не давали. Бильярда и шашек у него тоже не было. Зато у него родители были. А родители лучше шашек, бильярда и даже компота…
Детдомовцы по гостям ходить не любили. Если и забегали к ребятам, то больше к тем, что жили повольней и победней. Такие чаще всего обитали в бараках. Выжившие в ссылке жизнестойкие кулачки сызнова разжились рухлядью, скотом, домишками и, как встарь, с надменностью обзывали пролетариями этих барачных жителей. Правда, переселенцы тоже разные.
«Того же Ваньку Бибикова взять», — думал Толя и вдруг, как по щучьему веленью, увидел этого Ваньку Бибикова. Швыркая носом, Ванька копошился в сугробе возле второй школы, добывая из снега тетрадки, учебники, чернильницу.
— Кто это сделал?
— А тебе-то чего-о-о?
— Говори, кто?
— Хмырь оди-ин! Я б ему всю маску растворожи-и-ил, да мамка не велела-а-а. Нам, говорит, смирно жить полагается. А у хмыря этого отец летчиком лета-ат! — Ванька, слизывая с губ слезы, все копался в сугробе.
— Чего еще не нашел?
— Карандаш. Отец отдере-е-от.
Толя взялся помогать Ваньке. Перерыли они вдвоем весь сугроб, карандаш не попадался.
— Хоть домой теперича не ходи-и, — плакал Ванька. — Им чё карандаш? Им ераплан не жалко-о-о…
Толя знал в лицо этого самого хмыря. Сидел как-то на одной парте с ним. Не одну учительницу довел тот до сердечного приступа. Его из школы в школу переводили. Другого давно б исключили. Уж очень знаменитый в Заполярье летчик был его папа. И пока он летал, сынок его нахальничал хлестче любого детдомовца.
Так долго копошившаяся злость вдруг толкнула Толю в школу. Он бежал по лестнице, и гнев его разрастался, будто наконец нашел он громоотвод, в который влепит весь заряд, сжигающий душу.
— Не трога-а-ай! — ревел Ванька.
Толя ринулся в школу — Ванька за ним. Толя ногой лягнул Ваньку, и тот полетел с крыльца.
— Не надо-о-о! Попаде-о-от из-за него-о-о!.. Зачем сказа-ал? — слезно раскаивался Ванька.
Толя влетел по лестнице на второй этаж и у первого попавшегося ученика спросил, где такой-то. Ему показали на раздевалку.
В раздевалке задастый парень в голубой шикарной курточке с «молнией» обрывал вешалки. Брал в охапку три-четыре пальтишка, наваливался на них, и вешалки, всхлипнув, отрывались.
Раздевалка почему-то сооружена на пожарной площадке, почти под потолком. К ней вела крутая узкая лестница.
Внизу испуганной стайкой толпились школьники. Толя влетел в раздевалку, взял за куртку с «молнией» парнишку и притянул к себе. На него с круглого, румяного, видать, никогда не битого лица с вызовом и смятением смотрели два сытых глаза. Он улыбался Толе, как своему. Цинга не тронула этого мальчика, все зубы у него на месте. У него всегда были чеснок, лук, свежие овощи, а может, и фрукты.
Толя расчетливо, изо всей силы головой ударил в улыбающуюся морду, услышал, как хрястнуло что-то переспелым арбузом, и столкнул парня с лестницы. Сынок пошел не в папу, летать не умел. Он падал с лестницы с грохотом и бряком. Приземлился грузно и, почувствовав на губах кровь, взвизгнул с поросячьим ужасом.
В конце коридора распахнулась дверь учительской, и оттуда помчались на шум преподаватели.
Толя скатился по брусу лестницы, успел еще раз пнуть катающегося по полу летчицкого сыночка, и пулей из школы.
На улице он схватил за руку Ваньку и умчал за собою через улицу в магазин.
Они смотрели в окно. Толю колотило. Ванька ежился от страха, думал, что их сейчас же арестуют.
Минут через пять из школы под руки вывели побитого сына летчика две учительницы. Они зажимали ему рот платком, наклонялись к нему, гладили.
Толя проводил их взглядом, «Выслуживаются перед таким… А зубы ему железные вставят, а то и золотые…»
— Смотри у меня, ни гугу! — погрозил он Ваньке пальцем…
— Могила! — заверил его оживающий Ванька и восхитился: — Хорошо ты его, по-нашему…
— Ладно, чапай домой, еще влетит от матери. Карандаш я тебе свой отдам. Приходи.
И Ваньку проводил Толя взглядом до угла, пощупал деньги в кармане, сжал их, стиснул в кулаке.
Скоро он остыл, успокоился, бродил по городу.
Опять болела нога. «И чего это она болит сильнее, когда на душе муторно? Ноет и ноет, будто каменными пальцами на перелом нажимают. День какой-то выдался — не разбери-бери. Еще Ванька ровно с крыши свалился! А там домой придешь — цап-царап и… „Гуляй со мною, миленький!“. Но будь что будет. Не могу больше один…»
Дома его ждали. Никто из ребят не попался. Единственного милиционера, кинувшегося за Попиком, тот привел к «Десятой деревне». Милиционер посвистел, посвистел и отступил за подмогой.
Все тихо дома. Никто ничего не знает. Женька и Мишка явились домой совсем недавно, будто с лесозаготовок.
Отпустило. Стали вспоминать, похохатывать. Голос у Женьки сипел пуще прежнего, перекалился, видно, голос. Бывает же! Говорят, у иных людей от страха живот слабеет или сердце разрывается, а у этого вот горло распаялось.
И хотя в комнате все ребята были в сборе, хотя они смеялись, радовались удаче, Толя нахохленно сидел на кровати и чувствовал себя будто на отшибе. Одиноко ему было сегодня и дома.
— Ну, ты чё, патриёт? — подтолкнул его Попик. — Не лови мух ноздрями, работа сделана чисто.
— Зачем лишние деньги взял? — спросил Толя, как будто могло это иметь какое-то значение.
— А я на харю той мымры накинул полсотенную, — хохотнул Попик, противная харя у ей, блин!
«Ох и хитрый! Ох и пройдоха!» Толя отделил от пачки полсотенную и протянул ее Попику.
— Твоя. Бери, — а сам с запоздалой раскаянностью подумал: «Отдать надо было Ваньке эту полсотенную. Вот бы Попик-то завертелся тогда!»
Взвесив на ладони пачку денег, Толя хотел сказать торжественно, как в книжке: «Клянусь, больше никогда не возьму чужого! Клянусь быть…» Но сказал хрипло и коротко:
— Все!
Ребята поняли его. Женька нервно забегал глазами и просипел:
— Я тоже все! Завязал!
Мишка Бельмастый ничего не сказал. Его если не втягивать в «дело», сроду ничего не возьмет, но за друзей готов страдать и хоть на казнь пойти. Попик захихикал, башку свою круглую почесал:
— А я не знаю. Гад буду — не знаю, — и перевел щекотливый разговор на другое: — Кто в милицию с грошами пойдет?
— Я и Мишка, — ответил Толя. — Женьке нельзя. Женька слабый.
— И мне нельзя, — заверил Попик с сожалением. — Меня там знают. Вам хуже будет, если пойду. — Он еще почесал голову и посочувствовал: — Ох, блин, и дадут вам! Выдавать вы никого не могите, — как о решенном заранее, сказал он, — значит, дадут! Но Бог терпел и нам велел. Юрия Михалыча вон как лупцевали. И ничё — здоровый, жизнерадостный ребенок! Так говорит обо мне Марго Савельевна.
— И нас этим не удивишь, тоже биты! — хорохорился Толя. — Правду, Мишка?
Мишка ничего не ответил.
Попик еще поюлил маленько, потрепался, затем неслышно утащился в раздевалку, выждал момент и выскользнул из дому. Должно быть, в дежурный магазин подался, «свою» полсотенную расходовать и те рублишки, что вытащил на базаре и прикарманил. А может, к Деменкову утянется. Попик у всех «шестерит» помаленьку и в то же время вроде бы ни от кого не зависит. Такие оборотистые люди, как Попик, умеют устроиться в жизни, в любой.
Глава 13
В детдоме и без того было полно событий, интересных и разных, а тут еще приехал на коне профсоюзный дяденька Махнев.
Этого дяденьку, Махнева Авдея Захаровича, прислали в детдом шефы как представителя от Краесветского лесокомбината. Где-то за полмесяца до смерти Гошки Воробьева и прочих событий появился он, сухонький, весь изморщенный, как будто в печке его пекли. Был он весь такой домовитый и усатый, в длинных валенках, смятых под коленями, что ребята сразу же отнеслись к нему, как к деду, и потешались над его наивной простотой.
Он осмотрел жилье детдомовцев, похвалил за порядок, порадовался тому, что у каждого по две простыни, и сказал, что сам он сроду не спал на двух, чаще совсем без простыни обходился.
Затем Авдей Захарович пошел в кладовую, строго проверил кухонную раскладку. Тетя Уля и Валериан Иванович послушно отчитывались, подавали ему разные квитанции, накладные. И хотя все ребята знали, что ни тетя Уля, ни Валериан Иванович никогда не возьмут себе лишней крошки, все-таки переживали за них — вдруг недостачу обнаружит представитель от шефов? Вон как насупился, усищи растопырил. Так и норовит углядеть непорядок.
После проверки материальной части дяденька Махнев попросил выстроить ребят в коридоре. Кастелянша, тетя Уля, Маргарита Савельевна и Екатерина Федоровна бегали по комнатам, спешно меняли рубахи тем, у кого они уже запачкались, и заставляли надеть пионерские галстуки тех, у кого они были.
Все быстро, с любопытством и шумом построились.
— …р-р-рна! — властно пророкотал Валериан Иванович команду и, ладно ударив валенком о валенок, стал по-военному докладывать Махневу о том, что дети такого-то детдома в количестве таком-то выстроены, а для чего — не сказал: не знал, должно быть.
Махнев, в самокатных валенках с кожаными запятниками, стоял, оттопырив руки, и с чувством большого удовольствия и достоинства принимал рапорт.
В это время появился в детдоме Ступинский — вести занятия по военному делу, которые проводил он теперь еженедельно. Он замахал руками, когда на него обратили внимание, — дескать, продолжайте, продолжайте.
— Ну, как живете, ребята? — спросил тенорком Махнев, как будто и не видел еще ничего и не знал.
— Мирово! — последовал дружный ответ.
— Как кормят?
— Мирово!
— Какие у вас отметки?
— Мировые!
Валериан Иванович поднял глаза к потолку, спрятал улыбку.
— А слушаетесь ли старших?
— Слушаемся!
— Хорошо слушаетесь?
— Хорошо слушаемся.
— Почему тогда приломали свои музыкальные инструменты?
— Они сами приломались.
— Как это сами? Они что, самоубивцы?
— Ага, харакирятся, как самураи…
Строй шевельнуло смешком.
— Как самураи, значит? Ловко! Денежки наши трудовые играючи переводите? Ловко! Ну ладно — подрастете, узнаете, как эти денежки добываются. А пока, конечно, я попрошу тама, — показал Махнев за спину, чтобы вырешили средства от нас, шефов, на музыкальные инструменты, на постельное белье, и само собой, на всякое другое имущество…
— Еще на коньки и на лыжи попросите тама! — крикнули Авдею Захаровичу из строя.
— На коньки и на лыжи? — Авдей Захарович что-то прикинул в уме. Ладно, попрошу, — и наставляюще продолжал: — Вот видите, как государство заботится о вас! А вы в распыл добро пущаете. Учитесь как следует, пока возможность есть такая. Не фулюганьте, старших слушайтесь.
— Постараемся!
— А какие жалобы будут на обслуживающий персонал, на заведующего тама либо на кого — говорите хоть теперя, хоть потом по отдельности. Мы проведем работу, само собой, разъясним. — Махнев тут же посуровел. — А в случае чего и привлекем, потому что мы, шефы, вроде как бы ваши совецкие родители.
Жалоб не было.
Был обед. Хороший обед — тетя Уля тоже не ударила в грязь лицом.
Махнев обедал вместе со всеми и опять хвалил ребят за порядок и тишину. Дивился даже: дома, мол, двое-трое «гавриков», а за столом иной раз такой ералаш подымут, хоть пори их, а тут сотня с лишним, и все идет чередом, все чинно, тихо, мирно. Особенно понравились Авдею Захаровичу дежурные в чистеньких передничках, такие проворные, такие вежливые.
Ступинский во время обеда сидел с Валерианом Ивановичем в комнате и дивился:
— Н-ну, прокураты! Н-ну, ловкачи!
Валериан Иванович хмуро усмехнулся:
— Мы еще и не такое умеем… М-да!
Он озабоченно прошелся по комнате и сказал, что позвал Махнева совсем не для парада и веселья. Авдей Захарович заведует столярными мастерскими, он же и член завкома — власть не малая. И нельзя ли с его помощью на лесокомбинат летом хотя бы некоторых ребят приспособить — в мастерские, на биржу — вкус бы им к труду прививать надо. А то они летами вовсе дичают от безделья.
— Я тоже думал об этом, — подхватил Ступинский, — да все недосуг было с вами посоветоваться. Беседовал как-то с директором школы на этот счет, он руками и ногами замахал: мол, что вы, что вы, отвлекать ребят нельзя, они и без того учатся плохо, школу назад тащат.
— Положим, учатся они не хуже других, — обиделся за детдомовцев Валериан Иванович.
— Но и не лучше, — отметил Ступинский. — Кроме того, директор школы высказал опасение, что орлы твои, если их допустить в столярку, стащат инструмент или спалят ее, покуривая тайком.
— Очень это плохо, когда работу с детьми ведет человек, заранее думающий о них как о недругах. Очень плохо! Из-за этого у нас вечные нелады. Иначе мы бы совместно со школой давно бы уже все наладили и ребят приспособили бы куда надо и как надо. А директор лишь только табеля отдаст мне, вздохнет, как поп после обедни — слава те, Господи, отслужил! До осени избавился от детдомовских мучителей… Я вот о чем попрошу, — прислушавшись на секунду и поняв, что обед закончился, добавил Репнин. — Пожалуйста, поговорите сами с Махневым. Ребята после обеда добьют его, вот увидите, чуткостью добьют, и о деле мне с ним, с этим мил-человеком, не дотолковаться. Занятие я проведу сам. В свое время мосинскую винтовку изучил, как «Отче наш».
— Как с лесокомбинатовскими комсомольцами?
— Приятным пареньком оказался этот секретарь. Напрасно вы его тогда распушили. Он без году неделя на лесокомбинате. После праздника они придут к нам. Думаю, мы найдем общий язык. Буду просить, чтобы Зину Кондакову торжественно, при всех воспитанниках приняли в комсомол. Школа и мы рекомендуем.
— Затем пусть комсомольцы старших ребят возьмут в свои цехи, пусть к работе приучают и к дисциплине, а потом, глядишь, и в свою организацию примут, — посоветовал Ступинский.
— Воспитанники мои сначала одно дело должны сделать, — хмуро заметил Валериан Иванович. — Пусть сначала женщину из тюрьмы вызволят. А пока Зина Кондакова только и достойна…
— Ну, ну, вам виднее.
Опасения Валериана Ивановича подтвердились. После «мертвого часа», в который, конечно, ребята и не подумали спать, организовался хоровод. Девчонки и парнишки, коих в другое время ни в какой хоровод не загнать, взявшись за руки, ходили кругом и, чтобы потрафить гостю, дружно отрывали:
Взвейся, знамя коммунизма,
Над землей трудящих масс!
Нас ни Бог и ни святые
Не спасут нас в этот час!
Только красные герои!
Только красные орлы!
Только красные орлы!
Эх, пролетарские сыны!
Умиленный чутким приемом и песней, которую Авдей Захарович пел в гражданскую войну, еще в отряде Щетинкина, он ушел из детдома под вечер и, пожимая руку Валериану Ивановичу, чуть было не прослезился.
Валериан Иванович любезно провожал Авдея Захаровича до дверей и только поражался: «Вот чертенята! Вот довели ведь!..»
А ребятня, сдерживавшая себя целый день, начала резвиться так, что пыль столбом поднялась. Борька Клин-голова и еще человек пять, спровадив шефа, ходили на руках по коридору, а остальные орали, бегали. И никакого удержу на них не было. Они довольны собой: наякорили профсоюзного дяденьку Махнева, коньки выпросили…
Ступинский, с непривычки оглохший от шума и гама, высказал шутливое сочувствие заведующему детдомом, сказав, что ему полагается надбавка зарплаты за «вредность» и выносливость, и тут же кинулся догонять Авдея Захаровича.
Настиг он его уже у Волчьего лога. Посмотрел сбоку на довольнехонького Махнева. Пристальнее приглядевшись, заметил: в глубине его морщин вместе с радостью залегла сумрачная скорбь. Должно быть, Авдей Захарович думал о детях, которые не дожили до этих дней.
Махнев приехал сюда с головным отрядом добровольцев и какое-то время возглавлял главную и важнейшую в то время силу — вел строительство жилья, а потом уж, когда полегче сделалось и организовались лесозавод, промучасток, лесобиржа, снова подался к своему любимому столярному ремеслу.
— Какое ваше впечатление, Авдей Захарович? — мотнул головой в сторону детдома Ступинский.
— Будто не знаешь? Какое же оно может быть, коли сироты прибраны, обуты, одеты!.. Это, брат, хоть кому поглядеть надо, хоть морякам, которые исчужа приплывают, хоть нашим нытикам, чтоб понимали, за что боролись…
— Ребята как?
— А что ребята? Ребята как ребята. Секачи и фулиганишки, само собой. Но уж уважительны! Уж обходительны!..
— Это первое впечатление, — осторожно заметил Ступинский. — Они ведь сегодня дурака валяли. Немножко надували вас…
— Ну-у? Хотя что ж! Как не надуть, коли человек с ветра и этот, как его, уполномоченный, еще деньги на коньки раздобыть может. Во дьяволята! покрутил головой Авдей Захарович. — А песню-то, песню рванули, аж гвозди в рамах разгинались! Но опять же, ты не надувал, может, взрослых? Или должность твоя нонешняя не велит такое припоминать?
— Я ведь тоже мальчишкой был, как все.
— Вот то-то и оно-то. И небось, как все мы, сразу в работу, в труд, само собой, и некогда тебе ни поиграть, ни порезвиться, чтоб кровь в жилах ходила, чтоб вспоминать потом детство в радость…
— У них она, кровь-то, уж слишком… Надо бы поохладить, — возразил Ступинский и, перевалив через лог, продолжал: — Жизнь этих ребят не будет идти вечно за спиной у государства. Как шестнадцать стукнет, так и до свидания — добывай себе хлеб! А как его добывать? Дело-то к рукам не пристало. Ничего не умеют. Воровать, правда, ничего не скажешь, мастера. По карманной тяге есть такие чемпионы — закачаешься!
Разговор этот закончился тем, что Авдей Захарович дал слово подзаняться ребятами, «узясти их в оборот». И вот прикатил на длинношерстной лошадке. Ребята повыскакивали на улицу кто в чем — рады Авдею Захаровичу. А Махнев строг и неприступен, гаркнул на тех, кто к коню полез, пальцем погрозил, велел мешок в дом занести. В мешке забрякало, застучало. «Инструменты», — вмиг догадались ребята.
Махнев приказал откатить бильярд с середины коридора, брезгливо отшвырнул толстые обломки киев.
— И не совестно таким поленьями играть? Руки-то где у вас? Кто коня пойдет распрягать? Само собой, к саням его надо приставить, чтоб сено ел.
Трое парней ринулись распрягать коня, давай дугу выдергивать. Шатать ее давай. Дуга шатается, конь шатается, но ничего не выпрягается. Тогда еще пятеро парней на выручку пришли — и тоже без всякого сдвига.
Махнев инструмент выкладывал на стол и глазом в окно косил. Не выдержал, засеменил на улицу и там молча, внушающе дернул за ремешок внизу хомута — супонью называется, и вся сбруя, ровно бы с облегчением вздохнув, сразу расслабла. Конь, покорно стоявший, тоже облегченно вздохнул и пошевелил хвостом. В три минуты распряг Махнев коня, приставил его к саням головою, набросил на спину коню телогрейку и прикрикнул на онемевших от восторга парней:
— Деньги с кассы узясти — это у вас само собой, а вот чтоб дело простое справить — тут вас нету!..
— Подумаешь, конь! Мы на машинах будем! «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор!»
— И где этот пламенный умник?! — вскинулся на голос дяденька Махнев.
Но ребята затопали и, чтобы подразнить старика, нахально запели Женькой изверченную песню:
Все выше, и выше, и выше!
И вот уж коленки видать!..
А в коридоре ребята тем временем расхватывали фуганки с золотистыми, блестящими колодками, напарьи, стамески, ножовки. На столе бобылем остался молоток. Хитровато улыбавшийся Махнев покуривал трубочку с кривым мундштуком и ничего не говорил.
Покурив, он выколотил трубку о подоконник, сунул ее в кисет и попросил принести кирпич.
Кирпич ребята принесли из кухни, весело ожидая новой затеи.
И не обманулись. Махнев взял молоток, одним махом развалил кирпич надвое, вынул из кармана пару гвоздей и велел вбить их кирпичом в стену. Гвозди, как на грех, попались тонкие.
Махнев был терпелив. Почти все ребята и даже девчонки поколотили по гвоздям, и чем дальше, тем хуже шло дело — гвозди гнулись в три-четыре колена.
Авдей Захарович взял со стола молоток, выпрямил один гвоздь и в три удара вогнал его по шляпку в стену.
— Так какой, выходит, главный инструмент?
— Молото-о-ок!
— Само собой. С молотка начинается любая работа. А вы его оставили без внимания. То-то! И все-таки молоток — инструмент не самоглавнейший. Есть всем инструментам инструмент! Кто он такой?
— Шерхебель! — с немалым трудом выговорила Маруська Черепанова.
— А еще галтель! — вспомнил еще более мудрое название Борька Клин-голова.
— Сам-то ты галтель! — срезал Авдей Захарович Борьку Клин-голову, памятливого парнишку… — Ты погляди на нее, на галтель-те. Вся у ей полировка новая, не стертая — значит, употребляется она редко. Желобки ею наводят, фаски иной раз снимают и прочее.
Замолкли ребята, призадумались, не знают, какой главный инструмент.
Валериан Иванович, наблюдавший со стороны за всем этим занятием, потихоньку в кухню упятился. И там весь заколыхался от смеха.
— Все, Ульяна Трофимовна, — заговорил он, вытирая согнутым пальцем глаза. — Придется нам потесниться, перетащить продукты в одну кладовку, а в другой будем верстаки ставить. Авдей Захарович намерен всерьез за наших чад взяться.
В коридоре меж тем все еще стояла глубокая тишина. Здесь напряженно работала мысль. Кто-то, истомленный вконец, не выдержал и заныл, умоляя дяденьку Махнева сказать, какой все-таки главный инструмент.
Авдей Захарович еще покурил, порасправлял мундштуком усищи, сдвинул морщины на лбу поднятыми бровями и с грустноватым выходом сообщил, что главнейший инструмент — это голова. Подождал, пока пройдут удивление, досадливые усмешки, шевеленья, стуканья, и напрямик заявил, что этим инструментом ребята пока владеют слабовато.
— Ну уж… — начал было кто-то, но Авдей Захарович не внял голосу.
— Вот расхватали инструменты, в драку расхватали, само собой, а что имя делать, с какой стороны за них браться, и не знаете. Не знаете ведь? То-то и оно-то! И получается что? Учить вас надо — получается! А допрежь чем учить, я с вас стружку сыму и потребую уважительности к труду и, само собой, к инструменту. Кто этого не желает — катись к едрене-фене сразу.
Хвостом таскались за Махневым ребята, в рот заглядывали, со всех ног бросались исполнять любое его задание или просьбу.
Махнев опять пообедал вместе с ребятами, смел крошки со стола в ладонь и высыпал их в тарелку. Младшие сделали то же, и он похвалил их за это. И к случаю рассказал ребятам, многие из которых выросли здесь и не видели пашни, про хлеб, как его сеют, как он родится и какие голодухи бывали на Руси. Чтоб не пропало у ребят настроение от гнетущих рассказов про голод, загадал им загадку: «Кто у плотника и, само собой, у столяра главный враг?» Томить не стал и тут же выдал разгадку: «Главиеющий враг плотника и, само собой, столяра — сук!»
— Плотник, ребята, когда умирал, знаете, что сказал? «Всем прощаю, но суку не прощу!» — Махнев поднял при этом палец с кривым, порубленным ногтем и тут же смешался, поняв, что ребята постарше, которые уловили неглубоко лежавшую двусмысленность каламбура, завтра в школе удивят кое-кого.
К вечеру кладовка была вымыта, окно в ней протерто, инструменты водворены туда и закрыты под замок. В следующий выходной день Авдей Захарович обещал привезти с биржи пиломатериал на верстаки.
Уже затемно провожали ребята Авдея Захаровича из детдома. Кучей валились в сани, смеялись, кувыркались, опять рванули песню, но на этот раз уже не понарошку, а настоящую, от души.
В тот же вечер в столовку зашел Валериан Иванович и сказал, чтоб никто после ужина не расходился. Ребята ждали объявления насчет коллективного похода в театр или на лыжах либо головомойку за плохую успеваемость в школе, а может, нового допроса насчет денег из бани. Но вышло совсем другое.
— Все поели? — спросил Валериан Иванович.
И когда получил утвердительный ответ, приказал поставить на середину стол и накрыть его. Стол накрыли красным полотном от старого лозунга, принесли графин с водой и стакан на блюдечке. Ожидалось торжество. Ребята, гадая, вытягивали шеи, шушукались.
— Прошу сюда! — обратился заведующий к Паралитику и показал на свободный стул рядом с собою.
По столовой прокатился гул изумления, и все зашикали друг на друга, а те ребята, что потихоньку улизнули из столовой, вернулись обратно. Паралитик зыркнул по сторонам, глаза его сузились, зрачки располовинило короткими ресницами.
— Не пойду! — отрубил он и для верности утвердился на костыле у стены.
Валериан Иванович уже хорошо знал натуру этого парня и, сняв очки, усмехнулся:
— Боишься?
Паралитик малость повременил, тоже усмехнулся и, громыхнув костылем, отодвинул стул, уселся, пригладил ладонью волосы. Они росли у него вразброс: на висках — вперед, на макушке, как на кочке, а надо лбом вроде козырька. Он попытался застегнуть верхнюю пуговицу, и пуговица как раз на месте — этакая редкость на детдомовских рубахах, но опомнился и застыл в надменном ожидании.
Валериан Иванович, искоса наблюдавший за Паралитиком, заговорил, показывая на него снятыми очками:
— Ребята, этому человеку через десять дней исполняется шестнадцать лет. Я говорю — человеку, потому что ни имени, ни отчества, ни фамилии своей он не помнит и ходит под вымышленной фамилией, с кличкой, как… как не знаю кто. А человек должен иметь свое имя. Так я говорю?
— Та-ак!
У Паралитика отвалилась челюсть, он пошевелился на стуле и уронил костыль. Подняв его, начал испуганно озираться по сторонам. Желтая кожа на его лице взялась пятнами.
— Последняя фамилия этого человека — Подкобылин.
Столовая раскололась от смеха.
— А имя — Игорь.
Новый всплеск хохота.
— Скажи нам, Игорь, какие еще у тебя имеются имена и фамилии?
Ребята перестали хохотать, двигаться, сделалось тихо в столовой. Паралитик встал, приладил костыль плотнее под мышкой, из-подо лба недоверчиво посмотрел на Валериана Ивановича — не покупает ли? Но заведующий ждал, по-доброму поощряя его кивком головы. Паралитик кашлянул, проскрипел:
— Поднарный была фамилия. — Лицо Паралитика стало сплошным бледно-желтым пятном. — Это потому, что я, должно, под нарами родился.
Придурок какой-то хихикнул и тут же затрещину огреб. Тетя Уля, облокотившись на раздаточное окно, курила, глубоко задумавшись о чем-то своем. Маргарита Савельевна прижала руки к груди и жалостно смотрела на Паралитика.
— И еще была! — уже со злым вызовом выкрикнул Паралитик так, что тетя Уля вздрогнула и очнулась, а Маргарита Савельевна еще плотнее прижала руки к груди. — Еще была фамилия — Курощупов — кур я мотанул как-то у дяди одного, и еще была — Слабобрющенко. Выкидыш… И еще была…
— Довольно, довольно! — Валериан Иванович взял Паралитика за руку, видя, что того вот-вот хватит припадок, и усадил обратно на стул.
В столовой тишина и ожидание.
Паралитик уткнулся подбородком в протертую подушечку костыля. Перекладину костыля по-птичьи цепко держала его здоровая рука, а высохшая, как восковая, висела вдоль спинки стула.
«Да-а, инвалид. В такие годы инвалид!» — горестно покачал головой Валериан Иванович. Он тут же подивился, что и сам он, и ребята привыкли не замечать, не считаться с тем, что это и в самом деле больной, изувеченный человек. Стало быть, есть у парня силенка, коли он сумел жить наравне со всеми, не выказывая страданий и неполноценности своей.
— Вот видите, — с тихой грустью молвил Валериан Иванович, — как неуважительно отнеслись товарищи к товарищу своему и приучили его так же относиться к себе. А ведь ему нужно паспорт получить, гражданином становиться. Может он без фамилии жить и работать? — Валериан Иванович нарочно сделал упор на слове «работать», хотя уместней было сказать «лечиться».
— Не-ет!
— Значит, что нужно сделать?
— Придумать хорошую.
— Правильно. Чтобы человек ушел из детдома с именем и не стыдился бы его, чтобы и жизнь ему начинать самостоятельную, — Валериан Иванович сделал многозначительную паузу, — честную было бы не стыдно. Какую же фамилию? А может, ты сам уже придумал?
— Не-е, — шевельнул тонкими губами Паралитик. — Я не придумывал никогда. Мне все другие, друзья…
— Удружили, нечего сказать! — Валериан Иванович легонько хлопнул ладонью по столу, требуя полного внимания. — Что ж, ребята, подумаем за него, уже в последний раз.
Посыпались фамилии со всех сторон, сначала серьезные: Иванов, Петров, Анкудинов, Замятин, а потом начали ребята подсыпать фамилии озороватей: Чашкин, Ложкин, Кастрюлин…
Валериан Иванович догадался, чем все это кончится, и хотел уже остановить поток предложений, но в это время подняла руку Маргарита Савельевна и попросила слова.
— Поскольку обсуждаемый нами товарищ паспорт будет получать в городе Краесветске, то есть как бы вторично родится здесь на свет как человек, как настоящий уже человек и советский гражданин, я бы лично предложила и фамилию ему — Краесветский. Это здорово соответствует…
Дальше говорить воспитательнице не дали.
— Ур-р-ра!
— Мир-рово!
— Ай да мы, спасибо нам!
— А имя? Имя?
Валериан Иванович поднял руку, подождал тишины:
— Имя пусть сам выберет. Если захочет оставаться Игорем, пусть остается. Игорь — это древнее русское имя. Был даже князь.
Шум, гам, возня — говорить дальше не было смысла. Народ взбудоражился. Ребятишки, довольные собой и всем на свете, двигали столы и стулья, дружно убирали и мыли посуду, готовились смотреть кино и как будто давно уже забыли о краже, о школе, о городской шпане и о том, что сироты они. Только детям спасительно дано все запоминать и все забывать.
Паралитик незаметно исчез из столовки, кино не дождался.
А кино в детдоме особенное. Не кино — потеха, Шефы из лесокомбината еще на Новый год подарили детдому узкопленочный киноаппарат, чтобы ребятишки не развлекались своедельным кино, на которое изводили обложки учебников, вырезая из них даже и не совсем приличные фигурки.
Аппарат этот вместе с медикаментами и другими ценчыми грузами был доставлен с магистрали самолетом. Но в кинопрокате Краесветска оказались всего две узкопленочные ленты: «Дубровский» и «Джульбарс». Вот их-то с Нового года и гоняет Глобус, мозговитый парнишка. Башка у него круглая, большая, ума в такую башку много вмещается. Поначалу Глобуса в детдоме все, проходя, щелкали по голове. Гулко откликалась голова на щелчок, а Глобус ходил по детдому, шарахаясь. Потом все наладилось — щелкнут Глобуса, а он стукнет кулаком в ответ. Подействовало. Один по одному начали окорачивать руки парнишки.
Киноаппарат Глобус освоил в один дых: сходил в кинотеатр, потом привел в детдом киномеханика, и тот ему втолковывал, что к чему. Да и как же иначе-то? Глобус — это Глобус! Один раз, говорят, он решил такую задачу, какую сам Изжога решить не мог.
Подряд раз десять посмотрели ребята ту и другую кинокартины — надоело.
Тогда Глобус внес «мысль» в искусство — стал показывать ленты задом наперед.
Всем нравилось, как скачет задом конь издалека к публике, а морды нету. Или сперва снаряд разорвется, а потом в пушку дым обратно залетает.
Толя заглянул в столовку, постоял у костяка. Собака Джульбарс прыгала не со скалы, а задом на скалу. Диверсант-басмач гнался за пограничником, пятясь спиной к экрану. Все наоборот, все непонятно, бессмысленно, все шиворот-навыворот.
Публика визжала от восторга, ногами топала. Наташка сидела на полу, хлопала в ладоши и трясла бантом. Аркашка пристроился рядом с нею на маленьком стульчике, заливался, забыв обо всех бедах. Здесь же торчала тетя Уля. Тоже дивилась потехе, била себя по бедрам: «Придумают же! Придумают же!..» — и хохотала старая.
«Чего смеются?» — пожал плечами Толя. Но он не осуждал ребят. Ведь и сам он еще совсем недавно смотрел с удовольствием такое вот дурацкое кино.
Теперь оно ему уже не интересно.
После той картины или по каким-то другим причинам стал он относиться ко всему вокруг иначе. И на ребят глядел уже совсем по-другому. Они сделались ему немножко чужими. Иногда Толю еще тянуло в кучу, подурить, повозиться, но что-то уже сдерживало, тормозило дурость и прыть.
Толя погонял шарики по бильярду, загнал их в лузы. К лузам девчонки когда-то успели сплести сетчатые мешочки. А когда — он не заметил.
Неторопливо подстрогал разбитые кии и не знал, что бы еще сделать. Читать? Но сегодня и читать не тянуло.
Как всегда незаметно, разом возникла Маруська Черепанова и поманила Толю к себе пальцем. Он нехотя наклонился.
— То-о-олька! — зашептала ему Маруська на ухо. — А Паралитик в уборной лает…
— Ты опять?
— Честное пионерское, лает! Вот те крест!
Толя побежал в уборную: не хватил ли припадок парня — разобьется. Подергал дверь — закрючена. Стал дергать сильнее. Послышался постук костыля. Из-за двери срывающийся голос послал всех с крутика. «Паралитик плачет», — догадался Толя.
— Придумаешь, задрыга! — набросился Толя на Маруську. — А ну, шагом-арш кино смотреть! Все бы подслушивала да поднюхивала…
Маруська шмыгнула носом-фигушкой и повела глазами на уборную.
— Я кому говорю? — повысил голос Толя.
И Маруська нехотя убрела в столовку.
Из комнаты девчонок в дверную щель просвечивало. Толя заглянул туда. Зина Кондакова, сидя на своей чистенькой кровати, вязала маленькую варежку (для малышей старшие девочки кое-что начали делать сами) и одновременно читала книгу, косо лежавшую на подушке, тоже очень чистой, заметно выделявшейся среди других.
Зина уже примеривалась к самостоятельной жизни.
— Как это ты умудряешься? — удивился Толя и невесело передразнил кого-то из учителей: — «Чтение — это тоже творческий процесс и относиться к нему надо со всей серьезностью», — а ты плетешь чего-то и читаешь!
Зина едва заметно улыбнулась и закрыла книгу. Увидев, что это учебник по радиотехнике, а не роман про любовь, Толя удивился еще больше.
— Плетешь! Не плету, а вяжу варежки Наташке. И готовлюсь помаленьку. Валериан Иванович учебники достал. Я ведь через полтора месяца паспорт получаю… — Она глубоко, протяжно вздохнула. — Хочет он пристроить меня в гидропорт, на радистку учиться. А я как подумаю, что надо уходить из дому насовсем, к чужим людям, так мне страшно, так страшно! А ты когда? Через зиму?
— Ага.
— Быстро пролетит.
Толя ничего не сказал на это, взял учебник по радиотехнике, полистал его: схемы, таблицы, азбука Морзе — все это трень-брень, все это не для него. А что же для него? Что?
— Правильно как-то у тебя все идет, Зинка… И в школе, и везде. — Сам себе Толя уже опротивел — запутался он и не знал, как выпугываться, чего делать, и в его словах была неподдельная зависть.
Но Зина не поняла или не хотела понять и принять его слов.
— Да уж куда правильней, — нахмурилась она.
Уставший от тревог Толя и без того был туча тучей, а сейчас вовсе попасмурнел. Но Зина как будто не замечала, в каком он состоянии, тревожила и его и себя вопросами.
— Понимаешь, вот ерунда какая. Вот все мы живем вместе, учимся в одних школах, что безродные, что с родителями. И мы уравнены с ними. Во всем. Хорошо это? — Толя молчал, слушал с нарастающим интересом. — Сначала хорошо, когда все дети. А потом? Потом нехорошо. Да и сначала тоже не очень хорошо. Чего я говорю! Будь у Гошки с самого начала родители, дали б они его изувечить?
«Но у тебя вон были родители, а какой толк?» — хотел возразить Толя.
— Ерунда! Прямо ерунда! — глядя поверх Толи, тихо и раздумчиво говорила Зина. — Они могут жить с родителями, те их вырастят, определят на работу. Поддержат, когда трудно. А тут отчаливай на все ветры со справкой на жительство, начинай с заботы о том, чего завтра пожрать.
Зина прервалась на секунду и, разложив на коленях вязанье, погладила его, заперебирала спицами.
Толя сидел понурившись. Зина добавила ему мути в душу. А он-то шел сюда, безотчетно надеясь успокоиться.
— Не зря, видно, люди говорят — своей судьбы не обежишь, — помолчав целую минуту, добавила Зина.
— Значит, не обежишь?
— Не обежишь, — как эхо повторила Зина. Неуловимо быстро ходили спицы у Зинки в руках.
Она заканчивала детскую варежку.
«Я девчонка совсем молодая, а душе моей тысяча лет…» — глядя на Зину, вспомнил Толя слова затасканной песни и встал, ткнув кулаком в аккуратненькую беленькую подушку, которая раздражала его самой этой непривычной аккуратностью и белизной.
— Черт с ней, с судьбой. Судьба, рок, провидение — все это как в книжках. Я последнее время дотумкивать начал, что не по книжкам жизнь-то идет. Вон… — Толя чуть не проговорился о Валериане Ивановиче, о том, что он в белой армии был, а теперь их воспитывает, но Зинка, наверное, уже все это знала, а ей и без того…
— Ты чего кино-то потешное не смотришь?
— Ну его! — отмахнулся Толя. — Башка у меня гудит. Все думаю, как ту бабу-разиню выручить.
— Чего же ты один за всех? У нас ведь закон — все за одного!
— Болтаешь ты сегодня, — буркнул Толя. — Один за всех. Кабы один…
— Вот посадят тебя в кутузку, — с усмешкой заговорила Зина. — И я снова, как тогда в больницу, ходить к тебе стану. Передачу носить. Разговоры разговаривать. И снова буду девочкой, которой никуда не надо уходить из дому…
— Да ну тебя! Ехидная ты стала, спасу нет!
Толя еще раз двинул в подушку кулаком и ушел, с досадою стукнув дверью. Створка двери со скрипом отошла. Зина поднялась ее прикрыть и увидела: Толя, накинув на плечи пальто, прошел на улицу, опустив голову. Зина проводила его пристальным взглядом до поворота и притворила дверь.
Отбросив вязанье, она легла лицом на учебник по радиотехнике.
Он стоял, опершись рукою на перила крыльца, и со всех сторон плыло к нему крепнущее движение весны, предпраздничное, гулевое беспокойство нарастало вокруг.
За Волчьим логом (странное все-таки название — здесь никогда не бывало волков!) негусто толпились дома Старого города. Дальше они задернуты густеющей день ото дня дымкой, и оттого кажется, стоят дома сплошняком и даже не стоят, а вместе с биржею, с трубами, со столбами попрыгивают в мареве и куда-то плывут. Еще дальше за домами, мерцающими, как на простыне, подвешенной Глобусом вместо экрана, за этим вытаивающим из снега городом, сзади этого солнца, скатывающегося за реку, есть еще города, много городов — всяких, больших и маленьких. И вот скоро уже, совсем скоро Паралитику жить в них. Зине жить в них. И Толе жить в них.
Как жить? Что они знают о людях? Что люди знают о них?
Права Зинка, права — боязно покинуть дом, навсегда уйти из него туда вон, за Волчий лог. А ведь у него обе руки целы и нога одна лишь поломана, да и то он почти не хромает… Каково же будет уходить отсюда Паралитику? И Зинке? Она девчонка.
Говорят, в миру девчонкам труднее, чем парням.
А еще совсем недавно казалось Толе — так вот, как он живет, будет жить вечно, и ничего не изменится. Всегда будет знакомая и понятная братва, ворчливая, но тоже понятная тетя Уля, замкнутый, не очень понятный, но все-таки свой, привычный Валериан Иванович.
Куда же они пойдут? К кому? Как их примут?
«Ручеек, лишь слившись с другими ручьями, становится рекой. А река, только встретившись с людьми, получит имя», — вспомнил Толя слова, вычитанные в мудрой восточной книге.
Но мудрые слова эти, будь они хоть развосточные, слишком слабое утешение. Толя заметил: мудрости, изрекаемые людьми, вроде еды — на время утоляют голод, а потом опять есть хочется.
Единым махом думы Толи переметнулись на другое. Он вспомнил о деньгах. Он не желал сейчас о них думать, не хотел, отмахивался: «А-а, подумаешь!.. Ну, вернем — и все… Ну, изобьют мильтоны. Пусть бьют. За дело. Да и не изобьют. Разговоров больше. Шпана напридумывала…»
Из-за острова, с южных краев, подувало. Ветерок был плавный, без злости и стегающих по лицу порывов, какой надоел за зиму. В логах помутнело, березники загустели. Предчувствие капели и травы таилось в этом ветре.
Должно быть, немало времени Толя простоял на крыльце. Огней становилось все меньше и меньше. Город погружался в сырую ночь, в сон. Город, в котором Толя вырос и который вырос вместе с ним. Родной до каждого закоулка, до каждого дровяника и барака. Город этот скоротал еще одну длинную зиму, перетерпел зазимок, и за это он скоро получит много света, солнца и дождется первого парохода. Темнота на все лето покинет его, и немые, стеклянные ночи поселятся в нем.
Родной этот город, такой, оказывается, чужой, такой далекий, хотя до него рукой подать.
Он постепенно и стыдливо оттер на окраины лагерь, тюрьму. Дом инвалидов, детдом — оттер все, что угнетало глаз и душу людей.
«…Я буду совершенно счастлив, когда прочту в газетах, что там-то и там-то закрыта тюрьма — не стало преступников; закрыта больница уменьшилось число больных; закрыт еще один детдом — исчезли сироты…» говорил Ступинский. Давно еще, убеждая открыть в Краесветске детдом.
А на первом занятии по военному делу Ступинский толковал им, старшим воспитанникам детского дома:
— Столетия множество людей боролись и борются за то, чтобы все жили счастливо, были равны, чтоб не было богатых и бедных и чтоб все были сыты, радостны, не отнимали бы друг у друга хлеб, не убивали бы один другого из-за чьих-то прихотей. Но видите ли, какие пироги, ребята: многие борются за счастье всех людей, но у них есть противники, которые хотят счастья только для себя. И с ними приходится бороться. Боролись мы. Может быть, и вам придется. Наверное, придется. Живете вот вы здесь все вместе, в этом детском доме. Никто вас не учил и не призывал нападать и убивать. И надеюсь, никогда учить этому не будет. Но вот допустите мысленно такую крайность — фашисты нападут на наш город, примутся жечь его, рушить, придут в ваш дом убивать малышей, вашу добрейшую тетю Улю, девочек, Валериана Ивановича. Вы заступитесь за них?
— А как же?
— Да мы… Да мы горло вырвем!..
— Вот видите, какая четкая программа!.. Горло вырвем… — невесело улыбнулся Ступинский.
Многое запомнилось. Все запомнилось: и худое и хорошее. Память, стало быть, не умеет разделять жизнь на первый и второй сорт, как бракеры делят пиловочник на бирже. Память все складывает в одну кучу, и сам уж разбирайся потом, что брать с собою, а что и забыть бы надо.
Вот забыть бы о деньгах, что лежат в крысиной норе. Забыть — об Аркашке с Наташкой, о милиции. Да разве сумеешь?
Ветер присмирел. Лишь тянуло из логов и ближних озер студеностыо да слабо поцарапывались ветви стлаников, вытаявшие из снега. Радуясь тому, что сбросили груз, шептались они о чем-то, перещелкивались. Казалось, в дровянике стоит конь или корова и вычесывает о стенку с худых мослаков зимнюю, слежавшуюся шерсть. А то чудилось, будто собака выщелкивала зубами из шерсти блох, мнилась какая-то возня в кустах и даже писк.
Значит, вот-вот загуляет по Заполярью весна. Птицы всегда чудятся к теплу. А пока восстают вокруг и оживают невнятные шумы и звуки. И пока еще самое чуткое, переполненное предчувствиями человеческое сердце, только оно может уловить, как потягивается, расправляется просыпающаяся земля.
На тропе послышались шаркающие, грузные шаги. И вешние шумы замолкли, как мыши замолкают в подполье, если скрипнут ночные половицы. Раздался глухой, в перчатку, кашель, и Толя догадался — Валериан Иванович возвращается из города или с прогулки своей одинокой, вечерней, которую он усмешливо называет непонятным словом «моцион».
— Анатолий! — споткнулся у крыльца Валериан Иванович. — Ты чего здесь один, на ветру? Куришь?
— Нет, не курю. Думаю, Валериан Иванович.
— Думаешь? О чем же?
Толя ответил не сразу, и Валериан Иванович замялся, полагая, что некстати сунулся со своим вопросом.
— Да и сам не знаю. Обо всем, Валериан Иванович. Вот смотрю на город и думаю, — выдохнул Толя. Переступил, помялся и чуть слышно продолжал: Книжек я начитался разных, и оттого, верно, ерунда у меня разная в голове. — Он помолчал, облокотился о перила, опять посмотрел на огни, на город. — У ребят вон все просто. А меня все куда-то тянет, все чего-то хочется. А чего — и сам не знаю.
— У всех наступает это, Анатолий. Только у одних раньше, у других позже.
— Что наступает?
— Кончаются игры, и наступает жизнь.
— Как это?
Валериан Иванович нахмурился, чувствуя, что слова у него какие-то слишком уж «воспитательные», что не так бы нужно сейчас говорить с парнишкой. Однако не находились они, эти слова, которыми можно было бы снять налет той отчужденности, что возникла между ними после того еще давнишнего разговора.
— Жизнь наступает с той поры, когда человек начинает задумываться над поступками и отвечать за них, — все так же назидательно, по-учительски кругло высказал свою мысль Валериан Иванович и от досады сморщился.
Они помолчали.
За логом успокоился, уснул город. Огней в нем почти не осталось. Темнота уменьшила пустырь, отделяющий детдом от города. Не видно было Волчьего лога, тропы. Казалось, протяни руку — и дотронешься до огонька крайнего дома и накроешь его ладонью.
Все шевелились, почесывались друг о дружку ивняки за сараем. Утомленно выдохнула пар теплостанция на бирже, и большое белое облако вспухло в высоком небе над темными домами, над трубой, что дымила из кочегарки дяди Ибрагима. «Ночь была темная, кобыла черная, едешь, едешь, да и пощупаешь уж не черт ли везет?» — почему-то всплыла в памяти Толи прибаутка, неизвестно где и когда услышанная. «Ночь была темная…»
— Трудно это? — отгоняя от себя назойливую посказульку, спросил Толя.
— Отвечать за свои поступки? Нелегко. И чем больше дано свершить человеку, тем больше ему отвечать приходится.
Валериан Иванович никогда не мог забыть тех своих слов, которые он сказал в столовке, когда умер Гошка Воробьев, и простить себе их тоже не мог. Но, даже постоянно следя за тем, что говорит он ребятам, Валериан Иванович все же опасался брякнугь что-нибудь такое же, и вот из-за этой скованности говорил обструганно, и слова получались какие-то неживые, деревянные. Но Толя очень и очень нуждался в разговоре. Он разрешал какие-то свои сомнения и следил больше за тем, что ему говорят, а не как говорят.
— Выходит, лучше ничего не делать? Лучше взять да жить тихо, незаметно? — В вопросе Толи проскользнула невеселая ирония.
— Я думаю, тебе это не удастся, — Валериан Иванович возвращал Толю к прежнему, серьезному тону, не давал спрятаться за шутливостью. Он положил тяжелую руку на плечо Толи. — Я тебе много советов давал. Надоел небось разными советами? Но не могу удержаться, чтобы не дать еще один. М-да… Репнин на время прервался и уже по-другому, мягче, доверительней, произнес: — Видишь ли, Анатолий, жизнь состоит на первый взгляд из мелочей. И человек начинается с того же. Запомни, пожалуйста, одну маленькую мелочь: прежде чем пообещать — подумай, а пообещав — сделай обязательно. Пообещаешь, допустим, горелую спичку поднять с дороги — подними. Пообещаешь сердце вынуть из груди и отдать другому человку — вынь!
— Вы всегда так делали?
— Я? К сожалению. Дал однажды присягу: служить верой и правдой царю и служил.
— Так зачем же вы меня тому учите?
— Не лови меня на последнем слове, Анатолий. Я ж тебе сказал: прежде чем пообещать — подумай! Сам я, как видишь, обещал, иногда не задумываясь. И сильно ошибался.
— А сейчас как? Сейчас вы уже не ошибаетесь?
— Ошибаюсь. К несчастью, ошибаюсь. Но не в обещаниях. Потому что даю их людям, в которых снова начинаю верить. Нет ничего на свете тяжелее утраты веры в человека…
— Понятно, это вы обо мне.
— И о тебе.
— Завтра мы вернем деньги.
— Я сейчас от Ступинского. Он уговорил прокуратуру не торопиться с судом, отложить дело. Как видишь, мы верили в тебя и в ребят. И я рад, что не ошиблись. — Валериан Иванович снял перчатки, сунул их в карманы пальто. — Может быть, нужно, чтобы я отнес деньги? — доверительно проговорил он.
— Нет.
— Что ж, дело твое. Но ты все-таки подумай, не очень торопись.
— Хорошо.
Толя сунул руки в рукава пальто и с тоской подумал: «Если бы вы знали, где взяли мы эти деньги!»
Валериан Иванович голиком обметал обутки и уже шутливым тоном рассказывал притчу, неуклюже пытаясь развлечь парнишку:
— Так вот насчет обещаний. У негров племени лоанго есть обычай: за невыполнение обещаний и молитв, с которыми они обращались к деревянному богу своему, они вбивают в него гвозди. Не подражай богам, которых из-за множества гвоздей можно сдавать в металлолом. Так-то, — улыбнулся Валериан Иванович. — Пошли домой, молодой человек. Утро вечера мудренее, утверждают старые люди.
Толя не ответил улыбкой на шутку Валериана Ивановича. Он лишь зябко поежился. Тупо уставившись взглядом в свои валенки, он нехотя поволокся в свою комнату, забыв вынуть руки из рукавов.
Валериан Иванович, открывая свою комнату, пристально посмотрел вслед Толе и, когда тот исчез за поворотом коридора, покачал головой и снова подумал: «Взрослым становится парень, взрослеет…»
Поздно затих детдом. Аркашка и Наташка спали, разметавшись. Наташка еще боялась ночью без брата, и ее, малышку, оставили тут. Она брыкалась во сне, сбрасывала ногами одеяло. Толя несколько раз поднимался, накрывая ребятишек, и подолгу стоял у окна, раздвинув строченные девчонками подшторники.
Окна помаленьку оттаивали. Толя машинально водил ногтем по оклейке и продырявил ее. С улицы в щель просочился холодок. Вторая рама тоже начала оплывать сверху и к рассвету зачернела почти до половины. С подоконника на пол натекла лужица.
Скоро будут выставлять рамы. Еще холодно. Еще чуть дохнуло теплом. Но все равно уже скоро. Шуму, веселья, радостной работы будет, как всегда, на весь дом. Глядишь, еще выдавят одно или два стекла, впустят в дом ветер, холод и солнце. В комнатах сразу сделается светлее, и на подоконниках в стаканах появятся веточки с набухающими почками, и через неделю-полторы из них выклюнутся беловатые листочки черемухи либо клейкие, сморщенные листочки березы. Ребятишки станут осторожно трогать их пальцами, а то и языком. Об эту пору, бывало, Толя приносил домой первые цветы беленькой ветреницы. Он знал одно солнечное местечко за сараем. Там, на взлобке, у озера, есть бугорок. Он вперед всех вытаивает, и, на тонких лапках разворачивая резные крылышки листьев, выходят на этот бугорок отчаянные белые ветреницы.
Поначалу над Толей смеялись, а потом привыкли. Нынче принесет цветы кто-то другой, совсем другой парнишка. Увидит на проталинке ветреницы, сорвет их и дома поставит на окно либо отдаст девчонкам — они всегда рады цветам.
И в выходной день взялись ребята за дело — повынимали вторые рамы, девчонки мыли стекла, скрипели тряпками и ладонями. Толя бегал с ведрами, носил воду девчонкам с озера. Маргарита Савельевна тоже мыла окна, распатлалась, водою облилась и все чего-то рассказывала, рассказывала и смеялась, а про себя думала, что ради таких вот минут стоит все вынести и работать в доме, растить ребят, которые поначалу наводили на нее ужас.
Толя, тоже забывшийся, веселый, первым заметил на тропе человека, который, проваливаясь в снегу, спешил к детдому в распахнутом полупальто, в шапке, сдвинутой на затылок, из-под которой выбивалась синевато-черная челка. «Дядя Ибрагим!» — Толя поставил ведра на снег. Нехорошее предчувствие холодом коснулось сердца Толи, но когда приблизился Ибрагим, сделалось заметно — лицо его сияющее и глаза с бешеным блеском. Весь он был какой-то непохожий на себя.
— Туля! Туля! — еще издали замахал рукой Ибрагим и, подскочив к парнишке, поднял его на руки, закружил, затискал. — Капкас! Родину Капкас… Туля! Я умру, а? Умру, а?..
— Дядя Ибрагим! — вдруг закричал Толя и, привалившись к кочегару, пропахшему дымом и копотью, разрыдался.
Горячее чувство благодарности охватило Толю оттого, что в минуту самой большой радости этот человек вспомнил о нем, не забыл его, а он-то еще и сторонился дяди Ибрагима последнее время.
Ибрагим тоже плакал и успокаивал мальчишку:
— Шту ты!.. Шту ты… Капкас приезжай! Родину мою приезжай! Брат будишь! Сын будишь…
И когда они оба успокоились и сели, немножко смущенные слезами своими, Толя медленно, раздумчиво, будто пожилой мужик, сказал:
— Длинные дни тебе, дядя Ибрагим, покажутся до первого парохода.
— Ничива, — кротко вздохнул Ибрагим. — Мнуга ждал, мнуга терпел, маленько еще потирплю. Ничива…
Глава 14
На большой перемене к Толе подсеменила сытенькая и до того чистенькая девочка, будто ее мыли во многих водах с духовитым мылом, а потом еще облизали. Она известила, что сегодня будет первая предпраздничная спевка школьного хора. Начинается подготовка самодеятельности к Первомаю, и, хотя он, Мазов, подзапустил школьные свои дела и перестал ходить на репетиции самодеятельно- сти, вожатая все же надеется, что у него осталась совесть и он, запевала, не подведет родную школу. Пусть не забывает, предупреждала вожатая, что рекомендацию в комсомол ему будет давать школьная пионерская организация, и если он будет себя неправильно вести… Толя снисходительно оглядел сытенькую пионерочку. На ней глаженый галстук, на галстуке сердечком горело пламя металлического зажима. Не удержался, провел пальцем под носом девочки.
— Скажи своей вожатой, у меня сегодня будет еще та самодеятельность! Мне сыграют «Сени мои, сени!..».
— На балалайке? — не обиделась девочка. От сытости или еще от чего в ней уже бродили тайные крови, и она чуть кокетничала с мальчишками.
— Нет, на ребрах!
— Как на ребрах?
Ничего не разъяснил девчонке Толя, ушел, оставив ее озадаченной. Не сразу, но до нее дошло, что Мазов ее дурачил и издевался над нею, над активисткой школьной самодеятельности, и она побежала жаловаться вожатой.
Никогда еще Толя не возвращался домой так медленно, так подневольно. Ребятишки из первой смены промчались мимо него, толкнули разок-другой. Он не ввязался в свалку, шел, помахивая сумкой, сшибая с карликовых березок настывшие льдинки, даже напевал что попало, но что напевал — не слышал, о чем думал — не сознавал. Ближе к дому останавливаться начал, на небо, на лес глазел. Кустарники чадили пьянящей дымкой, запахом молодеющей коры и торопливо набухающих почек. На сильных вершинках ивняков почки уже лопнули, показав шишечки из серой шелковой шерстки. Под елками появились продухи. На дорожке, где Махнев проезжал, следы коня выперли. По березнику перепархивали дородные снегири.
Сидя на крестообразной вершинке ели, безостановочно наяривал зяблик, лишь недавно объявившийся в этих краях, и с упругим жужжанием резали крыльями воздух резвящиеся бекасы. Беспокойство от зябликового трезвона, от суеты птичьей, от шума и гама пробуждающегося леса возрастало в Толе.
Ему все больше и больше не хотелось идти домой. Ведь вот пообедаешь и отправляйся туда… Надо.
Дома Толю ждал Мишка Бельмастый. Он стрельнул целым глазом в угол. Там на кровати вниз лицом, в брюках и рубахе спал Деменков. В комнате пахло перегаром. «Наблудился и пришел отсыпаться, — с ненавистью подумал Толя. Ну погоди, скоро уж турнут тебя, гада, отсюда!..»
Тянуть с деньгами больше нельзя. Но и нести их, даже думать об этом не хотелось. Толя, почти не таясь, сходил в уборную, взял деньги из крысиной норы, сунул их в карман. Пачка денег оттопыривала штаны, и Толя даже самому себе стыдился признаться, какое жалкое и затаенное желание было у него: заметили бы деньги и отобрали бы.
Но деньги никто не отбирал. Даже Паралитик не отбирал деньги. А ведь заметил, наверное. Глаз у него на эти штуки наметанный. Паралитик совсем притих чего-то. Все больше лежит, укрывшись с головой одеялом. Не бодрится, не постукивает костылем, не орет на ребятишек, не раздает подзатыльников. Думает Паралитик, Игорь Краесветский, лежит и думает. Что-то он надумает? Может, устанет думать, плюнет на все да возьмется жить, как жил прежде? Едва ли. Он инвалид, обостренно чуткий к добру и к злу. Чего же больше сделали ему люди — добра или зла? Вот если бы вопрос этот был ему ясен, тогда другой оборот, тогда, может, послал бы он вниз по матушке по Волге всю эту печаль…
Как будто не так уж давно похоронили Гошку Воробьева. Много доставлявший хлопот старшим и зливший постоянно ребят, Гошка, когда был живой, почти никак не влиял на их жизнь и на поступки. А вот смерть его исподволь, незаметно переменила в детдоме многое. И Паралитика тоже. Да разве одного Паралитика? А Зину? А Мишку? А Женьку? А Глобуса? Да и Толю самого не перевернула она разве? А детдом?
В нем уже не властвуют безраздельно Деменков и Паралитик со своей компанией. Строже к себе, сплоченней стали жить ребята. Карманники детдомовские не шныряют по магазинам, и среди них самый отчаянный, Женька Шорников, слово дал завязать.
И Толя дал. И Мишка…
Ребячливость бесшабашная и бездумная, веселая удаль покинули Толю. И он стал как будто ответственным тут за все, на него надеялись, ждали, что он сделает и скажет. Редко кто решался ослушаться, если он посылал куда или просил что-либо сделать.
И все, что касалось кражи денег и кассирши, ребята, не сговариваясь, переложили на Толю. Раз уж он Паралитика победил, с Деменковым справился, значит, сообразит, как быть.
Отступать невозможно, некуда. Нужно идти. Обязательно идти.
И они пошли.
Кутаясь в пальтишки, без разговоров, будто в стужу, шли, не глядя друг на друга, как идут подсудимые, очень виноватые перед людьми. И как у всяких преступников, в каждом из них теплилась надежда на милосердие и чудо.
Но чуда не случилось…
Они лежали в холодной, полутемной комнатушке на полу и медленно приходили в себя. В комнатушке пахло гниющим от сырости полом, грязной одеждой, перегаром и табаком, а вместе все эти запахи отдавали болотиной. Сюда, в эту комнатушку, на время кидали пьяниц, подобранных на улице, буянов, воришек и всякую шваль, которая есть в избытке и в таком маленьком городе, как Краесветск.
— Ну как ты, Мишка?
— Я?.. Я-то ничего… Как ты?
— Тоже ничего…
В коридоре послышался звон железа, шум, крик:
— Т-ты, попка! Убер-р-ри р-р-руки! Я таких видал и едал! Я т-таких сыр-рыми… — Ругань удалялась в глубь коридора. — Убери подобру…
— Вот и понесли крест, — дождавшись, пока шум и ругань затихли, сказал Толя с грустным смешком. — Так пишется в благородных книгах.
— Я думал, хуже будет.
— Я тоже…
Под потолком тускло горела лампочка в железном решетчатом колпаке. Толя первый раз в жизни видел свет, упрятанный за решетку, и подумал: «Надо было идти одному. Все равно не поверили».
Вдруг он услышал, как зашумел, зашмыгал носом Мишка. Толя еще никогда не видел и не слышал, чтобы Мишка плакал. Испугался:
— Ты чего, Мишка? Отшибли чего-нибудь? Отшибли?
Мишка плакал отвернувшись, закрыв лицо руками, и Толя каким-то уже не детским разумом дошел: ни утешать, ни расспрашивать Мишку не надо. Он вытянулся на спине и, не отрывая глаз от лампочки, принялся считать. Считал, чтобы и самому не расплакаться, и с неожиданной усмешкой подумал: «Вот и математика пригодилась. Не такая уж она зряшная наука…»
Постепенно Мишка утих. Толя обнял его, и Мишка, истинный, закаленный детдомовец, не сбросил руку Толи, а тоже обнял его.
— У меня вон бельмо, — глухо, как бы самому себе, сказал Мишка. — И вот меня всегда толкают, бьют шибчей, чем других. Отчего это, Толька?
— Не знаю, Мишка, не знаю. — Толя вынул из кармана в комочек скатавшийся платок — Зина обвязала его цветными нитками, — щемливо вспомнил о ней, будто был за тысячу верст от нее и уже давным-давно ее не видел. Сунув платок в руку Мишке, откинулся, снова заговорил: — Так, видно, устроено у людей: красивое все любят, балуют красивых-то, а уродов ненавидят. Верно, сами об себе думают, что красивые. А сами же урода-то породили. Вот и не могут этого себе простить.
Мишка утерся, содрогнулся от далекого, уже закатывающегося всхлипа и, забыв вернуть платок, молвил:
— А меня мать с отцом все равно любили. Я плохо все помню, но любили, знаю.
— Так то ж родители!..
— Да-а, родители!..
— Начальник-то, слышал? «У них родителей нет, так ты им как отец всыпь!..» Роди-итель! Папа! Своим деткам небось…
— Костыльника покрываете, мерзавцы! Деменкова-бандита спасаете, сопляки! — передразнил начальника милиции Толя. — Покрыли б мы костыльника с Деменковым штукой одной, если б…
— Ладно, Толька, ну их подальше. Давай лучше про родителей еще поговорим…
— Да я их почти не помню, Миха, — отозвался Толя. — Мать еще в деревне умерла. Как отца забрали, так и умерла. Отец, не знаю, живой или нет? Последним прадед умер. Всех пережил. Сто лет ему было.
— Н-ну-у-у! — Мишка приподнялся даже и поглядел недоверчиво на товарища — не загибает ли?
— Ага. Так говорили.
— Долго — сто лет! Уж повидал в жизни так повидал! И натерпелся, поди…
— Мне он ничего не рассказывал. Как приехали сюда, на Север, он уже не разговаривал. Молчал все. Оцинжал потом. Один раз как закричит!.. И умер. А бельмо тебе, Мишка, вылечат. Ты не беспокойся. Я в книжках читал, даже стеклянные глаза вставляют.
— Да я ничего, привык. Конечно, — понизил голос Мишка, — без бельма лучше бы. Мне командиром охота быть, пограничником. А кто меня такого в командиры возьмет? Э-эх, скорей бы уж вырасти! Я на любую операцию соглашусь. Пусть на стеклянный глаз, все равно соглашусь.
Мишка, оказывается, разговорчивый человек. Столько лет прожили в одном доме с ним, а Толя и не знал этого. Однако разговор скоро кончился.
— Хочешь, я тебе сказку расскажу? — предложил Толя.
— Давай, — обрадовался Мишка. — Ты здорово умеешь рассказывать. Я тоже, как глаз мне другой сделают, стану много книжек читать и наизусть рассказывать.
— Нет, лучше не читай. Учиться плохо будешь и блажной сделаешься. Говорят, от книжек даже с ума сходят.
— Ты ж не сошел!
— Я еще молоденький. Может, еще сойду…
— Брось тогда читать.
— Я пробовал. Тянет. Вот курцов к табаку тянет. Видал, как те, у баржи, махорке обрадовались? А меня к книжкам тянет. — Толя опять повернулся на спину, закинул руки за голову. — В книжках все больше про буржуев богатых и про несчастных рассказывается. Все больше описывается, как кто умер и как кого убили. И еще про любовь. В стихах чаще про любовь-то. Мне сперва не нравилось про это читать: канитель, думаю, разводят. Нет чтоб сразу сказать: я, мол, тебя люблю. Виляют, слова посторонние всякие говорят. Я сперва все в конец заглядывал. Там, как в алгебре, ответ есть: то ли, се ли. А теперь вот и про любовь стало интересно читать. Есть одна книжка, про Квазимоду, про смерть его и про любовь. Квазимода был горбатый и тоже одноглазый, а полюбил красавицу Эсмеральду. — Мишка вспыхнул при воспоминании про одноглазого Квазимоду, но Толя не заметил этого и уже повел рассказ о великой и несчастной любви горбуна Квазимоды.
Мишка совсем приуныл от печального рассказа, и Толя, чтоб утешить Мишку, решил поведать ему про кино, которое потрясло его до основания. На Мишку кино не подействовало. «Он же музыки-то не слышал, а в этом кино главной музыка была», — догадался Толя.
— Мало ли чего там показывают! В жизни все по-другому. — Мишка махнул рукой, с угрюмой рассудительностью закончил: — А я маленький был, верил всему, дурак. Покажут, как утонул человек или захворал, так я и заплачу. А там артисты вовсе, и дома из фанеры да на тряпках нарисованные, сказывают.
— И я тоже верил, — спустя время отозвался Толя. — Тоже плакал. А в жизни и верно все по-другому, — совсем тихо подтвердил он, глядя вверх, на зарешеченную лампочку.
Поздним вечером, когда обезлюдели улицы, дежурный выпустил из прокислой комнатушки Толю и Мишу, погрозив на прощанье пальцем:
— У меня не болтать! И если еще раз попадетесь!..
Ребята вихрем вылетели из дежурки, не дослушав строгого человека, и помчались домой.
И когда за Волчьим логом, за бугристым пустырем, заершившимся от кустарника, они увидели светлое окно на кухне своего дома, оно показалось им таким дорогим и долгожданным, что у обоих подкатили к горлу слезы. И Толя вспомнил, как он уже много раз радовался этому родному для него огоньку, и подумал, что это большое, наверное, счастье — иметь на земле свое, всегда тебе светящее окно.
Тихо пробрались парнишки в раздевалку и не повесили свою одежонку вместе с остальною, а постояли и, не сговариваясь, сунули шапки и пальтишки с чужим, противным запахом в угол, за вешалки.
На кухне, вполголоса напевая: «В степи под Херсоном высокие травы…» — дежурные чистили картошку. Ужинать Толя и Мишка не стали, забрались в постель и разом, как бы свалив ношу, выдохнули:
— Мировуха!
— Мишка! — позвал Толя. — Иди ко мне.
Мишка рыбиной метнулся с одной кровати на другую. Парни залезли под одеяло, пошушукались, посмеялись, угрелись и незаметно в обнимку уснули.
Во сне оба вздрагивали, постанывали. Страшное, должно быть, снилось парнишкам. Женька Шорников и Малышок подняли головы. Они ждали Толю и Мишку, ловко притворяясь спящими. Натянули валенки парнишки и поспешили к Валериану Ивановичу.
Постучали.
Всегда чутко спавший Валериан Иванович зашевелился, зазвенела пружинами кровать, заговорили под грузным человеком все железки. Ребята приникли к дверной щели и в один голос доложили:
— Варьян Ваныч. все в порядке!
— Что в порядке? — хрипло отозвался заведующий.
— Толька с Мишкой отнесли деньги.
— А-а, ну хорошо, хорошо. Бегите спать.
Женька и Малышок ликующе подпрыгнули, поборолись маленько в коридоре, а потом прямо в подштанниках, по-домашнему, заглянули на кухню, взяли из таза горстку картофелин и уже в постели схрумкали их, как орехи.
Назавтра во время обеда за Аркашкой и Наташкой пришла мать. На ней была мятая, пахнущая дезинфекцией одежда. Должно быть, поспешила сюда прямо из камеры, и запах тюрьмы еще не выветрился. Лицо у нее утомленное, осунувшееся, с темными обводами у выгоревших глаз. Рукава телогрейки отчего-то свисали ниже рук, и чулок на женщине не было, утерялись, видно, в тюремной кладовке, а ждать, когда найдут чулки, она не захотела.
Злым рывком распахнула женщина дверь в комнату Валериана Ивановича.
Через несколько минут в притихшую столовую вбежала дежурная и с придыхом выкрикнула:
— Аркашка! Наташка! Вызывают в кабинет!
— Да пусть поедят, куда спешить-то? Не на пожар! — запротестовала тетя Уля, насыпая в кармашек Наташкиного платьица леденцов и урючных косточек. Сама же она и увела детей в комнату Валериана Ивановича, которую упорно именовала «канцелярией».
Валериан Иванович долго о чем-то разговаривал с матерью Аркашки и Наташки. Но о чем — ребята расслышать не могли, хотя и крутились у двери. Был уже звонок на «мертвый час», малыши разбрелись по комнатам, а все старшие ребята чего-то ждали.
Толя стоял, прислонившись спиной к стене, и тоже ждал. Лицо его как будто постарело, за эти дни, лишь глаза ровно бы воспалились от сверкающего снега, а в теле расслабленность была, усталость. Болело под ребрами тупо, будто он проспал всю ночь на остуженных камнях. Потряхивало нутро мелконьким кашлем.
Наконец тетенька вышла, утирая концом полушалка глаза, и вывела за руку Наташку. Аркашка весь красный шел следом, потупившись, терзая в руках шапку. Наташка, заметив Толю, бросилась к нему, обхватила его руками и, заглядывая снизу вверх, счастливо сообщила:
— А к нам мама пришла!
Сердце у Толи растроганно дрогнуло, и тут же летучий холодок коснулся его. Через силу улыбнулся он девочке, потрепал яркий бант на ее голове. Женщина резко отдернула девочку к себе, сорвала бант, будто сорный мак, швырнула его к ногам столпившихся ребят.
Наташка захныкала.
Женщина подняла ее на руки, хлопнула ниже спины и прижала к груди, а к боку Аркашку. Загораживая своих детей собою, точно курица-парунья, она пятилась к двери и кричала отрывисто, словно с оттяжкой, наотмашь хлестала по лицам:
— Шакалы! Шпана! Воры! Сволочье!..
Дверь взвизгнула. Пудовая гиря подскочила вверх, бухнула в ободверину, скрипуче повторила: «Сволочье!» — и закачалась на проволоке.
В растерянной тишине только и слышалось это ржавое, тягучее поскрипывание. По замарелому стеклу промелькнула торопливая женщина с ребенком у груди и следом узенькая тень мальчика, тоже быстрая.
Гиря перестала раскачиваться, повисла, но что-то еще раз-другой подавившейся цыпушкой пискнуло под нею.
Ребят будто ветром размело. Кого куда. Толя остался один в коридоре. Он шагнул к окну, уперся лбом в холодное стекло, все в ребрах льда, и так стоял, весь обвиснув. От стекла приятно холодило лоб, и лишь это единственное ощущение он воспринимал сейчас. Еще ныло под ложечкой, и кожа на груди сделалась ровно папиросная бумага. В голове не было никаких мыслей, и внутри, там, где полагается быть душе, пустота. Будто вместе с женщиной, с детишками ушло все и осталась только саднящая усталость и скорбное сожаление неизвестно о чем.
Сколько простоял Толя один в коридоре, упершись лбом в оледенелое стекло, он не знал. Не хотелось ему идти в комнату, не хотелось видеть ребят, опять тянуло на улицу, в лес, в одиночество.
Слез не было. Не плакалось. А хорошо бы завыть, торкнуться башкой в раму. От подтаявшего льда текло по лицу и за ворот рубашки, но он не мог оторвать взгляда от маленького, с пятачок величиной, продуха.
В махонькое отверстие прямо на него выплывала лодка, по-живому зыбясь и обозначая сначала контурно, а потом явственно самое себя и все, что в ней.
А в ней на носу, как в гнезде, закутанный в дождевик мальчишка.
Щелкают коваными наконечниками шесты. На мелких местах щелкают резко, на глубоких — глухо.
Руки перебрасывают шесты. И рукава то спадают до запястий, то отлетают до локтей. На. корме резкими, сильными рывками отталкиваются смуглые узластые руки, на которых набухли ветвистые жилы от кистей и до крутого локтя.
Это кормовой. Он управляет лодкой.
Женщина, что впереди, стоит с шестом, как в залуке, так и на струе, подбрасывает шест легко, непринужденно и о чем-то болтает, болтает…
— Ну что, Анатолий, тяжело? — услышал Толя и вздрогнул.
Лодка пропала, осталось перед глазами лишь мутное стекло с ребрами льда, оплывшими и истончившимися от дыхания.
Толя хотел закричать на Валериана Ивановича. Но не мог закричать. Перед ним стоял в помятых шароварах, в покоробленных кожаных сандалиях без ремешков пожилой человек с колючей сединою, искрящейся по щекам, и с чайником в руке. В голосе его как будто была строгость, а в глазах, небольших глазах, перепутанных красноватыми ниточками, участие.
Толя отвернулся, провел пальцем по синеватому, расширившемуся продуху, похожему на детдомовское озерцо за дровяником.
Стекло скрипело, как тупая пила.
— Перестань! — покривился Валериан Иванович. — И почему ты не в постели? «Мертвый час» все-таки.
Толя упрямо молчал, и в этом молчании чувствовался закипающий вызов.
— Законы для всех одни. И пока живешь здесь…
Толя спиной чувствовал, как заведующий возвращался из кухни, нацедив чаю, как приостановился он у двери своей комнаты, потоптался, почти неслышно обронил свое: «М-да!»
— Может быть, зайдешь? Чаю бы попили, — словно оправдываясь, предложил несмело Репнин.
— Не хочу я никакого чаю! Ничего не хочу! Отвяжитесь вы, ради Бога! тихо простонал Толя и откусил грязную льдинку с перекладины рамы.
Валериан Иванович ногою открыл дверь в свою комнату и, высоко держа чайник и стакан с блюдцем, исчез.
Толе почему-то сразу сделалось не по себе. Когда здесь над душою стоял Валериан Иванович, наорать хотелось или пожаловаться, припав к нему. Ребятишек вон увели — пожаловаться, двух чужих малышей, а ровно бы от души что оторвали.
Толя выплюнул льдинку, провел по лицу рукою. Стекло распаивалось, стачивались серые от пыли на подоконнике клыки. В верхней дольке рамы шмелем шевелился солнечный блик.
Ах, если бы еще раз увидеть лодку! Еще раз заслониться от всего!
Помнит шесты, руки, а лиц отца и матери не помнит. Не помнит, куда и зачем плыли. Но до удивительности отчетливо видит, как потемнело вокруг, слышит, как резче защелкали шесты, как забулькала вода у щек лодки. Берег побежал мимо, ровно бы на колесах, быстро, с рокотом. Суетясь меж выступивших из воды камней, нащупывая острием носа разрез струи, лодка плыла под сумрачный навес скалы, исполосованный птичьим пометом.
Отец и мать схватились руками за расщелины утеса, тревожно глядели вверх, а там грохотало, сверкало, раскалывалось небо. Утес вот-вот должен был вздрогнуть и низвергнуться на них.
Густо и шумно обрушился дождь. Он плясал рядом с лодкою, тонконогий, пузырчатый. Он вздрагивал, ежился, прыткой рысью припускал по черной воде. Молнии огромными серпами подкашивали его, как крупную траву, стрелами вонзались в густые, гибкие заросли. Небо рвало в клочья синим огнем. Грохотало так, что белые рыбки ельцы взлетали из раскрошенной воды, ворохами узких листьев опадали в лодку и подпрыгивали в ней.
Артельно, с шумом и гамом пронеслись на улицу детдомовские малыши. Они гнали по коридору чью-то шапку вместо мяча.
— Отдайте! Ну отдайте же! — суетился белобрысый мальчишка, пытаясь, как вратарь мячом, завладеть своею шапкой.
Толя подхватил ударившуюся в окно шапку, нахлобучил ее на белый кочан мальчишки и вытолкнул его за дверь.
«Мертвый час» кончился. Нужно было уходить.
Мимо комнаты заведующего Толя прошел на цыпочках, предполагая, что Валериан Иванович отдыхает.
А Репнин в это время сидел у окна, швыркал чай из блюдца, давно уже утратив все правила застольного этикета. Он думал неторопливо о том, что вот и еще одну беду, как гору, перевалили в доме, еще одна забота минула. А сколько их будет? Каких? Сама жизнь и работа тут такая — одолевать, искоренять людские беды. Здоровьишко ж не то уже. Да и годы немалые. Когда только и пролетели?..
Оставив недопитое блюдечко с чаем. Валериан Иванович выглянул в коридор. Толи нет. Ну и добро! Значит, легче парню стало. Значит, перегоревал. Ребячье горе отлетчиво, крылато.
Репнин заметил стул, все еще стоявший у двери, и оттуда, как выстрелы в упор, зазвучали слова женщины:
«Ворье плодите! Всех засудить надо!»
«Как это всех?»
«Тех, которые в милицию деньги принесли, арестовать — они об остальных расскажут!..»
«Мы уж тут сами разберемся, голубушка».
«Как же, разберетесь! Заодно с ними небось?»
«Не со всеми».
«Во-во! Я и говорю, одна шайка-лейка! Какой же процент они вам дают?»
«Когда как. В зависимости от настроения…»
М-да, это тоже надлежало вытерпеть, дать выпалить гнев человеку, а потом успокоить, умилостивить его, унижаясь и сдерживаясь, чтобы и самому не разораться и не навредить ребятам. Ведь если женщина будет добиваться, настаивать, могут для примера сослать в трудколонию Толю с Мишей — потом доказывай, что не они должны там отбывать наказание…
Валериан Иванович убрал стул. Женщина почему-то никак не хотела проходить от двери и все натягивала юбку на голые колени и прятала руки в рукава. Она стеснялась самой себя. Стыдливость свою она прикрывала грубой бранью, и заметно было — сразу полегче ей сделалось.
И то ладно.
Перед Валерианом Ивановичем проходят недавние события.
Гоша Воробьев. Кража. Брат и сестра — Аркашка и Наташка. Зина Кондакова. Паралитик. И прошлое не забывается, давит тяжестью. Парнишка стоит, упершись лбом в стекло. О чем он думает? Что свершается в его душе? Какая работа идет там? И пожалеть нельзя. И в разговоре блюди осторожность. Он сейчас чутлив ко всему, как птица при первой линьке. «А я потревожил его, старый осел… И слова-то подвернулись… И без того одиноко парню. Очень уж переменился он. Погрубел и понежнел — все вместе…»
Но тут же Валериан Иванович бранит себя за излишнюю мнительность: «Парнишка и парнишка, как и все прочие парнишки, и нечего преувеличивать. Он, видите ли, ждал немедленно награды за свой благородный поступок. Нет, ты, Анатолий-свет, проживи жизнь так, чтобы в конце ее люди сказали тебе спасибо, и тогда считай, что прожил ты ее не напрасно. М-да!..»
Помнит…
Дождь. Молнии. Река.
Как посветлело сразу, помнит. И хорошо дышалось. На той стороне реки еще уходил с приплясом дождь, еще горы были отгорожены там рябящим пологом, прошитым солнечной пряжей. А у лодки все уже сверкало умыто. Со скалы часто и крупно капало. Из каменной расщелины шумно лилась коричневая, быстро иссякающая вода. Мутный поток тащил по глубокой реке растопыренную хвою, сосновые шишки, сухой гриб, головки фиолетовых цветков, кружило пустоглазую шкуру змеи.
У дряблых, зализанных водою щек лодки слоистой свилью переплеталась волна. Что-то в глубине ее возникало белое, пятнистое и тут же морщилось, исчезало.
Это был студеный зрак реки — он жил на самом дне.
От него исходило смутное, гнетущее ощущение. Родом данным инстинктом мальчишка почувствовал, что это ощущение холода и глубины надо преодолевать.
Вот он, борт. Вот вода. Близко. Рядом.
Как страшно было руке спускаться по борту, будто по утесу. На ковыляющих пальцах ползла рука, ползла по борту к воде.
Он обреченно ждал, как схватит его сейчас тот, с холодным зраком, и…
Но тут пальцев коснулось игриво что-то холодненькое, щекотливое. Он облегченно засмеялся и перевесился за борт.
Никакого зрака там не было. Бежала волна, пересыпалась пузырьками. Он хлопнул ее ладонью по макушке, и она воронкою закружилась, заулыбалась и ушла. Хлоп другую — и другая волна заиграла брызгами. И тогда решил он в охапку схватить косматую веселую волну, раскинул руки, бросился на нее. Тут же его схватило скользкими холодными лапами самого. Мгновенно обволакивающая покорность оттого, что доверился, обманулся, точно сон, спеленала его. Крик застрял в горле. Звон в ушах. Царапающая боль в носу. И быстрый, как просверк молнии, женский вскрик…
…Какая же связь между тем днем и нынешним? Почему раньше никогда не вспоминалась лодка?
Толя шел за город к кладбищу, надеясь, что там он додумает, поймет что-то, а додумав, поняв, обретет покой.
О том, что покоя ему теперь никогда не будет, он еще не знал.
Он шел один, и все, что было в его душе, а всего-то было еще горсточка, нес с собою. Но и эту малую ношу тащить уже было нелегко. Живые люди еще больше растревожили его, и он хотел покаяться мертвому Гошке Воробьеву, покаяться и за себя, и за людей. Хотя с Гошкой он не водил дружбы, а просто жил с ним в одном доме.
Зазимок сдавал. Снова расквасилась дорога на кладбище, узенькая, хилая дорога. Прежде она была торная, а теперь редко по ней ходят и еще реже ездят.
Дул ветер, тугой, широкий, растянув вполнеба заводские дымы. Он подталкивал Толю в спину, щекотно шевелился за воротником пальтишка, из которого Толя так быстро и незаметно вырос.
Толя остановился. Нудило ломаную ногу старой, ржавой болью. Он потер ногу ладонью. В больнице говорили, что переломы у молодых так же, как и у старых, одинаково болят к мокропогодью.
На окраине города, ударившись стеклами в солнце, светился окнами дом. Успел он когда-то по-стариковски ссутулиться и осесть коньком к земле.
Боль в ноге поутихла. Толя хотел идти дальше, но так и остался стоять в дорожной выбоине, глядя на призрачно колеблющийся горизонт.
Оттуда, из туманной дымки, снова выплывала лодка. Солнце сжигало синюю паутину, высвечивая ее все отчетливей. Зарываясь носом в живую от солнца синь, лодка спешила к нему.
Толя за ухо стянул шапку, ровно бы желая услышать пощелк шестов, и стоял напряженный между старым многооконным домом, в котором ему осталось жить один год, и между лодкой, которая зыбалась на горизонте, в синих волнах, спешила и никак не приближалась к нему.
У спая неба и земли начало высветляться, остывать, и понесло оттуда знобкой, весенней свежестью. Она катилась над тухлыми испарениями болот, над чахлым редколесьем и переполняла тело мальчишки пьянящим властным и беспокойным зовом, лодка уже не взлетала на синие волны — померкла от предвечерней стужи синь.
Погрузилась лодка в глубину памяти.
Толя поежился, натянул шапку и двинулся дальше по дороге, на которой позванивали и крошились тоненькие, только что застывшие льдинки.
На кладбище он сидел возле просевшей, мокрой могилы, на мокрой кочке, заросшей брусничником, и впервые за много последних дней покойно было у него на душе, благостная расслабленность охватила его, и, если б можно было, он вытянулся бы сейчас на земле, глядел бы в небо и ни о чем не тревожился, не думал, просто бы молчал и смотрел. Но земля была студеная.
Повсюду в логах еще белел снег, а в лесу еще только-только появились первые продухи. На такой земле и летом не разлежишься.
Толя нашел дощечку, подгреб землю, оползшую с могилы, срубил горбылиной несколько кочек с брусничником и перенес их на грязный бугорок.
На соседнем бугорке, вытаявшем из-под снега, кучкой стояли небольшие елки с обломанными, обшарпанными ветвями, и меж ними почудилось Толе движение, вроде бы кто-то из-за елок выглядывал.
Толя сделал вид, будто занялся работою, стал ворошить и мять руками комья глины, а сам, не поворачивая головы, наблюдал, что будет.
Шевельнулась лапка, другая, треснул сучок, и вот из-за ствола деревца высунулась сначала серенькая вязаная шапочка с заячьим хвостом на маковке, а потом лицо с красной фигушкой.
— Манька, проклятая! Ты чего тут делаешь?
Таиться больше не было смысла, и Маруська Черепанова быстро сообразила, как ей быть, хлопнула в ладоши и развела руками:
— Ой, как тут интересно написано!
Толя погрозил Маруське кулаком. Она обиженно вздернула подбородок и отвернулась.
— Хоть посмотри, если не веришь.
Толя, проваливаясь меж кочек и корней до щиколоток в сырой снег, побрел к Маруське. Она молча махнула на круглый крест с умело, в паз зарубленными перекладинами. По свежему стесу креста химическим карандашом написано: «Спи спокойно, друг Гаврила, теперя торопиться тебе больше некуда. Вербованные плотники Кирилл и Кузьма, да еще бригадир Захар Захарыч Кокоулин».
На ровном срезе елового, ладно сработанного креста лежала серенькая запятая синичьего помета и выступили по всему тесаному кресгу капли свежей смолы.
Люди каждый день рождались и умирали, ученые и артисты, плотники и слесари, рабочие и начальники, женщины и мужчины, взрослые и дети — так было веки вечные, так будет, и ничего тут не поделаешь.
Правда, Гошку все равно жалко, и никак не проходит чувство вины перед ним, но и плотники эти, видать, тоже горестно винились перед товарищем своим, Гаврилой, винились в том, что они вот живут, а он взял и помер. И это, наверное, было тоже веки вечные: кто-то кого-то жалел и помнил, и живые всегда горевали о мертвых, и, может, из жалости и памяти вырастала и получалась любовь.
— Ты зачем сюда явилась, Манька? — тихо спросил Толя, не отрывая взгляда от елового креста.
Маруська сразу же полезла под пальто, за пазуху, и достала Толин серый шарфик.
— В коридоре нашла, — сказала Маруська. — Голошеим ходишь. Захвораешь, дак будешь знать!
— Шарф я оставил на вешалке, Манька.
Девчонка рукою шоркнула по носику своему, пошмыгала, подумала и быстро нашлась:
— А меня Зинка послала. Погляди, грит. Он чумовой, грит, и всяко может быть…
— Манька, ты опять врешь? Сама поперлась?
— Ну, сама, сама, — быстро согласилась Маруська и так быстро, и таким тоном, которым понять она давала, что как, мол, тебе хочется думать, так и думай, а я человек маленький, подневольный, и мне ничего другого не остается, как угождать всем и выручать. Однако ж Маруську томила еще одна жгучая тайна, и она ошарашила ею Толю: — А тебе Зинка письмо пишет, вот!
— К… какое письмо? Чего ты опять буровишь? Ну, фантазер! Ну, хлопуша!
— И не хлопуша, и не хлопуша! — Маруська быстро укусила запястье своей правой руки и пробормотала заклятье: — Вам не услышать, нам не сказать! Чтобы клятва получилась по всем правилам и как можно крепче была, девчонка для верности куснула руку еще раз.
Толя и не собирался выспрашивать ее: он знал, как надо подъезжать к Маруське и как обращаться с нею. Взяв за руку Маруську, строго хмурясь, он повел ее за собою с кладбища. Главное, сейчас с ней ни о чем не разговаривать и делать как можно недоверчивее и сердитее лицо.
— Жара стала какая! — Маруська расстегнула верхнюю пуговицу пальтишка и сдвинула со лба шапочку. Тайна жгла Маруську, распирала ее.
— Дышать нечем, — поддержал Маруську Толя и насмешливо покосился.
— Вот ты не веришь. А я вот все, все видела. Провалиться мне на этом месте! — Толя не отзывался. Маруська, стрельнув в него глазами, таинственно понизила голос: — Она сперва писала: «Дорогой Анатолий…» А потом ходила, ходила, карандаш кусала, кусала и листик порвала. После написала: «Уважаемый Толя», а после… — Голос Маруськи сел до полушепота, а черненькие ягодки Маруськиных глаз вовсе выкатились наружу и перестали моргать. — «Родной Толя!..» Вот!
Толя никакого волнения не выказал, ничего с ним не происходило, и Маруська поклялась:
— Честное пионерское, не вру! Вот те крест!
Пальтишко у Маруськи расстегнулось, шапка съехала на ухо, вся она растрепалась. Толя застегнул на девчонке пальто, грубовато поправил на голове ее шапку и вздохнул:
— Беда мне с вами!
— Как не беда, — уже покорно согласилась Маруська. Никак она не могла предположить, что ее такое сообщение не будет иметь последствий и не потрясет Толю. Маруська уже сама сунула свою руку Толе, и он повел ее за собой, ворча на нее по праву старшего и радуясь тому, что чувство отчужденности, которое было возникло у него к ребятам, как рукой сняло, и он вроде бы выздоравливает после какой-то липучей и длинной болезни.
Они зашли с Маруськой в библиотеку североморцев. Парень в картузе с «капустой» очень им обрадовался, дал Маруське пряников и чаю налил.
Пока Толя рассказывал о всех новостях детдомовских, Маруська разглядывала стеллажи с книгами. Маруське тут очень понравилось.
Домой они возвращались поздним вечером.
— Ой, Толька, смотри! — вдруг остановилась Маруська и показала рукой на небо.
В той стороне, где плавала днем лодка в синих волнах, небо высветилось, резко очертив горизонт. Северный край неба замерцал, зашевелился, стальные полосы покатились по нему, и чудилось, что они вот-вот тонко зазвенят.
Позари заиграли — северное сияние. Значит, в Ледовитом океане была еще зима, льды там горами дыбились, и оттуда, из безлюдных краев, из северной ночи, летел безмолвный яркий привет.
Все ребятишки высыпали из детдома. Запрокинув лица, они смотрели в небо. Тихо подошли Толя с Маруськой к дому и тоже стали глядеть на это дивное диво, которое они видели много раз и все же наглядеться на него не могли.
Всякий раз сияние было ново, всякий раз наполняло оно душу трепетом и захватывающим ожиданием чуда. Хотелось ребятам запомнить все, унести эти позари, волшебное ощущение, возникающее от колдовства их, навсегда с собою.
Да разве запомнишь? Разве унесешь?
Небо каждую минуту менялось. Оно безудержно щедро, ярко и волшебно. По нему плещутся бесшумные волны, отливая зеленью и бархатистой синевой. А над краем земли мраморные колонны встают, и все небо вокруг выстилается блестящими плитами. По плитам раскатываются льняные и ржаные снопы, струятся многоцветные шелка, и огромные прясла из алмазного частокола поднимаются звеньями у горизонта.
Где же тут все запомнишь? Все уместишь в сердце и в памяти?..
Вспомнится, может быть, детдомовской девчонке этот раскатившийся от одного и до другого края неба узорчатый половик в тот момент, когда она ступит в избу жениха на свадебную, праздничную дорожку. И эта алая лента с прожелтью, что змеится над самым лесом, дышит холодным пламенем, заалеет перед ее глазами, когда нареченный вплетет ей в волосы ленту грубоватыми и трепетными руками.
А может, этот многорядный строй стальных штыков, сейчас вот только остро проткнувший красное живое полотнище, воспрянет в памяти бойца, и в грозном солдатском строю на мгновение увидит он себя малого, голоухого в этом призрачном и сказочном далеке?..
И хотя в школе на уроках не раз и не два рассказывали ребятам учителя о северном сиянии, объясняли им, что оно такое, из чего получается, как и откуда, все равно они воспринимали его с чувством первородности, все равно их охватывала благоговейная тревога. Как далекие их предки, может быть, совсем-совсем далекие, только-только еще начинавшие осмысливать себя и жизнь, первобытные люди, выползшие из каменных пещер, так же вот стояли ребятишки, запрокинув лица в небо, не в силах оторвать глаз от него, забыв обо всем на свете.
Они не дышали, пораженные загадочностью и могуществом того мира, который им предстояло открыть.
А открывши — жить в нем.















